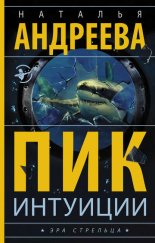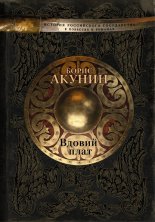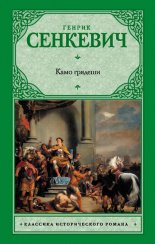Женщина французского лейтенанта Фаулз Джон

– Она говорит по-французски?
Тревога, с какой миссис Поултни восприняла столь пугающее известие, едва не похоронила все надежды викария. Но он с поклоном учтиво улыбнулся.
– Дорогая мадам, как практически все гувернантки. Не их вина, что миру требуются такие навыки. Но вернемся к французу. Я сожалею, но он не заслужил таких слов.
– Мистер Форсайт!
Она привстала, но не слишком резко, чтобы ее визави не проглотил язык.
– Спешу добавить, что ничего неприличного в доме капитана Талбота не случилось. Как и впоследствии, если говорить о поведении мисс Вудраф. В этом меня заверил мистер Фурси-Харрис, знающий все обстоятельства гораздо лучше меня. – Он имел в виду чармутского викария. – Но француз сумел пробудить к себе чувства мисс Вудраф. Когда его нога зажила, он добрался в экипаже до Уэймута, а оттуда, как считают, уже до дома. Через два дня после его отъезда мисс Вудраф настоятельным образом попросила миссис Талбот ее отпустить. Та, насколько мне известно, пыталась добиться каких-то разъяснений, но безуспешно.
– И она ее отпустила без рекомендательного письма?
Викарий зацепился за этот шанс.
– Я с вами согласен, это было необдуманное решение. Другой работодатель на ее месте не совершил бы такого печального поступка. – Он взял паузу, давая миссис Поултни возможность оценить скрытый комплимент. – Одним словом, мисс Вудраф встретилась с французом в Уэймуте. Ее поведение, безусловно, заслуживает осуждения, но, как мне сообщили, она там поселилась вместе со своей кузиной.
– В моих глазах это ее не извиняет.
– Разумеется. Но вы должны помнить, что она не аристократка по рождению. Низшие классы не так задумываются о приличиях, как мы с вами. А кроме того, я пропустил важную деталь: француз поклялся ей в верности. Мисс Вудраф отправилась в Уэймут в полной уверенности, что ее ждут брачные узы.
– Разве он не католик?
Миссис Поултни видела себя этаким невинным островом Патмос[22] в бурном океане папства.
– Боюсь, что его поведение доказывает отсутствие какой-либо христианской веры. Но он, надо думать, представлялся ей несчастным единоверцем в своей заблудшей стране. Вскоре после их встречи он отбыл во Францию, пообещав мисс Вудраф – после свидания с семьей и получения нового корабля (очередная ложь, что его сделают капитаном) – вернуться в Лайм, заключить брак и увезти ее с собой. С тех пор она его ждет. Совершенно ясно, что этот человек – бездушный обманщик. Я не сомневаюсь, что он рассчитывал надругаться над ней в Уэймуте. А когда ее строгие христианские принципы показали ему тщетность его намерений, он уплыл восвояси.
– А что стало с ней? Едва ли миссис Талбот взяла ее обратно.
– Миссис Талбот, дама эксцентричная, сделала ей такое предложение. Но тут я подхожу к печальному завершению этой истории. Мисс Вудраф не сумасшедшая. Даже близко. Она в состоянии выполнять любые поручения. Но она страдает острыми приступами меланхолии. Отчасти это, конечно, связано с угрызениями совести. Но также, боюсь, с ее устойчивым заблуждением, что лейтенант достойный человек и что однажды он к ней вернется. По этой причине ее часто можно видеть на берегу нашего залива. Мистер Фурси-Харрис постарался показать ей всю безнадежность, чтобы не сказать неуместность, такого поведения. Не хочется заострять на этом внимание, мадам, но женщина немного не в себе.
Повисло молчание. Викарий вверил себя языческому божку, то бишь отдался на волю случая. Он понимал, что миссис Поултни просчитывает варианты. При ее самомнении она обязана была изобразить состояние шока и тревоги по поводу самой идеи пустить в «дом Марлборо» такую особу. Но нельзя сбрасывать со счетов Божий промысел.
– У нее есть родственники?
– Нет, насколько мне известно.
– На что же она жила, с тех пор как…
– Как-то перебивалась. Занималась рукоделием. Кажется, миссис Трантер иногда ей что-то заказывала. Но в основном жила на прежние сбережения.
– Вот, значит, что ее спасло.
Викарий сделал глубокий вдох.
– Если вы, мадам, ее к себе возьмете, то тогда можно будет считать, что она спасена. – Он выложил свою козырную карту. – И, быть может, – хотя не мне судить, что мучает вашу совесть, – она, в свою очередь, спасет вас.
Миссис Поултни вдруг посетило ослепительное небесное видение: леди Коттон со своим праведным вывихнутым носом. Она, нахмурившись, уставилась на ковер с длинным ворсом.
– Пусть мистер Фурси-Харрис ко мне заглянет.
И через неделю он заглянул, вместе с местным викарием, пригубил мадеру и высказался – но при этом, по совету духовного коллеги, о чем-то умолчал. Миссис Талбот предоставила длиннющее рекомендательное письмо, принесшее больше вреда, чем пользы, поскольку оно вызывающим образом не осудило в полной мере поведение гувернантки. Одна фраза особенно возмутила миссис Поултни. «Месье Варгенн был человеком большого обаяния, а еще капитан Талбот просил вам сказать, что жизнь моряка – не лучшая школа высокой морали». Она безо всякого интереса отнеслась к тому, что мисс Сара «знающая и ответственная учительница», а также к словам «моим детям ее очень не хватает». Однако очевидная заниженность стандартов и глупая сентиментальность миссис Талбот в конечном счете сыграли Саре на пользу – миссис Поултни восприняла это как вызов.
Итак, Сара пришла на интервью в сопровождении викария. С первой минуты миссис Поултни в глубине души почувствовала к ней расположение: такая поникшая, отверженная в силу обстоятельств. Выглядела подозрительно на свой возраст – скорее двадцать пять, чем «тридцать или чуть больше». Печаль в глазах явственно указывала – грешница, а ни с кем другим миссис Поултни, собственно, и не желала иметь дело. Сдержанность девушки она интерпретировала как молчаливую благодарность. Больше всего, помня всех рассчитанных домочадцев, пожилая дама не выносила дерзости и рвения, что, как подсказывал ей опыт, приводило к двоякому результату: человек заговаривал первым и предвосхищал ее требования, что лишало ее удовольствия строго спросить с подчиненного, почему он их не угадывает.
По совету викария миссис Поултни продиктовала Саре письмо. Почерк великолепный, орфография безупречная. За этим последовал более хитрый тест. Она протянула девушке Библию и приказала прочитать. При выборе отрывка пришлось поломать голову; миссис Поултни разрывалась между Псалмом 118 («Блаженны непорочные») и Псалмом 139 («Избавь меня, Господи, от человека злого»). В конце концов она остановилась на первом, и при этом ее интересовала не только звучность голоса, но и малейшие признаки того, что девушка не принимает слова псалмопевца близко к сердцу.
Голос был твердым и довольно глубоким. В нем чувствовался деревенский акцент, но в то время дворянское произношение еще не стало важным социальным атрибутом. Да в Палате лордов какой-нибудь герцог мог сохранять провинциальный акцент, и это не роняло его в глазах окружающих. Возможно, Сарин голос понравился миссис Поултни по контрасту с обескураживающими спотыканиями миссис Фэйрли. Он ее даже очаровал, как и подача, с которой девушка прочла: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»
Затем последовал небольшой допрос.
– Мистер Форсайт сообщил мне, что вы сохраняете привязанность к иностранцу.
– Я не хочу об этом говорить, мэм.
Если бы другая служанка осмелилась сказать ей в лицо такое, на нее обрушился бы Dies Irae[23]. Но это было сказано открыто, бесстрашно и уважительно, и миссис Поултни – редчайший случай! – не воспользовалась прекрасным поводом поставить на место бесстыдницу.
– Я не позволю держать в моем доме французские книжки.
– У меня их нет. Как и английских, мэм.
Книг у нее не было, позволю себе добавить, так как ей пришлось все продать, и не потому, что она была предтечей одиозного Маклюэна[24].
– Но Библия-то у вас есть?
Девушка покачала головой. Викарий счел нужным вмешаться.
– Это, дорогая миссис Поултни, я возьму на себя.
– Я слышала, что вы постоянно посещаете богослужение.
– Да, мэм.
– Продолжайте. Господь утешает нас в беде.
– Я стараюсь разделять вашу веру, мэм.
И тогда миссис Поултни задала самый трудный вопрос, который викарий просил ее не задавать.
– Что будет, если этот… человек… вернется?
Но Сара вновь поступила наилучшим образом: ничего не ответила, просто покачала опущенной головой. А миссис Поултни, испытывавшая к девушке все большую симпатию, истолковала это как молчаливое раскаяние.
И она совершила благодеяние.
Она даже не подумала спросить Сару, которая отказалась пойти работать к не столь суровым христианам, как миссис Поултни, почему девушка выбрала именно ее дом. На это было два простых ответа. Во-первых, из «дома Марлборо» открывался великолепный вид на бухту Лайм. А второй был еще проще. У нее в кармане оставалось семь пенсов.
7
Чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности… дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.
Карл Маркс. Капитал (1867)
Сэм раздвинул шторы, и утро затопило Чарльза, а в это время миссис Поултни, еще посапывавшая во сне, грезила о том, как ее затопит райское сияние после необходимой священной паузы, когда она отдаст Богу душу. Раз десять в году мягкий дорсетский климат выдает такие дни – не просто приятные, не по сезону, а с роскошным средиземноморским теплом и разливанным светом. И тогда Природа немного сходит с ума. Пауки, выйдя из зимней спячки, бегают по нагретым ноябрьским скалам, в декабре начинают петь дрозды, в январе расцветают примулы, а март изображает из себя июнь.
Чарльз сел в кровати, сорвал с головы ночной колпак, приказал Сэму распахнуть окна и, опираясь на отставленные назад руки, смотрел, как солнечный свет заливает комнату. Легкое уныние, овладевшее им накануне, унеслось вместе с облаками. Он чувствовал, как теплый весенний воздух ласкает кожу там, где распахнулась ночная рубаха, и поднимается к открытому горлу. Сэм стоя правил бритву, и пар поднимался соблазнительными клубами, вызывая у Чарльза цепочку богатых воспоминаний в духе Пруста: счастливые деньки, прочные позиции, порядок, покой, цивилизация, – и все это льется из медного кувшина с водой. По уличной брусчатке мирно процокала лошадка в сторону моря. Порыв ветра всколыхнул уже далеко не новые красные атласные занавески. Но даже они казались красивыми в этом освещении. Все было лучше некуда. Это мгновение распространится на весь мир и на целую жизнь.
Раздался дробный стук маленьких копытцев вперемежку с беспокойным «мэ-э-э». Чальз встал и подошел к окну. Два старика в гофрированных холщовых халатах вели о чем-то беседу. Один из них, пастух, опирался на посох. Дюжина овец и целое стадо ягнят нервно топтались посреди улицы. Подобные сельские персонажи выглядели живописно в 1867 году, хотя не были такой уж редкостью; в каждой деревне нашлось бы несколько таких вот старичков в халатах. Чарльз даже посетовал, что он не художник. В загородной жизни все-таки есть своя прелесть. Он повернулся к слуге.
– Клянусь тебе, Сэм, в такой день глаза бы мои не видели Лондона.
– Если еще п’стоите у открытого окна, сэр, то ’днозначно не увидите.
Хозяин осадил его взглядом. За четыре года вместе они узнали друг друга лучше, чем иные партнеры по бизнесу.
– Сэм, ты опять наклюкался.
– Нет, сэр.
– Новая комната тебе больше нравится?
– Да, сэр.
– А удобства?
– А че, сэр, меня устраивают.
– Quod est demonstrandum[25]. В такое утро даже скупец запел бы от радости, а ты не в духе. Ergo[26], ты пил.
Сэм проверил своим коротким большим пальцем опасно наточенную бритву с таким выражением, как будто он сейчас полоснет себя по горлу, – а может, и не себя, а своего ухмыляющегося хозяина.
– Эт ’на, кухарка миссис Трантер, сэр. Я не с’бираюсь…
– Будь добр, положи этот инструмент. И объясни, что ты там увидел.
– Эт ’на, стоит напротив. – Он ткнул пальцем в окно. – И раз’ряется!
– Да? А поконкретнее?
Сэм все больше закипал.
– «Гоните сажу!»… сэр, – закончил он угрюмо.
Чарльз улыбнулся.
– Я ее знаю. В сером платье? Такая дурнушка.
Вообще-то она этого не заслуживала. Не перед ней ли, хорошенькой и молоденькой, он с готовностью приподнял цилиндр накануне?
– Какая ж она дурнушка. Очень даже ничего.
– Ага. Значит, Купидон несправедлив к кокни.
Сэм бросил в его сторону негодующий взгляд.
– Да я к ней не п’дойду на пушечный выстрел! Коровница, блин!
– Я так понимаю, Сэм, что ты ее сравнил с блинчиком. Не зря ты мне клялся и не раз, что родился в пивной.
– П’соседству, сэр.
– Очень близкое соседство, я бы сказал. Мог бы и не употреблять этих слов в такое утро.
– А че она разоряется на всю улицу?
Так как «вся улица» сводилась к двум старикам, из которых один был к тому же глухой, Чарльз соблаговолил улыбнуться и жестом показал, чтобы Сэм налил ему горячей воды.
– Принеси-ка мне завтрак, дружище. Я сам побреюсь. Кексов двойную порцию.
– Да, сэр.
Сэм не успел дойти до двери, как в спину ему нацелилась кисточка для бритья.
– Местные девицы слишком робкие, чтобы хамить столичным джентльменам… ну разве что их сильно разозлить. Сэм, я подозреваю, что ты все-таки приложился.
У слуги отвисла челюсть.
– А если ты не приложишь усилий насчет моего завтрака, то я приложу ботинок к твоей недостойной лучшего филейной части.
Дверь за ним закрылась, и не то чтобы очень вежливо. Чарльз подмигнул себе в зеркале. А потом вдруг добавил своему лицу еще десяток лет: такой серьезный, хотя еще молодой, отец семейства… снисходительно улыбнулся этим гримасам и общей эйфории – и замер, очарованный собственными чертами лица. Они были в самом деле очень правильными: широкий лоб, усы черные, как и волосы, взъерошенные после сдернутого ночного колпака, отчего он казался еще моложе. Кожа в меру бледная, хотя и недотягивала до бледности многих лондонских джентльменов, а не надо забывать, что в ту пору загар не считался желаемым символом социального и сексуального статуса, скорее наоборот, указывал на принадлежность к низшим классам. Если присмотреться, то в данную минуту лицо выглядело несколько глупым. Его снова накрыла легкая волна вчерашней хандры. Слишком невинное лицо, если с него снять показную маску; особенно нечем похвастаться. Разве что дорическим носом и холодными серыми глазами. Воспитание и самопознание – что есть, то есть.
Он стал замазывать это двусмысленное лицо кремом для бритья.
Сэм был моложе его лет на десять. Слишком юный для хорошего слуги и к тому же рассеянный, самодовольный, тщеславный, высокого мнения о своих умственных способностях. Любитель повалять дурака, он прохаживался с соломинкой или веточкой петрушки в уголке рта; хозяин сверху пытался до него докричаться, а он в это время изображал из себя лошадника или ловил воробья с помощью сита.
Естественно, для нас любой слуга-кокни по имени Сэм сразу вызывает в памяти бессмертного Уэллера[27], и этот Сэм явился на свет явно с его подсказки. С тех пор как «Пиквикские записки» заблистали в этом мире, прошло уже тридцать лет. Любовь Сэма к парнокопытным не была такой уж глубокой. Его скорее можно сравнить с нынешним работягой, который считает, что способность разбираться в автомобилях свидетельствует о его социальной продвинутости. Он даже знал про Сэма Уэллера, правда не из книги, а из сценической версии, как знал и то, что с тех пор многое изменилось. Его поколение кокни было выше всего этого, и если он частенько заглядывал в конюшню, то исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое превосходство провинциальным конюхам и мальчикам на побегушках.
Середина века столкнулась с новыми денди на английской сцене – аристократами прежнего образца, бледнолицыми наследниками «красавчиков Браммела»[28], также известными как «шишки». Но в умении одеваться с ними вступили в состязание новоявленные преуспевающие ремесленники и пробившиеся наверх слуги вроде Сэма. «Шишки» называли их «снобами», и Сэм был отличным примером такого сноба, в узком смысле этого слова. Он обладал обостренным чувством стиля одежды, не хуже, чем «моды» 1960-х, и тратил большую часть заработанных денег на модные тряпки. А еще он демонстрировал свою принадлежность к новому классу, добиваясь правильной речи.
В 1870 году пресловутая неспособность Сэма Уэллера произносить «v» вместо «w», что на протяжении веков выделяло лондонского простолюдина, вызывала одинаковое презрение как у снобов, так и у буржуазных романистов, которые по привычке и без должных оснований еще какое-то время вставляли этот изъян в речь своих персонажей кокни. Если говорить о снобах, то они больше воевали против придыхательного согласного звука; в случае с Сэмом эта борьба была особенно отчаянной и в основном безнадежной. А его неправильное употребление всех этих «a» и «h» было не столько комичным, сколько знаком социальной революции, что Чарльз просто не осознавал.
Возможно, это происходило потому, что Сэм давал ему нечто очень важное в его жизни – ежедневную возможность поболтать, вспомнить о своем школьном прошлом, а в процессе, так сказать, экскретировать характерное и довольно жалкое пристрастие к каламбурам и намекам, этой разновидности юмора, базирующейся с какой-то отталкивающей изысканностью на образовательном превосходстве. Но при том что позиция Чарльза выглядела как дополнительное оскорбление и без того вызывающей эксплуатации, справедливости ради отметим, что его отношение к Сэму отличалось приязненностью, между ними существовала человеческая связь, и это было куда лучше ледяного барьера, который нувориши в век повального обогащения воздвигали между собой и своей домашней челядью.
Понятно, что за спиной у Чарльза было не одно поколение держателей прислуги; что же касается нуворишей, то многие из них были детьми лакеев. Если он не мог себе представить мир без слуг, то эти люди могли, что делало их особенно придирчивыми. Они старались превратить своих слуг в автоматы, тогда как для Чарльза слуга был одновременно компаньон, его Санчо Панса, персонаж низкой комедии, дополняющий его высокие чувства перед Эрнестиной-Дульсинеей. Иными словами, он держал Сэма, потому что тот его забавлял, а не потому, что под рукой не было «автоматов» получше.
Разница же между Сэмом Уэллером и Сэмом Фарроу (то есть между 1836-м и 1867-м) заключалась в следующем: первый был доволен своей ролью, а второй от нее страдал. Сэм Уэллер на такое требование сажи дал бы словесную отповедь. Сэм Фарроу остолбенел, вздернул брови и удалился.
8
Альфред Теннисон. In Memoriam
- Где лес – морская гладь была.
- Земля, как твой изменчив вид!
- Где площадь людная шумит,
- Там гордо высилась скала.
- Холмы тенями убегают.
- Ничто не устоит в веках.
- Провалов много в облаках —
- Материки не так же ль тают?
Если же вы хотите жить в праздности и чтобы вас при этом уважали, то лучше всего сделать вид, что вы заняты серьезным исследованием…
Лесли Стивен. Кембриджские заметки (1865)
Не только Сэм был мрачен в то утро. Эрнестина проснулась с таким настроением, которое многообещающий яркий день лишь усугубил. Ее нездоровье было в порядке вещей, но важно оградить от этого Чарльза. Поэтому, когда он в десять утра, как штык, поднялся на крыльцо, его встретила тетушка Трантер словами, что Эрнестина неважно провела ночь и нуждается в отдыхе. Может, он заглянет на файф-о-клок? К тому времени она наверняка придет в себя.
Его заботливые предложения вызвать врача были вежливо отклонены, и он ушел. Приказав Сэму купить побольше цветов и отнести их в дом очаровательной больной, с разрешением и даже советом вручить цветочек-другой от себя молодой особе, недолюбливающей сажу, за что ему предоставляется свободный день (не все викторианские хозяева были ярыми сторонниками коммунизма), Чарльз оказался предоставлен самому себе.
С выбором дело обстояло просто. Само собой, он был готов сопровождать Эрнестину куда ей заблагорассудится, но надо признать, что поскольку речь шла о Лайм-Риджисе, то он с особым удовольствием выполнял свои предсвадебные обязанности. Стоунбэрроу, Блэк Вен, Уэйрские утесы – эти названия вам, вероятно, ни о чем не говорят. Но дело в том, что Лайм находится в самом центре отложений редкого камня, известного как голубой леас. Обычному праздному гуляке он не покажется интересным. Угрюмого серого цвета, по текстуре застывшая грязь, он скорее отвращает, чем радует глаз. А еще он губителен – слои хрупки, склонны к обвалу, так что не случайно за всю историю человечества эта двенадцатимильная полоса голубого леаса отдала морю больше суши, чем другие уголки Англии. Зато богатая ископаемыми и подвижная порода стала Меккой для британского палеонтолога. За последние сто лет, если не больше, самым распространенным животным на этом побережье стал человек, орудующий молотком геолога.
Чарльз уже побывал, пожалуй, в наиболее известной местной лавке тех дней – «Допотопные окаменелости», открытой несравненной Мэри Эннинг, женщиной без систематического образования, но обладавшей природным гением обнаруживать великолепные – и во многих случаях дотоле неизвестные – экземпляры. Она первая нашла кости Ichthyosaurus platyodon[29], и, хотя многие ученые того времени с благодарностью использовали ее открытие для продвижения собственной репутации, одной из самых позорных страниц британской палеонтологии остается то, что ни один вид этого ископаемого животного не носит ее имя. Чарльз отдал дань памяти этому выдающемуся местному открытию – а также свою наличность на приобретение различных аммонитов[30] и Isocrina[31], которые украшали рабочие шкафы в его лондонском кабинете. Но его постигло одно разочарование: он тогда специализировался на особи, которая была плохо представлена в лавке допотопных окаменелостей.
Речь об echinoderm’е, или окаменелых морских ежах. Иногда мы их называем «тестами» (от латинского testa, керамический или глиняный горшок), а американцы – песочными долларами. Тесты отличаются формой, но при этом все идеально симметричны, а объединяет их узор из изящных шипованных полосок. Помимо научной ценности (серия образцов с мыса Бичи Хед, взятая в начале 1860-х, стала одним из первых практических подтверждений теории эволюции), они хороши сами по себе, а дополнительное очарование им придает тот факт, что их довольно трудно обнаружить. Вы можете потратить впустую несколько дней, а если вам посчастливится в одно прекрасное утро найти два-три экземпляра, это запомнится надолго. Возможно, подсознательно это и привлекало Чарльза, палеонтолога-любителя, располагавшего свободным временем. Им, конечно, двигали научные интересы, и вместе с такими же коллегами-любителями он возмущался тем, что морских ежей «незаслуженно игнорируют», – удобное оправдание для многочисленных часов, потраченных на такое узкое направление. Но какими бы ни были его мотивы, он отдал тестам свою душу.
Сегодня тест извлекают не из голубого леаса, а из верхних кремниевых слоев, и хозяин лавки окаменелостей посоветовал Чарльзу делать раскопки на западной окраине города, а не на самом берегу. И вот, спустя полчаса после визита к тетушке Трантер, он уже снова был на мысе Кобб.
В этот день большой мол совсем не выглядел пустынным. Рыбаки смолили лодки, чинили сети, лудили оловянные ведерки для крабов и лобстеров. Состоятельные люди из местных, ранние посетители, прогуливались вдоль волнующегося, но уже куда более спокойного моря. Одинокой женщины, вглядывающейся в горизонт, он не заметил. Впрочем, ему было не до нее и не до Кобба; быстрым пружинистым шагом, столь отличным от его обычной вальяжной городской походки, он направился вдоль пляжа под Уйэрскими утесами к месту назначения.
Вы бы улыбнулись, увидев его экипировку. Тяжелые кованые ботинки и полотняные гетры поверх норфолкских бриджей из плотной фланели. К этому прилагались узкий и до абсурдного длинный сюртук, широкополая фетровая шляпа неопределенного бежеватого цвета, громоздкий аппарат золоудаления, купленный им по дороге к Коббу, и объемистый рюкзак, из которого при желании можно было вытряхнуть тяжелую коллекцию молотков, намоток, записных книжек, коробочек для пилюль, тесел и бог знает чего еще. Педантизм викторианцев не укладывается у нас в голове. Лучше всего (и нелепее) он предстает в советах, щедро раздаваемых путешественникам в ранних изданиях Бедекера. А что, простите, остается им для удовольствия? Если же вернуться к Чарльзу, то неужели он не понимал, что легкая одежда была бы куда удобнее? Что шляпа ему не нужна? Что тяжелые кованые ботинки на пляже, усеянном камнями, так же полезны, как коньки?
Мы смеемся. Но, вероятно, есть нечто достойное восхищения в несовместимости того, что по-настоящему комфортно, и того, что нам настоятельно рекомендуют. Мы снова видим это яблоко раздора между двумя столетиями: должны ли мы руководствоваться долгом[32] или нет? Если расценивать этот пунктик по поводу одежды на все случаи жизни как обычную глупость и игнорирование эмпирического познания, то мы совершим серьезную – или скорее легкомысленную – ошибку в отношении наших предков; именно люди вроде Чарльза, избыточно одетые и перегруженные, заложили основы современной науки. Их чудаковатые поступки были проявлением их серьезности в куда более важной составляющей. У них было ощущение, что общественные оценки неадекватны, что их окна реальности замазаны условностями, религиозной догмой, социальной стагнацией; короче, они понимали, что без новых открытий не обойтись, они будут определять будущее человека. Нам-то кажется (если, конечно, мы не работаем в исследовательской лаборатории), что никакие открытия нам не нужны и важно только одно: настоящее человека. Вот и славно? Возможно. Только судьями в конечном счете быть не нам.
Так что я не склонен потешаться над тем, что Чарльз, работая молотком и пытаясь в энный раз пробить между валунами выемку пошире, поскользнулся и шлепнулся на спину. Его это, кстати, не обескуражило – прекрасный день, леасовые окаменелости в избытке, и он совершенно один.
Море сверкает, покрикивают кроншнепы. Впереди него, словно оповещая всех о его приближении, летела стая сорочаев, черных, белых и кораллово-красных. При виде соблазнительных заводей в мозгу пронеслись еретические мысли: может, было бы веселее… стоп, стоп, полезнее с точки зрения науки… заняться морской биологией? Уехать из Лондона, поселиться в Лайме… нет, Эрнестина никогда этого не допустит. А потом, приятно отметить, случилось нечто по-человечески подкупающее: Чарльз поозирался и, убедившись в том, что его никто не видит, аккуратно снял тяжелые ботинки, гетры и чулки. Он повел себя как школьник и даже попытался вспомнить строчку из Гомера, что придало бы моменту классический оттенок, но тут он отвлекся, так как надо было поймать бегущего бдительного крабика, которого накрыла гигантская тень.
Возможно, вы презираете Чарльза за этот громоздкий аппарат золоудаления не меньше, чем за его неспособность определиться со специализацией. Но вы должны при этом помнить, что естествознание в то время не носило того уничижительного оттенка, как в наши дни, когда оно воспринимается как бегство от реальности – и зачастую в сантименты. Чарльз, если на то пошло, был довольно компетентным орнитологом и ботаником. Вероятно, было бы лучше, если бы он закрыл глаза на все, кроме ископаемых морских ежей, или посвятил свою жизнь водорослям, если уж мы заговорили о научном прогрессе. Но подумайте о Дарвине, о «Путешествии вокруг света на корабле «Бигль». «Происхождение видов» – это триумф обобщений, а не специализации, и даже если вы мне докажете, что для Чарльза, неодаренного ученого, второе было бы предпочтительнее, я все равно буду настаивать, что первое лучше для него как для человека. Дело не в том, что любители могут себе позволить заниматься чем угодно; они должны заниматься чем угодно, и к черту ученых резонеров, которые их загоняют в oubliette[33].
Чарльз называл себя дарвинистом, хотя толком дарвинизм не понимал. А разве Дарвин себя понимал? Этот гений перевернул Scala Naturae, «лестницу природы» Линнея, чьим главным постулатом, столь же важным, как божественность Христа для теологии, было nulla species nova: для новых видов мир закрыт. Этот принцип объясняет, почему Линней был так одержим классифицированием и присваиванием имен, – он все живое превращал в окаменелость. Сегодня это воспринимается как заведомо обреченные попытки стабилизировать и зафиксировать все, что в действительности находится в непрерывном движении, и нет ничего удивительного в том, что Линней под конец сошел с ума: он оказался в лабиринте, но не в том, который вечно обновляется. Даже Дарвин сбросил с себя не все шведские оковы, так вправе ли мы обвинять Чарльза за мысли, когда он, задрав голову, разглядывал слои леаса на скалах?
Зная, что nulla species nova – полная чушь, тем не менее он видел в этих геологических слоях обнадеживающий знак упорядоченного существования. Возможно, издалека просматривался социальный символизм в том, как крошились серо-голубые уступы; по сути же он видел, как возносится время, в котором непреложные законы (и, следовательно, благодатные в своей божественности, ибо кто будет спорить с тем, что порядок не есть высшая человеческая ценность?) весьма удобно сочетаются с выживанием самых лучших и наиболее приспособляемых – exemplia gratia[34] Чарльз Смитсон, в прекрасный весенний день, наедине с природой, энергичный и пытливый, понимающий и принимающий, наблюдательный и благодарный. Не хватало только вывода о крушении «лестницы природы»: если новые виды могут появляться, то старые нередко должны уступать им дорогу. Вымирание индивида для Чарльза, как и для любого викторианца, не составляло секрета. А вот общее вымирание… этой концепции в его сознании не было, как не было ни одного облачка у него над головой, хотя вскоре, после того как он снова натянул на себя чулки, гетры и ботинки, он держал в руках очень конкретное тому подтверждение.
Это был замечательный кусок леаса с аммонитовыми вкраплениями, изысканно светлый, микрокосм макрокосма, крученой галактики, которая прошлась своим колесом по десятидюймовой породе. Должным образом надписав ярлык – дата, место обнаружения, – он мысленно перескочил с научной темы на любовную. Он решил, что подарит этот камень Эрнестине. Такая красота не может ей не понравиться, к тому же очень скоро камень к нему вернется вместе с ней. А дополнительный груз за спиной лишь придавал веса его подарку. Долг, в приятном соответствии с течением эпохи, горделиво встрепенулся.
Как встрепенулось и его внимание: кажется, он замешкался. Чарльз расстегнул сюртук и достал серебряный брегет с отверстием в крышке. Уже два часа! Он резко развернулся и увидел, что волны уже перекатывают через мыс в миле от него. Опасность быть отрезанным от суши ему не грозила, так как вверх, на утес, и дальше, к густому лесу, уходила крутая, но безопасная тропа. А вот вернуться по берегу он уже не мог. Ничего, бодрым шагом в горку, где просматриваются кремневые образования. В наказание за свою мешкотность он взял слишком быстрый темп, и пришлось на минутку присесть, чтобы отдышаться. Под чертовой фланелью обильно струился пот. Тут он услышал рядом журчание ручья и утолил жажду, а потом намочил носовой платок и протер лицо. Он стал озираться вокруг.
9
Мэтью Арнольд. Прощание (1853)
- Узреть я в сердце том не мог
- Любви несдержанной и знойной;
- Но был в нем светлячок-дичок,
- Неприрученный, беспокойный.
Я привел две самые очевидные причины, почему Сара Вудраф пришла наниматься на работу к миссис Поултни. Но вообще-то она не привыкла разбираться в причинах, даже на инстинктивном уровне, и на самом деле их могло быть больше, и наверняка было, поскольку ей ли не знать о репутации этой особы в не столь просвещенных milieux[35] города Лайма. Поколебавшись один день, она пошла за советом к миссис Талбот, даме с добрым сердцем, но не особо проницательной. Хотя она была не прочь снова взять в дом Сару и даже твердо пообещала ей это сделать, но понимала, что девушка в данный момент не способна уделять должное внимание исполнению обязанностей гувернантки. Однако при этом горела желанием ей помочь.
Она знала, что Саре грозит нужда, и по ночам, лежа без сна, рисовала себе картины из романтической литературы своей юности: сцены с истощенными от голода героинями, которые падают на заснеженные ступеньки незнакомого дома или мучаются от лихорадки на голом протекающем чердаке. Но один образ – непосредственная иллюстрация к поучительному рассказу миссис Шервуд[36] – воплощал ее худшие страхи: убегающая от преследования женщина прыгает со скалы. Вспышка молнии высвечивает буйные головы ее преследователей. Но страшнее всего этот душераздирающий ужас на бледном лице обреченной жертвы и взметнувшийся к небу ее черный просторный балахон – крыло падающей, обреченной на смерть вороны.
В общем, миссис Талбот умолчала о своих сомнениях по поводу миссис Поултни и посоветовала Саре поступить к ней на службу. Бывшая гувернантка на прощание расцеловала маленького Пола и Вирджинию и пешком вернулась в Лайм, как приговоренная. Вердикт миссис Талбот ею под сомнение не ставился – так и должна поступать умная женщина, доверяющая женщине глупой, пусть и с добрым сердцем.
Сара была умна, но по-своему; это был не тот ум, который обнаруживают современные тесты. Не аналитический, не направленный на решение проблем, поэтому симптоматично, что ей никак не давался один предмет – математика. Отсутствовали и такие проявления, как живость ума или остроумие, даже когда все у нее было отлично. Речь больше идет о невероятной – для человека, никогда не бывавшего в Лондоне, не выходившего в свет – способности оценивать других людей, понимать их в самом глубоком значении этого слова.
Она была своего рода психологическим эквивалентом опытного барышника с его способностью навскидку отличить хорошую лошадь от плохой; или, если перенестись в наше время, с самого рождения у нее было не сердце, а компьютер. Я говорю «сердце», поскольку ценности, которые она просчитывала, относились скорее к нему, чем к голове. Она сразу улавливала претенциозность пустого аргумента, ученую фальшь, пристрастную логику, но были и более тонкие заходы в человеческую душу. Не умея это объяснить, сродни компьютеру, не способному объяснить, как он работает, она видела людей такими, какие они есть, а не какими хотят казаться. Сказать, что она была хорошим моральным судьей, недостаточно. Ее проницательность выглядела куда шире, и если бы все сводилось только к морали, она бы не вела себя подобным образом; простой пример: она не поселилась бы в Уэймуте с кузиной.
Эта инстинктивная глубина прозрения стала первым ее проклятием, а вторым – образованность. Нельзя сказать, что ее образование отличалось особой глубиной, типичное для третьеразрядной женской семинарии в Эксетере, где днем она училась, а вечерами – иногда за полночь – оплачивала учебу, выполняя всякий ручной труд, например штопку. С другими ученицами отношения у нее не складывались. Они смотрели на нее сверху вниз, а она – сквозь них, наверх. В результате она прочла гораздо больше беллетристики и поэзии, чем ее сверстницы. Книжки замещали ей жизненный опыт. Она неосознанно судила людей не только эмпирически, но и по стандартам Вальтера Скотта и Джейн Остин, видя в окружающих литературных персонажей и давая им поэтическую оценку. Но, увы, то, чему она себя обучила, в значительной степени перечеркивалось тем, чему ее учили. Приобретя лоск настоящей дамы, она сделалась идеальной жертвой кастового общества. Родной отец изгнал ее из низшего общества, но не сумел поднять до высшего. Для молодых людей покинутого ею класса она была слишком рафинированной, чтобы на ней жениться; а для тех, к кому тянулась, она оставалась слишком простецкой.
Ее отец, которого викарий Лайма описывал как «человека высоких принципов», на самом деле был полной противоположностью, средоточием худших качеств. Свою единственную дочь он послал в школу-пансион, движимый не заботой, а помешанностью на предках. Четыре поколения назад, по отцовской линии, в его роду прослеживались настоящие дворяне. Там даже была какая-то отдаленная родственная связь с семейством Дрейка, и с годами этот несущественный факт перерос в твердое убеждение, что он прямой потомок сэра Фрэнсиса. Его предок определенно когда-то владел поместьем в ничейной зеленой полосе между Дартмуром и Эксмуром. Сарин папаша три раза ездил, чтобы убедиться в этом своими глазами, и каждый раз возвращался на свою маленькую ферму, арендованную в обширных угодьях Меритона, чтобы предаваться размышлениям, что-то планировать и о чем-то мечтать.
Наверное, он испытал разочарование, когда его дочь, вернувшись домой из школы-пансиона в восемнадцать лет (кто знает, на какой чудесный дождь, который на него прольется, он рассчитывал), сидела напротив, за столом из вяза, и слушала его хвастливые речи, поглядывая на отца с тихой сдержанностью, что его только распаляло еще больше, распаляло, как совершенно бесполезное механическое устройство (ведь он родился в Девоне, где деньги для мужчины значат все), и распалило до того, что он в конце концов свихнулся. Он отказался от аренды и купил собственную ферму, но уж очень дешевую, и отличная, на первый взгляд, сделка оказалась совершенно провальной. Несколько лет он бился, пытаясь справиться с закладной и сохранить нелепый аристократический фасад, пока окончательно не свихнулся и не был отправлен в дорчерстерский приют для умалишенных. Там он и умер год спустя. К тому времени Сара уже сама зарабатывала на жизнь – сначала в семье в том же Дорчерстере, поближе к отцу, а после его смерти заняла место гувернантки у Талботов.
Она была слишком хороша собой, чтобы не иметь кавалеров, невзирая на отсутствие приданого. Но при этом всегда включался ее инстинкт, он же проклятие – своих самоуверенных претендентов она видела насквозь: их низкие помыслы, их снисходительность, их подаяния, их глупости. И таким образом неизбежно приговаривала себя к участи, которой должна была избежать, следуя велению природы на протяжении миллионов лет: старая дева.
Представим себе невозможное: миссис Поултни составляла список плюсов и минусов новой гувернантки, как раз когда Чарльз совершал свои высоконаучные эскапады, отвлекаясь от обременительных обязанностей жениха. В принципе это не так уж невероятно, если учесть, что в то утро мисс Сары не было дома.
А чтобы себя порадовать, начнем с плюсов. Самый первый, вне всякого сомнения, был менее всего ожидаем в момент ее поступления на службу годом раньше. Хозяйка могла записать это так: «Улучшилась домашняя атмосфера». Поразительно, но факт: до появления Сары ни один слуга и ни одна служанка (статистически это больше относилось к последним) не ушли из этого дома по собственному желанию.
Удивительная трансформация началась однажды утром, всего через несколько недель после того, как мисс Сара принялась за дело, а именно взяла опеку над душой миссис Поултни. Пожилая дама с привычным для нее чутьем обнаружила непростительное служебное несоответствие: служанка, работающая на верхнем этаже, в чьи обязанности входило каждый вторник поливать папоротники в малой гостиной – один хозяйка держала у себя, а второй был для гостей, – этого не сделала. Папоротники смотрели по-зеленому снисходительно, в отличие от побелевшей миссис Поултни. Она вызвала к себе виновницу, которая покаялась в забывчивости. Хозяйка могла бы великодушно ее простить, однако за девушкой уже числились два или три других прегрешения. Пришло время похоронного колокола. И миссис Поултни с суровостью ретивого бульдога, готового вонзить зубы в лодыжки грабителя, ударила в колокол.
– Я многое готова вытерпеть, но только не это.
– Больше я такого не допущу, мэм.
– В моем доме точно уже не допустишь.
– О мэм. Прошу вас, мэм.
Миссис Поултни позволила себе несколько мгновений открыто и проникновенно понаслаждаться слезами жертвы.
– Миссис Фэйрли даст вам расчет.
Мисс Сара присутствовала при этом разговоре, поскольку перед этим хозяйка диктовала ей письма епископам… по крайней мере, в такой тональности обращаются к епископам. И тут она задала вопрос; эффект был примечательным. Начать с того, что она впервые задала вопрос, никак не связанный с ее служебными обязанностями. Во-вторых, он подспудно ставил под сомнение обвинительный приговор старой дамы. В-третьих, он был обращен не к хозяйке, а к девушке.
– Милли, вам плохо?
То ли на девушку подействовал участливый голос, то ли сказалось ее состояние, но она упала на колени и, отрицательно мотая головой, закрыла лицо руками, чем несколько обескуражила миссис Поултни. Мисс Сара поспешила присесть рядом и быстро убедилась, что девушка в самом деле нездорова: за прошедшую неделю она дважды падала в обморок, в чем побоялась кому-либо признаться…
Когда через некоторое время мисс Сара вернулась из комнаты прислуги, где она уложила Милли в постель, хозяйка, в свою очередь, задала ей ошеломляющий вопрос:
– И что же мне делать?
Мисс Сара заглянула ей в глаза и увидела в них то, что сделало последующие слова не более чем уступкой принятым условностям.
– Вам виднее, мэм.
Вот так редкий цветок – прощение – осторожно пустил корешок в «доме Марлборо». А когда врач осмотрел служанку и поставил ей диагноз «бледная немочь», миссис Поултни испытала извращенное удовольствие, оттого что проявила доброту. Позже случились еще инциденты, пусть не такие драматические, которые закончились подобным образом; всего один или два, поскольку Сара взяла на себя труд во всем разбираться самой, не доводя дело до кризиса. Разгадав хозяйку, она быстро научилась дергать ее за ниточки, как ловкий кардинал слабого папу, пусть и в более благородных целях.
Вторым, более ожидаемым пунктом в гипотетическом списке миссис Поултни был бы такой: «Ее голос». Если в житейских делах хозяйка дома явно недодавала своим слугам, то об их духовном здоровье она заботилась в полной мере. По воскресеньям им вменялось в обязанность дважды посещать церковь, и каждое утро дома проходила утренняя служба с псалмами, проповедями и молитвами под напыщенным присмотром старой дамы. Но вот ведь досада, даже ее самые суровые взгляды не приводили слуг в состояние абсолютной покорности и раскаяния, чего, по ее мнению, от них требовал Господь (не говоря уже о ней). Их лица скорее выражали страх перед ней и тупое непонимание, что делало их больше похожими на смешавшихся овец, чем на покаявшихся грешников. И все это изменила Сара.
Голос у нее был необыкновенно красивый, сдержанный и чистый, при этом отмеченный печалью и сильным внутренним чувством; но главное – искренний. И миссис Поултни, жившая в своем неблагодарном мирке, впервые увидела в лицах слуг неподдельное внимание, а временами даже одухотворенность.
Уже хорошо, но предстояло сделать еще шаг. Прислуге разрешалось произносить вечерние молитвы на кухне под равнодушным присмотром миссис Фэйрли, читавшей их деревянным голосом. А вот хозяйке наверху все читалось наедине, и именно в эти интимные минуты Сарин голос бывал наиболее впечатляющим и действенным. Пару раз она совершила невероятное – выжала из этих неукротимых, отороченных мешками глаз слезу. За этим непреднамеренным эффектом скрывалась кардинальная разница между двумя женщинами. Миссис Поултни верила в несуществующего Бога, а Сара знала Бога, который существовал.
Она подсознательно не стремилась, как это делают досточтимые священники и сановники, когда их просят обратиться с речью, придать голосу эффект отстранения в стиле Брехта («Это сам мэр зачитывает вам пассаж из Библии»); наоборот, прямо говорила о страданиях Христа, рожденного в Назарете, как будто не прошло столетий, и в полутемной комнате она, казалось, забывала о присутствии миссис Поултни и видела перед собой распятого. Как-то раз, дойдя до слов «Lama, lama, sabachthane me»[37], Сара вдруг замолчала. Миссис Поултни перевела на нее взгляд и поняла, что по лицу девушки текут слезы. Этот миг искупал все будущие трудности, а если еще учесть, что старая дама, привстав, тронула служанку за поникшее плечо, то это однажды спасет ее очерствевшую душу.
Я рискую изобразить Сару лицемеркой. Но она была очень далека от теологии и видела насквозь не только людей, но и викторианскую церковь с ее благоглупостями, вульгарными витражами и узостью буквального восприятия реальности. Она видела страдания и молилась, чтобы они прекратились. Я не могу сказать, что она могла бы жить в наше время; а в ранние века, я думаю, она могла бы стать святой или наложницей императора. Не в силу своей религиозности в первом случае и не из-за своей сексуальности во втором, а благодаря концентрации редкой силы, составлявшей ее суть, – понимания и эмоциональной отзывчивости.
Были и другие достоинства: впечатляющая и, можно сказать, уникальная способность практически не раздражать хозяйку, тихое исполнение разных домашних обязанностей без посягательства на чужие права, искусное рукоделие.
На день рождения миссис Поултни она подарила ей большую салфетку с изящно расшитой каймой в виде папоротников и ландышей – не потому что стулья, на которых та сиживала, нуждались в защите, просто в то время стул без такого приданого производил впечатление голого. Миссис Поултни была покорена. С тех пор эта салфетка – все-таки в Саре, вероятно, было нечто от ловкого кардинала – постоянно с какой-то хитрецой напоминала великанше-людоедке, когда та садилась на свой трон, о том, что грехи ее протеже заслуживают прощения. По-своему этот подарок сослужил для Сары такую же службу, какую бессмертная дрофа некогда сослужила для Чарльза.
И, наконец, Сара прошла тест на церковные песнопения – самое суровое испытание для жертвы. Как многие викторианские вдовы, ведущие изолированный образ жизни, миссис Поултни очень верила в их силу. Неважно, что ни один из десяти получателей этих текстов не мог их прочесть – если на то пошло, многие вообще были неграмотные, – а кто мог, все равно не понял бы, о чем пишут преподобные отцы… но всякий раз, когда Сара отправлялась с пачкой листков, чтобы вручить их адресатам, миссис Поултни мысленно видела такое же количество спасенных душ, записанных на ее счет в раю. А еще она видела, как женщина французского лейтенанта совершает публичное покаяние – этакая вишенка на торте. То же самое наблюдали и жители Лайма из тех, что победнее, причем они относились к девушке терпимее, чем это себе представляла ее хозяйка.
Сара заготовила короткую формулу: «От миссис Поултни. Прошу вас прочесть и запечатлеть в своем сердце». Произнося эти слова, она смотрела людям в глаза. Те, что обычно ухмылялись со знанием дела, довольно скоро спрятали свои ухмылочки; а у тех, которые привыкли не лезть за словом в карман, слова застревали во рту. Кажется, они больше прочитывали в этих глазах, чем в полученных ими листочках, исписанных убористым почерком.
Но пора перейти к минусам воображаемого списка. Первый и главный пункт, несомненно, был бы: «Она гуляет одна». С самого начала мисс Сара по уговору получила свободного времени полдня в неделю, что в глазах миссис Поултни было весьма щедрым признанием ее особого статуса по сравнению с обычными служанками, а позже это закрепилось необходимостью распространения церковных листков, о чем ее попросил викарий. Два месяца все было хорошо. Но однажды утром мисс Сара не пришла на домашнюю утреннюю службу. За ней послали служанку, и выяснилось, что она до сих пор в постели. Миссис Поултни сама пошла к ней. Она застала Сару в слезах, но сейчас у нее это вызвало только раздражение. За доктором она все же послала. Он пробыл у больной довольно долго. А когда пришел к теряющей терпение миссис Поултни, прочел ей целую лекцию о меланхолии (для того времени и для тех мест он был человек продвинутый) и посоветовал ей предоставлять юной грешнице больше свежего воздуха и свободы.
– Если вы настаиваете…
– Да, дорогая мадам. Более чем. В противном случае я ни за что не отвечаю.
– Для меня это сопряжено с большими неудобствами, – сказала она и, столкнувшись с жестким молчанием, выдохнула: – Я предоставлю ей еще полдня.
Доктор Гроган, в отличие от викария, не зависел в финансовом отношении от миссис Поултни; откровенно говоря, ни одно медицинское заключение о смерти он не подписал бы с меньшей грустью, чем ее. Однако он сдержал всю желчь и лишь напомнил ей о том, что она, выполняя его строгие указания, спит каждый день после обеда. Таким образом Сара получила свободу еще на пол-денечка.
Следующий минус в воображаемом списке: «Не всегда должна присутствовать при посетителях». Тут миссис Поултни загнала сама себя в угол. Ей, конечно же, хотелось, чтобы о ее добрых деяниях становилось известно, что делало необходимым присутствие Сары. Вот только это лицо оказывало самое пагубное влияние на присутствующих. Лежащая на нем печаль выглядела немым укором, а ее редкие подключения к разговору, подсказанные вопросом, который требовал ответа (наиболее сообразительные посетители вскоре научились задавать хозяйке чисто риторические вопросы и тут же переводили взгляд на ее компаньонку и секретаршу), производили обескураживающий эффект – не потому что Сара желала похоронить данную тему, а просто в силу невинной простоты высказывания и здравого смысла, что разворачивало тему совсем в иную плоскость. В этом контексте миссис Поултни казалась себе вздернутой на виселице, как некто, кого она смутно запомнила в детстве.
И снова Сара проявила дипломатичность. Когда приходили какие-то старые знакомые, она оставалась; в других случаях она либо через несколько минут покидала комнату, либо незаметно удалялась, еще когда только объявляли о приходе гостя. Последнее объясняет, почему Эрнестина ни разу не видела ее в «доме Марлборо». Что по меньшей мере давало шанс миссис Поултни поразглагольствовать о кресте, который она принуждена была нести, хотя отсутствие или тихое исчезновение этого самого креста как бы намекало на ее неспособность справиться со столь тяжелой ношей. Но винить в этом Сару было трудно.
А самый жирный минус я оставил напоследок. «Все еще обнаруживает знаки привязанности к своему соблазнителю».
Миссис Поултни предприняла несколько попыток вытащить из девушки детали ее грехопадения, а также всю глубину раскаяния. Даже мать-игуменья так сильно не желала бы услышать исповедь заблудшей овцы. Но Сара была начеку, что твой морской анемон; с какой бы стороны к ней ни подступали, грешница тотчас угадывала, куда клонит старая дама, и ее ответы по существу, если не буквально, мало чем отличались от того, что она сказала ей во время первого допроса.
Миссис Поултни редко выбиралась из дома, и никогда пешком, а в ландо только к ровням, поэтому в том, что касалось поведения Сары за пределами дома, ей приходилось полагаться на глаза посторонних. К счастью для нее, была такая пара глаз, плюс мозговые извилины, заточенные злобой и возмущением, так что их обладательница с радостью регулярно поставляла отчеты беспокойной хозяйке. Этим шпионом была не кто иная, как миссис Фэйрли. Хотя она не получала никакого удовольствия от чтения вслух, ее задел сам факт отстранения, и при том что мисс Сара была с ней подчеркнуто вежлива и старалась никак не претендовать на полномочия домохозяйки, конфликты были неизбежны. Миссис Фэйрли вовсе не радовало, что у нее стало чуть меньше работы, поскольку это означало чуть меньше влияния. Спасение Милли – и другие, пусть не столь заметные вторжения – сделали Сару популярной и уважаемой на нижних этажах, и, возможно, самую большую ярость у миссис Фэйрли вызывало то, что она не могла сказать ничего худого своим подчиненным о секретарше-компаньонке. Она была женщиной обидчивой, находившей единственную радость в познании гадостей и ожидании гадостей; так у нее к Саре выработалась ненависть, которая постепенно пропитывалась настоящим ядом.
Она была слишком хитрой лаской, чтобы не прятать этого от миссис Поултни. Больше того, она изображала, как ей жаль «бедную мисс Вудраф», а ее отчеты обильно сдабривались словами «я опасаюсь» и «я боюсь». У нее были все возможности шпионить: помимо того что она часто выбиралась в город по своим обязанностям, в ее распоряжении также была широкая сеть родственников и знакомых. Последним она давала понять, что миссис Поултни заинтересована – разумеется, из лучших христианских побуждений – в информации о поведении мисс Вудраф за пределами высоких каменных стен вокруг «дома Марлборо». А поскольку Лайм-Риджис тогда, как и сейчас, был наводнен сплетнями в не меньшей степени, чем голубой сыр червячками, то каждое передвижение, каждая гримаса Сары – в сгущенных красках или сильно приукрашенные – становились достоянием миссис Фэйрли.
Маршрут дневных прогулок Сары (когда ей не нужно было разносить церковные листки) был достаточно простым, и она его никогда не меняла: вниз по горбатой Паунд-стрит и дальше по такой же Брод-стрит к воротам Кобба, квадратной террасе с видом на море, не имеющей ничего общего с самим Коббом. Там она стояла у стены и глядела на море, но обычно недолго – не дольше, чем капитан на мостике, внимательно оценивающий водную гладь окрест, – а затем поворачивала или на Кокмойл, или в другую сторону, на запад, по тропе длиною в полмили, огибающей непосредственно тихую бухту Кобб. Если она выбирала Кокмойл, то, как правило, заходила в приходскую церковь помолиться несколько минут (о чем миссис Фэйрли не считала нужным упоминать), а потом по соседней аллее выходила к Церковному утесу. Поросшая дерном тропа поднималась к разрушенным стенам Обители чернеца. Там она гуляла, то и дело обращая взор к морю и месту, где тропа соединялась со старой дорогой в Чармут, а отрезок до Обители давно пришел в негодность, и вскоре поворачивала назад в Лайм. Эту прогулку она совершала, когда в Коббе было людно; если же обстановка и погода позволяли, то она частенько поворачивала туда и надолго останавливалась в том самом месте, где ее впервые увидел Чарльз. Там, считалось, она чувствовала себя ближе всего к Франции.
Эта информация, должным образом препарированная и задрапированная в черные одежды, подавалась миссис Поултни. Но она пока радовалась своей новой игрушке и была к ней расположена, насколько это возможно для столь угрюмого и мнительного персонажа. Впрочем, она без колебаний устраивала игрушке допрос с пристрастием.
– Говорят, что во время ваших прогулок, мисс Вудраф, вас видят в одних и тех же местах. – Под ее обвинительным взором Сара опустила глаза долу. – Вы смотрите в открытое море. – Ее гувернантка по-прежнему молчала. – Я довольна, что вы обращены к покаянию.
Сарина реплика не заставила себя ждать.
– Я вам благодарна, мэм.
– Благодарность мне ничего не значит. Есть высший судия, который ее заслуживает в первую очередь.
– Мне ли этого не знать? – тихо произнесла девушка.
– Людям недалеким может показаться, что вы упорствуете в своем грехе.
– Если им известна моя история, они не могут так думать, мэм.
– Однако думают. Они говорят, что вы высматриваете паруса Дьявола.
Сара встала и подошла к окну. Раннее лето, запахи жасмина и сирени, смешанные с пеньем черных дроздов. Она взглянула на море, от которого ее призывали отречься, а потом повернулась к старой даме, застывшей в неумолимой позе в своем кресле, как королева на троне.
– Вы хотите, мэм, чтобы я ушла?
Миссис Поултни внутренне содрогнулась. В очередной раз наивность этой девушки разом погасила бурю гнева, поднимавшуюся в ее душе. Этот голос и другие чары! Хуже того, она могла лишиться процентов, которые получала за распространение небесных посланий. Пришлось сбавить тон.
– Я хочу подтверждений, что этот… человек… вытравлен из вашего сердца. Я знаю, все так, но это еще надо показать.
– Как я должна это показать?
– Выбрав другое место для прогулок. Не ставя себя в жалкое положение. Хотя бы потому, что вас об этом прошу я.
Сара стояла с опущенной головой. Повисло молчание. Потом она посмотрела ей в глаза, и впервые на губах мелькнула слабая улыбка.
– Как скажете, мэм.
Это была хитрая жертва, говоря шахматным языком. Миссис Поултни великодушно продолжила, что не собирается совсем лишать ее радостей морского воздуха и что она может иногда совершать такие прогулки, просто не всегда к морю и «пожалуйста, не стойте на одном месте и не глядите вдаль». Короче, этот пакт уравновешивал две навязчивые идеи. Сарино предложение уйти заставило обеих женщин посмотреть правде в глаза – каждую по-своему.
Сара свое слово сдержала – по крайней мере, в выборе маршрута. Отныне она редко выходила к Коббу, но когда это случалось, порой все же позволяла себе постоять и поглядеть вдаль, как это было в вышеописанный день. В конце концов, сельская местность вокруг Лайма предоставляет много возможностей для прогулок, и почти все с видом на море. Если бы это было единственное Сарино желание, то она могла бы просто ограничиться лужайкой «дома Марлборо».
Миссис Фэйрли на этом сильно проиграла. Ни один случай выхода к морю не оставался без внимания, но они были нечастыми, и Сара научилась держать страдания миссис Поултни под контролем, что спасало ее от серьезной критики. И вообще, «бедная Трагедия сумасшедшая», о чем нередко напоминали друг другу шпионка и хозяйка.
Но вы-то без труда зрите в корень: она была не такая уж сумасшедшая, как казалась… и, по крайней мере, не в том смысле, какой в это слово обычно вкладывали. В ее демонстрации покаяния проглядывала некая цель, а люди целеустремленные знают, когда они чего-то достигли и могут на какое-то время позволить себе бездействие.
Но однажды, меньше чем за две недели до начала моей истории, миссис Фэйрли пришла к хозяйке в своем скрипящем корсете и с лицом человека, готового объявить о смерти близкого друга.
– Я должна вам сообщить неприятную новость, мэм.
Эта фраза давно стала для миссис Поултни такой же привычной, как штормовой сигнал для рыбака. Но она решила соблюсти условности.
– Я надеюсь, это не касается мисс Вудраф?
– Если бы так, мэм. – Домохозяйка не сводила с нее глаз, словно желая убедиться в нескрываемом ужасе, который изобразится на лице госпожи. – Но боюсь, что мой долг – сказать вам правду.
– Мы не должны бояться исполнить свой долг.
– Да, мэм.
Но какое-то время рот оставался замкнутым на замок, и можно было только гадать, какая жуть сейчас откроется. Что-то вроде голых танцев на алтаре приходской церкви.
– Она теперь гуляет по Верской пустоши.
Какое падение! Хотя миссис Поултни, похоже, ей не поверила. У нее просто отвалилась нижняя челюсть.
10
Альфред Теннисон. Мод
- Поднять глаза она рискнула
- И вдруг румянцем залилась,
- Ответный взгляд внезапно встретив…
…Зеленые ущелья среди романтических скал, где роскошные лесные и фруктовые деревья свидетельствуют, что не одно поколение ушло в небытие с тех пор, как первый горный обвал расчистил для них место, где глазу открывается такая изумительная, такая чарующая картина, которая вполне может затмить подобные ей картины прославленного острова Уайт…[38]
Джейн Остин. Доводы рассудка
Между Лайм-Риджисом и Аксмутом, в шести милях западнее, открывается один из самых удивительных прибрежных ландшафтов Южной Англии. Сверху это не так бросается в глаза, ты только замечаешь, что если в других местах поля утыкаются в скалы, то здесь они не дотягивают целую милю. Распаханная шахматная доска из зеленых и красно-коричневых квадратиков обрывается с каким-то веселым хулиганством темным каскадом из деревьев и кустарников. Никаких крыш. Если опуститься до бреющего полета, то можно увидеть, что местность пересеченная, разрезанная глубокими впадинами и подчеркнутая необычными утесами и башенками, меловыми и кремневыми, нависающими над густыми зелеными кронами, словно стены разрушенных замков. Но то сверху… а если пешком, то этот с виду неприметный безлюдный ландшафт странным образом растягивается. Люди тут пропадали часами, и когда потом смотрели по карте, где они потерялись, их поражало то, какой силы было ощущение оторванности – а в плохую погоду еще и подорванности.
Береговой оползневый уступ длиной в милю, появившийся в результате эрозии древней вертикальной скалы, по-настоящему крутой. Плоские прогалины в нем так же редки, как посетители. Но эта крутизна в действительности возносит ее саму и всю растительность к солнцу, что, вместе с бесчисленными родниками, вызывающими каменную эрозию, придает горной гряде ботаническое своеобразие: дикие земляничные деревца, падубы и другие деревья, редко встречаемые в Англии, огромные ясени и буки, зеленые расселины, заполненные плющом и лианами клематиса, папоротник-орляк в семь-восемь футов, цветы, раскрывающиеся на месяц раньше, чем где-то по соседству. В летние месяцы это место, больше чем любое другое в стране, напоминает тропические джунгли. Как всякая земля, не обжитая и не обработанная человеком, оно таит в себе загадки, темные закоулки, опасности – буквальные, с геологической точки зрения, поскольку от всяких расщелин и внезапных обрывов можно ждать чего угодно, и если ты загремишь и сломаешь ногу, то можешь кричать хоть целую неделю, все равно тебя никто не услышит. Как ни странно, сто лет назад это место было не столь дикое, как сейчас. Сегодня здесь нет ни одного коттеджа, а в 1867 году стояло несколько, и в них жили егеря, лесники и свинопасы. Похоже, у косуль, предпочитающих полное одиночество, тогда были не такие мирные дни. Зато нынче оползневый уступ превратился в совершенно дикое место. От стен тех домов остались увитые плющом культи, обходные пешеходные дороги исчезли, а до автомобильной еще топать и топать, единственная же сохранившаяся тропа часто становится непроходимой. И все это освящено парламентским актом: национальный природный заповедник. Не все приносится в жертву целесообразности.
Именно сюда, в этот английский эдем, забрел Чарльз 29 марта 1867 года, поднявшись от бухты по горной тропе в восточную часть оползневого уступа под названием Верская пустошь.