Огненный перст Акунин Борис
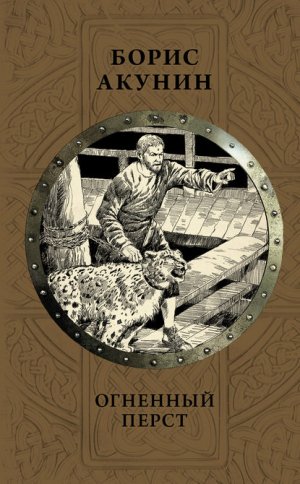
Огненный перст
Повесть
Вода, огонь, ветер
Проворные и уверенные на реке, по морю ладьи поплыли опасливо. Неприспособленные к напору волн борты пугливо скрипели, весла сшибались друг с другом, не всегда попадали по воде. Выйдя из лимана, вся длинная вереница, девятнадцать больших лодок, старалась не отдаляться от берега. Но месяц был ласковый, вересень, погода ясная и маловетреная, волнение несильное. Гребцы понемногу приноровились. Ладьи перестали рыскать острыми носами, ход их ускорился, строй выровнялся.
Осеннее солнце, которому наскучило гонять солнечные зайчики по пустым водам, азартно накинулось на новую игрушку: блики запрыгали на весельных лопастях, на медных бляхах щитов, на разложенном по скамьям оружии.
Многовесельные лодки на языке северичей назывались селезнями. Сверху, из-под легких облаков, где кружили белые морские птицы, флотилия, верно, и в самом деле была похожа на утку с выводком утят. Передняя ладья – целый корабль, только без мачт – была вдвое больше остальных. На тех помещалось человек по тридцать-сорок, на этой семьдесят, вся старшая дружина. Над кормой торчал длинный шест с насаженным на него знаком княжеской власти: черепом кабана в посеребренном, матово посверкивающем шлеме.
Сам князь – огромный, широкий, в расшитой по вороту рубахе – неподвижно стоял у носа один и глядел вперед. Воины смотрели на могучую, несокрушимую, как каменный валун, спину, и их страх перед морем постепенно отступал.
А князю было так же страшно, как остальным. Человек лесной, болотный, он никогда не видел столько воды. Невообразимый простор давил на него, стискивал грудь. Прямая и чистая, словно край стола, линия горизонта казалась обрывом, за которым нет ничего, кроме тьмы и смерти. Нельзя было позволить, чтобы люди заметили на лице вождя смятение, поэтому Воислав и не оборачивался. А еще он боялся, что от резкого движения (у него все движения были резкими, по-иному не умел), покачнется, не устоит на ногах, и это будет воспринято как недобрая примета. Рука князя – на четырех пальцах серебряные кольца, на большом золотой перстовник – крепко сжимала кромку борта.
Параллельно ладье, посверкивая мокрой кожей, нырял по волнам любопытный дельфин. Воислав никогда не видел таких больших черных рыб, да еще чтоб скакали по-над водой, и сотворил знак, отгоняющий злые видения: трижды дернул себя за буйную бороду. Диковинная тварь, махнув нерыбьим хвостом, ушла на глубину.
– Эй! – крикнул Воислав басом, от которого, бывало, приседали боевые кони. – Эй, Гад! Поди!
К носу, легко и уверенно шагая прямо по скамьям, приблизился человек. Он был худ и невелик ростом, меньше всех, кто был в лодке, а рядом с гороподобным Воиславом показался вовсе заморышем. Одет недомерок был так же, как остальные: серая рубаха-голошея с ремешком да холщовые порты – под коленом они были крест-накрест перехвачены тесемкой, пришитой к кожаным ступам, всегдашней обуви северичей. Только меч на поясе не такой, как у всех, а узкий и короткий, каких в лесном краю не делали. Массивный, широкий северицкий сечень Гаду был тяжел.
Князь сверху покосился на подошедшего. Спросил, умерив голос, что у него получилось плохо:
– Далеко ль морем плыть?
– До Керкинтия? – Гад вздохнул. На этот вопрос он отвечал уже много раз. – От устья Бог-реки так. Можно прямо. – Он показал на горизонт. – Тогда близко. Ночь плыть. Утром Керкинтий. Я говорил, княже.
Воислав кинул взгляд на водную пустоту. Дернул исполинским плечом – поежился.
– Нет. Ночевать на земле будем.
– Тогда вдоль берега плыть надо. Сегодня, завтра, еще один день.
Князь недоверчиво прищурился, глядя Гаду в его немигающие спокойные глаза:
– Откуда всё знаешь?
Маленький человек промолчал, взгляда не отвел. Из всех северичей он один мог позволить себе оставить вопрос князя без ответа.
– Почему я тебе верю, волхв? – зарокотал Воислав, которому хотелось разгневаться – это состояние для него было привычнее неуверенности. – Почему слушаю?
Гребцы на передних скамьях, услышав в голосе князя закипающую ярость, сжались. Гад, однако, не оробел.
– Стрежень-город помнишь? – сказал он как всегда мягко и негромко. – Я тебя предупреждал. Не ходи на приступ. Не гони людей на стену. Надо ручей перекрыть. Без воды стреженцы сами вылезут. Ты меня не послушал. Сорок воинов зря погубил. Город не взял. Потом мы воду отвели. Через неделю они сами сдались. Без воды никто долго не может.
Оба изъяснялись короткими, очень простыми фразами, в которых не было лишних слов. У северичей, как и у других славян, многоречие было не в чести. Длинно говорили только ведуны и женщины, но и те показались бы людям из южных, менее суровых краев немногословными.
От приятного воспоминания гнев князя, так и не распалившись, прошел. Воислав улыбнулся.
– Я помню, волхв. Потом все говорили. Воислав мудр. Придумал город без крови взять. Нет воды, нет и крови.
И захохотал. Он часто повторял эту остроту. Северичи шутили редко. Выпив много хмельного меда, могли для веселья подурачиться, но острого слова сказать не умели. Шутку про кровь и воду когда-то первым произнес Гад, но князь давно забыл про это.
– Нет воды, нет и крови, – сказал он еще раз и снова засмеялся.
– А помнишь Лютово городище, княже? Как я сказал прикинуться послами? Будто с миром пришли?
– Помню. – Улыбка Воислава стала шире. – Мы убили Люта и всех его родичей. Как цыплят.
– И про грозу помнишь? Я сказал тебе: «Отойди от дуба». И в него попала молния. Вот почему ты мне веришь, княже. Я умею говорить с богами. Они слушают мои речи. И ты меня слушай. Кто ты был три года назад? Что у тебя было? Твой Градец, десять деревенек вдоль Бог-реки да лесные люди. А что лесные люди? Сегодня они есть, завтра в лес ушли. И нет их. Так было раньше. Без меня. Теперь разве так?
Князь засмеялся. Он уже не думал про море и про его пугающий край, за которым тьма.
– Теперь у меня много всего. Мне покорились все роды северичей. И голотичи. И прегордые любичи. Я вожу в поход тысячу воинов! И у каждого железный шлем, хороший меч, крепкий щит. У меня двадцать ладей. Девятнадцать, – поправился Воислав, и тень пробежала по его низкому лбу. Пробежала – и исчезла. – Я иду брать греческий город! За море иду! Я возьму много добычи. Никогда никто не брал столько добычи!
Он воодушевлялся всё больше. Хвастливые речи придавали ему силы.
– Я слушал тебя, Гад. И буду слушать. Ты всё знаешь. Ты умеешь говорить с богами. Ты хитрый. Ты умный, как змея. Кажется, тебя можно раздавить голой рукой. Но ты вывернешься. И укусишь ядовитым зубом. – Теперь князь смотрел на низкорослого собеседника с восхищением. – Потому тебя так прозвали: Гад.
Для северичей в этом имени не было ничего обидного. Один из лесных родов даже поклонялся змеебогу Гадуну, приносил ему в жертву откормленных мышей и лягух.
– Не зли змею – она не укусит, – сказал волхв. – Ласкай змею – получишь от нее дары. У тебя теперь много всего, княже. Возьмешь Керкинтий – будет еще больше. Нет никого богаче греков. У них ткани разные. Посуда. Серебро. Прозрачный кувшин помнишь? Он из стекла. У греков таких много. Вернешься с добычей – все тебе поклонятся. Древовичи, ладиничи, даже поляне. Все встанут под твою руку.
Вождь кивнул. Вот теперь он обернулся лицом к воинам, зная, что его гордый и спокойный вид придаст им бодрости.
– Я бы поплыл на греков прямым путем. Я не боюсь провести ночь в море. Но они… – Он показал на дружину. – Они не захотят. Они не привыкли к такой большой воде.
Гад не стал спорить.
– Ничего, княже. Доплывем и берегом. Может быть, нам повезет. Мы встретим купеческий корабль. Там бывает много добра. Очень много. Хватит нагрузить все ладьи. Тогда незачем ходить на Керкинтий.
– Нет. Я хочу взять греческий город. Хочу попробовать греческих женщин. Хочу поставить на самом высоком месте моего кабана. – Князь показал на клыкастый череп. – Пусть греки узнают про Вослава!
Прикрыв ладонью глаза от солнца, он посмотрел назад, на растянувшуюся по морю флотилию и выругался:
– Что отстали? Осерчай на них Перун!
Брани крепче этой у северичей не было.
Головной корабль далеко оторвался от остальных ладей.
– Осушай, осушай! – крикнул Воислав.
Борта ощетинились застывшими веслами: пятнадцать с одной стороны, пятнадцать с другой.
Князь пробирался к корме – медленно и трудно перешагивая через скамьи, опираясь на плечи гребцов. Отодвинул кормщика, встал у руля сам. Принялся командовать – небыстро:
– Йэ-эх!..Йэ-эх!..Йэ-эх!
Весла задвигались медленней, чем раньше. Разрыв стал сокращаться.
Через час или полтора Воислав снова подозвал волхва. Тот всё это время оставался на носу. Смотрел на солнце через какую-то дощечку с прорезью.
Подошел – но не стремглав, не сразу.
«Эк ловок», – подумал князь, завидуя легкости, с которой Гад перемещался по раскачивающейся ладье.
– Я думал, – гордо сказал вождь. – Я считал. Как ты учил. Сейчас у меня тысяча воинов без двадцати, так? Покорю древовичей – возьму с них еще четыреста. Или пятьсот. С ладиничей возьму триста. С полян можно взять семьсот, даже больше. Зимой по льду доберусь до смоличей. У них лучники хороши. Возьму двести. Это сколько всего будет?
– Вместе с твоими почти три тысячи.
Маленькие голубые глаза князя – густая борода подбиралась к ним чуть не вплотную – загорелись восторгом.
– Никогда ни у кого столько не было! Какой у греков самый большой город? Только чтоб на этой стороне моря.
– Корсунь. Он дальше Керкинтия. Ненамного. Большой город, очень богатый. В десять раз больше Керкинтия.
– Я знаю про Корсунь. – Воислав торжественно воздел ручищу. – На следующее лето он мой будет!
– Помолчи-ка, княже. – Гад, сузив глаза, всматривался в линию берега. Ноздри хищно затрепетали.
– Ты чего? – забеспокоился Воислав.
– Тссс. Мне Россох шепчет…
Так звали бога реки и всякой воды, чтимого северичами.
– Жиром пахнет… Добычей пахнет… – Гад показал на недальний мыс. – Там! Поворачивай! И остальным вели! Быстрее!
Воислав открыл рот – спросить, в чем дело, но вещий человек бесцеремонно отодвинул тугодумного князя (оказывается, была в тонких жилистых руках Гада немаленькая сила) и сам навалился на кормило.
Селезень повернулся, вспенив носом зеленую волну.
– Йэ-эх! Йэ-эх! Йэ-эх! – пронзительно закричал Гад, убыстряя ритм гребли.
Князь смотрел на приближающийся мыс и ничего там не видел. Нюхал воздух – никаким жиром не пахло. Однако не перечил. Смотрел, ждал.
Остальные лодки повернули за сверкающей на солнце кабаньей головой. Им что – куда князь, туда и они.
За оконечностью мыса, у подножия которого кипел белый прибой, открылся вид на бухту. Ее горло, сдавленное двумя скалистыми языками, было шириной в двадцать полетов стрелы. Посередине бухты, на глубоководье, стоял огромный черный корабль.
Он был не похож на ладьи речных славян. Длинный, высокобортый, с мощными веслами в два яруса, с тремя мачтами. Главная – высотой с пятидесятилетнюю сосну.
– Смотри, князь! Купец! – крикнул Гад. – Не обманул Россох! Не зря мы дали ему щедрую жертву!
– Зачем он здесь? Здесь ничего нет, – сказал Воислав, глазея на невиданное судно.
– Хочет починиться. Или взять питьевой воды. Какая разница? Твоя удача крепка, князь. Только бы не ушел!
Встрепенувшись, вождь приказал:
– Правь на него! А вы гребите, гребите!
Волхв поступил иначе – двинул руль в другую сторону, и ладья, вместо того чтоб войти в бухту, повернулась носом к противоположному мысу.
– Ты что делаешь?! – ахнул Воислав. – Корабль там, а ты – туда.
Было видно, как на верхней палубе огромного судна муравьями снуют люди. Кто-то карабкался по снастям. Из воды вынырнул, заблестел мокрый якорь.
– Пойдем прямо на него – ускользнет. – Гад зачем-то послюнил палец, поднял его над головой. – Надо вытянуться цепью. Замкнуть выход из бухты. Тогда никуда не денется.
Вдруг над срединной мачтой корабля раскрылось квадратное серое полотнище; еще два поменьше, косоугольные – спереди и сзади. Будто сизый голубь раздул грудь и расправил крылья.
– Что это, Гад?
– Паруса. На них под ветром ходят.
Этого князь не понял, однако мысль о том, что нужно закрыть выход из бухты, ухватил.
– Зык, ко мне! – крикнул он.
Зыком назывался дружинник с особенно зычным голосом. Такой имелся в каждой ладье.
– Ори: «Плыви за мной! Передай дальше!»
Две эти фразы, выкрикнутые лужеными глотками, разнеслись над золотисто-изумрудными водами восемнадцатикратным эхом.
Славянские селезни, бешено работая веслами, мчались ко второму мысу. Пришел в движение и корабль. Полотнища захлопали, надулись; разом приподнялись и опустились весла: верхние очень длинные, нижние покороче.
Через минуту-другую корабль, несмотря на размер и тяжесть, развил скорость, вдвое, если не втрое большую, чем у северичей.
– Уйдет! Не поспеем! – взвыл Воислав.
Но грек вдруг качнул парусами и сменил курс, словно передумал бежать, а решил сойтись с преследователями.
– Будет биться? – изумился князь. – Один? Или сдаться хочет? Нам пленных не надо. Для добычи места бы хватило. Велю всех переколоть.
На корабле словно подслушали жестокий посул. Снова двинулись косые паруса, взбурлила под острым носом вода. Грек опять сделал крутой поворот.
– Почему рыскает? – спросил Воислав.
– Ветер сбоку, – коротко ответил волхв. – Купцу не уйти. Стрибог к нам милостив.
Оставив одну руку на кормиле, он поплевал на ладонь другой и дал ветру сдуть слюну. Стрибог, повелитель воздуха, принимает такое подношение как обещание будущей награды.
– Сделай то же, князь.
Воиславу было не в разум, почему хорошо, что ветер сбоку и за что нужно сулить мзду Стрибогу. Сейчас надо было звать на подмогу Перуна – покровителя воинов. Обидится Перун – не видать удачи в битве.
Не послушал князь волхва. Вырвал из бороды целый клок волос и кинул через плечо.
– На, Перун, тебе, а ты – мне! А после стотину дам!
«Стотина» – сотая часть добычи. Пожадничал Воислав, очень уж был уверен в победе. Обычно перед битвой Перуну обещают десятину. А дадут иль нет – это после видно будет. Если добычи меньше, чем думалось, могут и не дать.
Грек, кажется, понял, что не проскочит, и изменил тактику. Теперь он шел наискось, к первому мысу, оставшемуся позади.
– Будет прорываться с боем, – сказал Гад. – Через наш хвост. Кто замыкающий?
– Тур Одноглазый. – Князь хохотнул. В предчувствии драки он всегда впадал в нетерпеливое, радостное возбуждение. – Через Тура не прорвется. Зык, ко мне! Кричи: «Всем заворачивать! Бой!»
«О-о-й! О-о-й!» – зашумело над бухтой.
Не зависящие от ветра ладьи одна за другой стали разворачиваться. Самая последняя, которой командовал старый и опытный воин по имени Тур, быстро пошла на сближение с греком. Тот, поныривая клювообразным носом, несся навстречу, стремительный, будто давешняя прыгучая рыба.
С Туровой лодки и еще с одной, соседней, открыли огонь лучники. На корабле, будто сами собой, поднялись большие щиты, начисто закрывшие палубу. Несколько мгновений спустя на них стала расти щетина – в дерево вонзались славянские стрелы с раздвоенными хвостами.
Быстрый тридцативесельный селезень Воислава уже обогнал половину других ладей. Князь перебрался с кормы вперед. Надел кожаный доспех, спереди обшитый медными пластинами, нацепил остроконечный хазарский шлем с шестиконечной звездой – военный трофей, которым очень гордился.
– Сейчас Тур зацепит его крюками. А там другие налетят! – крикнул он толпящимся за его спиной дружинникам. Они все тоже снарядились к бою. От нетерпения колотили мечами по бортам.
Когда между греком и передней лодкой осталось шагов сто, в зазор меж двух утыканных стрелами щитов просунулась длинная труба – будто у корабля на лбу внезапно вырос рог.
Дальше случилось невообразимое.
Из трубы, прочертив огненную дугу, выметулась струя пламени и обрушилась на ладью – та вспыхнула бурно и охотно, как не загорается даже хорошо высушенный хворост. Невероятно, но загорелось и море вокруг. В лодке размахивали руками люди. Они тоже горели. Одна пылающая фигурка прыгнула за борт. За ней еще и еще. На воде вспыхнули маленькие костры – горящие головы.
Вой боли прокатился над солнечной бухтой. Остальные ладьи откликнулись воем ужаса. Это было чародейство – непонятное и оттого еще более страшное.
Следующий селезень уже не махал веслами, но с разгона еще двигался навстречу колдовскому кораблю. Тот снова изрыгнул красно-черную струю. Она не попала в лодку, но подожгла море у ее борта, и пламя, подгоняемое ветром, пробежало по веслам, перекинулось на суденышко.
Всё повторилось. Горели скамьи, горели щиты, горели и прыгали в воду люди, но вода их не спасала.
Прочие лодки, не дожидаясь приказа, стали поворачивать в обратную сторону.
…На этом морское сражение закончилось и началась погоня – долгая, монотонная, безжалостная.
В первые минуты можно было подумать, что волшебный корабль удовольствуется гибелью двух селезней. Он спустил паруса, весла остановились. Несколько лодок засновали по волнам, подбирая немногих уцелевших. Ладьи охваченных паникой северичей почти сравнялись с дальним мысом, прежде чем победитель вновь тронулся с места.
Еще и потом некоторое время казалось, что грек всего лишь хочет отогнать морских разбойников подальше от берега. Корабль быстро сократил дистанцию, однако не погнался за последней из лодок, а взял курс левее, оказавшись между мысом и сбившейся в кучу флотилией. Та шарахнулась от ужасного противника прочь – в открытое море, навстречу пустому горизонту. Любая бездна, хоть бы самый край земли, была менее жуткой, чем всепожирающий, негасимый пламень.
Только теперь стал ясен замысел греков. Они собирались не отогнать врагов, а уничтожить их. Всех до одного.
Делалось это неторопливо, обстоятельно.
Догнав замыкающую ладью, корабль подпалил ее. Остановился. Подобрал тех, кто не сгорел и не утонул. Потом продолжил погоню.
Ветер дул от берега. Преимущество в скорости у грека было такое, что он в какую-нибудь четверть часа вновь оказался в хвосте флотилии и поджег следующий селезень.
Это повторялось снова и снова. Если бы лодки кинулись врассыпную, возможно, кто-то и спасся бы. Но от ужаса у беглецов словно помутился рассудок. Страх перед огнем и бескрайним водяным простором заставлял их тянуться за ладьей вождя, которая, отчаянно шлепая веслами, неслась впереди, всё больше отдаляясь от остальных.
Каждый раз, когда преследователь останавливался, появлялась надежда, что он наконец насладился местью и оставит разбитого врага в покое. И каждый раз надежда рассыпалась в прах.
Нескончаемый кошмар длился весь день. Вереница ладей постепенно таяла. Бездонные трюмы двухпалубного чудовища всё не могли насытиться пленниками.
Но в сумерки, когда от погрузившегося в море солнца на воде осталась только лужа багровой крови, Воиславу стало казаться, что бог воды наконец услышал его отчаянные молитвы. Начав с обещания четверти всего, чем владеет, к концу дня князь сулил Россоху уже всё, до последней беличьей шкурки, до самой желанной из наложниц – лишь бы попустил спастись от огненной гибели.
– Никак уйдем? – сказал князь осипшим голосом стоявшему у руля волхву. – Скоро будет темно. Потеряемся. Что молчишь?
Вдали пылал предпоследний из селезней. Люди спрыгнули в воду, не дожидаясь, когда лодка загорится, и грек застыл на месте надолго – нужно было собрать много пленных.
– Не уйдем, – ответил Гад, поглядев на небо. – Только если чудо. Ты молился Перуну. Потом Россоху. А надо было Стрибогу. Он обиделся. Губит нас. Дует греку в паруса. Держи кормило, князь. Буду просить Стрибога сам. Пусть остановит ветер. Или направит в другую сторону. Тогда может быть.
Он задрал лицо к темнеющему небу и зашевелил губами. Меж полузакрытых век белели закатившиеся под лоб глаза.
Воислав смотрел на волхва со страхом и надеждой. Всё имущество уже было обещано Россоху, но князю пришла в голову новая мысль. Остается сокровище драгоценней мехов и наложниц – вот этот колдун, который всё знает и умеет говорить с богами. «Я принесу тебе, Стрибоже, в жертву Гада, – беззвучно прошептал Воислав. – Только спаси».
И случилось чудо. То ли бог внял волхву, то ли польстился на жертву, обещанную князем, но только паруса на грозном корабле вдруг обвисли. Ветер стих. По волнам пробежала рябь – и исчезла. Послезакатное море лежало гладкое, словно застыло, покрытое розовым льдом.
У грека весел было больше и они были мощнее. Должно быть, на каждом сидело по паре рабов. Зато селезень был легче, а на весла Воислав тоже посадил двоих – раньше дружинники гребли, сменяясь.
Расстояние всё равно сжималось, но медленней, чем прежде.
А над горизонтом уже клубилась, поднимаясь вверх, синяя тьма.
«Благо тебе, Стрибоже, – шептал князь, всхлипывая от облегчения. – Гад будет твой. Пусть только доведет до суши. Без него как? Неведомо, куда плыть. Берега не видно. А ночью тем более… Но обещаю. На твердой земле я сам вырежу ему сердце. И отдам тебе».
Однако недолго пришлось Воиславу глотать радостные слезы. По воде вновь пролегли морщины, превратились в волны. Сзади налетел ветер – сильней прежнего. На мачтах грека пузырем всколыхнулся большой парус.
«Нет, нет! – взмолился князь. – Я не стану ждать суши! Я отдам тебе Гада прямо ночью! Как-нибудь, куда-нибудь выплывем! Только не дуй, Стрибоже!»
Но Стрибог то ли заподозрил Воислава в обмане, то ли с самого начала играл с князем северичей, как кошка с мышью.
– Греби! Греби-и-и! – завопил предводитель. – Йэх! Йэх! Йэх!
Обессилевшие люди что было мочи навалились на весла – и селезень убыстрил ход. Мало, совсем мало времени оставалось до желанной тьмы. Над горизонтом уже погасло красноватое свечение, и вражеский корабль посерел, обернулся зыбким призраком.
– Пусти за руль, князь. Подгоняй гребцов. И молись Россоху, – сказал Гад. – Теперь всё от него зависит.
Передавая кормило, Воислав ощутил – кажется, впервые – превосходство над волхвом: всеведущий, а не знает, что его ждет. «Что обещал – сделаю», – мысленно сказал он Стрибогу. А Россоху сулить было уже нечего.
Вдруг селезень шатнуло в сторону и повело вкось, поперек волн. Он накренился, весла застучали друг о друга. Через несколько мгновений они выровнялись, снова ударили по воде, но, вместо того чтобы уходить от грека, ладья стала описывать дугу.
– Руль выправи, руль!!! – закричал князь.
– Не слушается… – Гад навалился на рукоять всем своим тщедушным телом – ничего не вышло.
Отшвырнув волхва в сторону, как кутенка, Воислав попробовал сам. Но и его могучие руки не смогли поставить кормило в нужное положение.
– Ты кому сейчас молился, князь? – спросил снизу Гад. – Россоху или кому?
– Стрибогу… – просипел Воислав и дернул рукоять так, что она переломилась пополам. Дружинники взвыли от ужаса.
– Тогда готовься к смерти. Или к плену. Сам выберешь.
Ужасный корабль стремительно приближался, из серого становясь черным, громадным.
Гад взялся рукой за борт и легко перемахнул за борт – только плеснула вода. Дружинники побросали весла, стали стаскивать тяжелые доспехи, обрывать с поясов мечи. Кто мог плавать – прыгали в море. Кто не мог – остались.
Но когда с надвинувшегося вплотную корабля брызнуло огнем, в воду бросились и те, кто не умел на ней держаться. Лучше утонуть, чем сгореть заживо.
Лодки-скафосы долго кружили по черным волнам, светя факелами. Старались подобрать всех, никого не упустить. Раб-тавроскиф силен и вынослив, он стоит хороших денег.
Если плывущий поднимал открытую ладонь – понятный для всех народов жест подчинения, – его вытягивали из воды. Если не желал сдаваться – разбивали голову лопастью весла. Славяне, решившие умереть, принимали смерть молча. Тех, кто предпочел быстрый конец муке рабства, было больше.
Вождь варваров уплыл дальше всех. Он не поднял руки, но и не подставил голову под удар. Весло попусту вскинуло брызги – густобородый богатырь нырнул.
– Хочет медленной смерти – его дело, – сказал скафарх. – Кажется, все. Грести к дромону!
Из лодки на корабль пленных втягивали веревочной петлей. Приняв с борта, первым делом отвешивали крепкую оплеуху. Потом зачем-то подносили к лицу масляную лампу. И лишь после этого спускали в трюм.
Рядом с капитаном дромона стоял человек в красной накидке. Это он светил фонарем – и всякий раз бормотал короткое ругательство. Несколько раз на палубу вытаскивали пленников, потерявших сознание. К каждому такому человек подходил, нагибался и зачем-то проводил ему рукой по лбу, отодвигая прилипшие мокрые волосы.
– Это последний скафос, – сказал капитан. – Мне очень жаль, протокентарх.
Один пленный, тоньше и ниже ростом, чем остальные тавроскифы – народ сплошь рослый, широкий в кости – вдруг сделал странный жест: сложил два пальца одной руки, средний и указательный, с двумя пальцами другой – получился крест. Конвоир толкнул его в спину.
– Не тронь, болван! – крикнул протокентарх. – Это он. Слава Иисусу! Жив!
Накинув на плечи мокрому, дрожащему от холода пленнику свою накидку, отвел его в сторону.
– Приветствую тебя, аминтес. Я уж боялся, тебя не найдут… Скажи, почему вы так задержались? Мы ждали вас еще позавчера.
– В устье реки Гипанис. Одна лодка перевернулась. И еще три дали течь. Два дня ушло на ремонт, – чисто, но с запинкой ответил по-гречески тот, кого назвали «аминтесом».
– Ты не ранен? Речь твоя странно прерывиста.
По усталому лицу мокрого человека пробежала улыбка.
– Три с половиной года не говорил на родном языке. Привык изъясняться короткими фразами. В речи тавроскифов нет сложных предложений… – Спасенный обеспокоенно спросил: – Скажи, ни одна из лодок не ушла? Все, кто осмеливается идти войной на имперские владения, должны исчезать бесследно. Это страшнее любого поражения.
– Никто не ушел. Мы уж думали, что самый большой корабль успеет скрыться во мраке. Приходилось подбирать из воды всех – вдруг бы среди них оказался ты? Я не понимаю, почему большая лодка стала поворачивать.
– Я вбил клин в паз кормила. Боялся, вы не догоните.
– Прекрасно. Я напишу в рапорте и об этом. Но у тебя писанины будет куда больше, чем у меня. Надеюсь, ты не позабыл грамоту в северных лесах? – засмеялся чиновник. – В каюте тебя ждет хороший ужин, пелопонесское вино, цивилизованная одежда. А также, – он шутливо развел руками, – принадлежности для письма. Увы. Порядок есть порядок. Твой отчет должен быть готов до прибытия в Синоп.
Воислав плыл по ночному морю, мерно загребая руками. Море было черное, небо тоже. Луна еще не взошла, едва светились звезды. Но они не помогли бы пловцу найти путь к берегу. Князь не понимал их языка.
Он был очень силен. Он мог плыть три часа, и пять, и больше. Знать бы только, в какой стороне земля.
Об этом Воислав сейчас и молился Россоху. «Тебе нет выгоды меня губить, – шептал он, отплевывая горькую воду. – Кто отдаст тебе дары? Я тебе столько всего обещал. Помнишь? Спаси меня. Тебе же лучше».
Но повелителю вод не нравился сухопутный человек, боящийся моря. И его дары – куски серебра, связки меха, железные мечи, гривастые кони и мясистые женщины – богу были ни к чему. Россох посмеялся над пловцом, направил в ту сторону, где суши не было на сотни и сотни миль.
Дым отечества
Весь день Дамианос пребывал в необычном для него чувствительном настроении. Сначала бормотал греческие стихи из «Одиссеи» – про желанный дым отечества, клубящийся над родными берегами. Выйдя на улицу, перешел на латынь. «Здравствуй, Сатурна земля, великая мать урожаев», – бормотал он строки Вергилия, с наслаждением вдыхая чудесный воздух огромного города. Никаких урожаев эта скованная камнем земля не производила, а ее «дым» был несвеж и по временам даже зловонен: из харчевен несло кухней, не всегда хорошей; из-под тротуаров, где проходили сточные трубы – гнилой водой, от помоек – отбросами, от общественных латрин – тем, чем обычно пахнут латрины. Но тут была родина, и пахла она нормальной человеческой жизнью, а не пустотой и безлюдьем, как дикие леса над опостылевшей Бог-рекой.
После трех с половиной лет, после великих трудов и многих опасностей, после долгого одиночества, когда по-настоящему можно было поговорить только с самим собой, Дамианос наконец вернулся домой, к своим.
Дела были закончены. Весь день он провел в канцелярии Сколы, отвечая на вопросы по сданному отчету. Рапорт прибыл в Константинополь на целую неделю раньше корабля, которому из-за осенней бури пришлось задержаться в Синопе. Но дром, превосходная курьерская почта, не зависел от непогоды, и документ был в положенные сроки доставлен по эстафете, двигавшейся в десять раз быстрее обычных путников. Сотрудники секретона успели изучить записи. Их вопросы были точными и по делу. К сожалению, председательствовал на разборе не сам пирофилакс, а протоканцелярий. Наверное, великий человек был занят чем-то более срочным. Северославянское направление, по старинке именовавшееся тавроскифским, не относилось к числу первостепенных. Арабское, болгарское, франкское, италийское, даже германское были важнее.
Ну и ладно. Пирофилаксу виднее.
Всякий раз, возвращаясь в родной город после задания, Дамианос узнавал о каких-то удивительных новшествах, усовершенствованиях и открытиях. За это он и любил Константинополь. Лучший город земли – единственный настоящий город земли – не стоял на месте. Он развивался, рос, на его благо трудились лучшие умы, сюда стягивались кровеносные сосуды и нервы всего цивилизованного мира.
В секретоне рассказали о поразительном нововведении. Теперь от границ, которым угрожают воинственные варвары востока, до Константинополя выстроены башни, поставленные на возвышенностях. По системе условных сигналов – днем механических, ночью световых – любая весть передается в столицу с немыслимой быстротой. Телеграммата, как называлось посланное издали донесение, преодолевает расстояние в пятьсот миль всего за один час! Больше никакие арабы не смогут, как в прежние времена, напасть на столицу внезапно. Поистине нет пределов величию и изобретательности человеческого разума!
Из тихого квартала Нерсеса, где находилась канцелярия Сколы, Дамианос вышел на Месу, Срединную улицу. Широкая, чистая, обрамленная тенистыми портиками (там лавки, питейные заведения, таверны), она была украшена колоннами и скульптурами. «Сколько труда, сколько вдохновения, в конце концов просто денег потрачено на это вроде бы бессмысленное расточительство, – думал Дамианос с блаженной улыбкой, странно смотревшейся на его сухом и обычно бесстрастном лице. – Но разве не в этом суть цивилизации? Необходимым довольствуются животные и варвары. Всякое развитие – это стремление к необязательному и излишнему».
У обелиска Миллий, от которого ведется отсчет расстояний в милях по всей огромной империи, он купил у торговца и с наслаждением, прямо на ходу, слопал дешевого «януса» – хрустящую лепешку, в которую засунуты две жареные рыбешки, а потом и облизал пальцы. Под порфирной, увенчанной крестом колонной Филадельфия, выпил виноградного сока со льдом.
Господи, сколько на улице народу! Он и забыл, что людей бывает так много. А ведь время рабочее, полуденное. Что здесь будет в день скачек на Ипподроме! Могут и расплющить.
Дома по мере удаления от центра становились грязнее и ниже – уже не в четыре этажа, в два. Исчезли статуи над портиками. Но город нравился Дамианосу и таким. Честно говоря, кривые улочки портовых районов и жилые кварталы, отодвинутые к самой крепостной стене, он любил даже больше, чем нарядный Стратегион или парадный Акрополь. Здесь обитали обыкновенные люди – те самые, ради блага которых создана Скола аминтесов. Всякому человеку нужен смысл жизни. У Дамианоса он был. В чем-в чем, а в этом сомневаться не приходилось.
Жаль, в городе доведется бывать нечасто. После долгого отсутствия полагалось пройти курс новых знаний в Академии. Скола существовала еще и для того, чтобы собирать по всему миру полезные сведения – такие, какие могли пригодиться аминтесам в работе. То есть, почти всякие.
Академия находилась в Элизии, обширном загородном поместье пирофилакса, в долине речки Ликус, среди фруктовых садов, кипарисовых рощ и зеленых лугов. В этом райском месте, равном которому нет на белом свете, Дамианос провел первую пору жизни. Там был дом, в котором он вырос. И в этом доме ждала мать. При мысли о том, что он увидит ее, проживет под ее кровом год, а если повезет, то и два, Дамианос снова улыбнулся. У него сегодня весь день был рот до ушей – будто губы хотели наулыбаться сразу за три с половиной года. Волхв суровых северичей не улыбался, веселость была бы ему не к лицу.
В обширном парке, густо засаженном деревьями, на недальнем расстоянии один от другого и всё же укромно, были разбросаны домики. Гимназион и Академия с их белокаменными колоннадами и террасами располагались дальше, на открытом пространстве, удобном для спортивных состязаний и полевых занятий, но здесь, в жилой части Элизия, было тенисто, тихо, уютно. Идя по безупречно выметенной дорожке, Дамианос оглядывался по сторонам. Казалось, некая волшебная сила собрала в одном месте жилища разных племен и народов, населяющих эйкумену. За дощатой болгарской хижиной, отгороженной кустарником, стояла небольшая римская вилла, потом – аравийский шатер, потом – германская бревенчатая изба с узкими оконцами. Все эти дома Дамианос видел и раньше, был знаком с их обитателями. Но серая войлочная кибитка появилась за время его отсутствия. Там поселилась женщина какого-то кочевого народа. Пирофилакс решил начать работу с Дикой Степью? Это интересно. Надо будет выяснить. Но потом, потом…
С каждым шагом всё сильней колотилось сердце. Оно у Дамианоса было твердое и холодное, будто кусок январского льда (иначе на такой службе не удержаться), но сейчас подтаивало, сочилось влагой. Оставалось всего три поворота дорожки.
На всем свете было только два человека, к кому он относился особенным образом: пирофилакс, который почти что и не человек, а высшее существо, и мать, рядом с которой ледяное сердце согревалось и оттаивало.
Мать. Тихая женщина, живущая под сенью ветвистых деревьев.
Для Всенежи пирофилакс не только выстроил дом ее родного края, но и велел высадить вокруг северные деревья: ели, липы, березы – как в лесах, где прошло ее детство.
У края лужайки Дамианос остановился, чтобы насладиться милой сердцу картиной.
Дом из бревен, под тесовой крышей с коньком, издали выглядел точь-в-точь таким же, как у древлян или северичей, от которых аминтес только что вернулся, но был аккуратнее срублен и, конечно, несравненно чище.
На резном крылечке (в настоящем славянском доме такое могло быть разве что у родового старейшины или нарочитого мужа) сидела, склонившись над рукодельем, женщина. Ее наряд тоже походил на обычные славянские – если смотреть издалека. Паньова была не грубого холста, а тонкой ткани; юбка-поножа не тускло-коричневая, а густого охристого оттенка; на ногах плетенки не из лыка, а из мягкой, выделанной кожи. Плат на голове и вовсе шелковый, когда-то привезенный сыном из хазарского Итиля.
Словно почувствовав взгляд, женщина подняла голову. Вскрикнула. Порывисто поднялась. С колен ярким дождиком просыпались разноцветные точечки, запрыгали по настилу крыльца.






