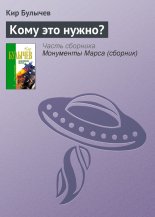Полет над разлукой Берсенева Анна

– Жалко, – сказал он. – За компанию оно б веселее.
– Девушка, когда заказ принесете? – раздалось из-за дальнего столика.
– Можно подумать, вам здесь выпить не с кем, – бросила Аля и, забыв про набриолиненного мыдлона, устремилась к другому столику. – Когда готов будет! – на всякий случай огрызнулась она на ходу, вспоминая, что заказ сделан уже давно и наверняка готов.
Впрочем, компания за этим столиком была не из опасных: скорее всего, студенты, решившие гульнуть на подработанные деньги. Сидели эти трое парней не шумно и о заказанном мясе спрашивали не нагло.
Мясо, конечно, было не просто готово, а давно готово; Аля принесла его остывшим, порадовавшись про себя непритязательности студентов и мгновенно забыв о них.
Ей и без них было кем заняться! В ночь с пятницы на субботу «Терра» гремела, сверкала, плясала и орала, как ни в какой другой день. И обслуживать клиентов надо было в этом же ритме – бешеном, стремительном, изматывающем.
Ей еще повезло, что недавно явившаяся «крыша» досталась на этот раз Ритке. За столиком в глубине зала, поближе к биллиарду, сидели двое, приходившие в «Терру» с завидной регулярностью каждую пятницу. С такой же завидной регулярностью они меняли спутниц, каждый раз приводя новых.
Когда три месяца назад Аля увидела их впервые, ей и в голову не пришло, кого она обслуживает. Сидели себе два мужичка, один совсем обыкновенный, приземистый, стриженый почти как браток, а второй даже более приличный – во всяком случае, одетый с претензией на вкус в неброский костюм от Армани. Одним словом, выглядели они, как большинство посетителей клуба, которые на вопрос о том, чем они занимаются, коротко отвечали: «Делаю деньги».
Аля даже решила, что от этих могут перепасть неплохие чаевые: обычно такие мыдлоны любили после третьей порции текилы излить душу официанточке и даже готовы были за это заплатить. Но обильно евшая и пившая парочка душу изливать не собиралась, а на принесенный Алей счет отреагировала ухмылками.
– Нас тут все знают, – объяснил браткообразный. – Кого хочешь спроси, усвоила?
Странные мыдлоны поднялись и вышли, не расплатившись, а к Але подошла Ксения.
– Ну что ты, Алюся? – проговорила она голосом пантеры Багиры и сверкнула узкими зелеными глазами. – Это ж «крыша» наша, что ты, ей-богу, как младенец?
Аля даже покраснела от возмущения.
– Не могла сказать? – Она почувствовала, что глаза у нее тоже сузились. – Нравится дурой меня выставить?
– Не дурой выставить, а поучить, – спокойно возразила Ксения. – Я же без зла. Что «крыша», что налоговые – те и другие бесплатно жрут, запоминай.
Урок был не жестокий, но противный. И вот сегодня те же двое сидели за тем же столиком и так же невозмутимо поглощали самые дорогие блюда и напитки. Удивляться приходилось только их новым спутницам – вернее, неизменности их выбора: ни разу они не привели с собой женщин, хоть немного похожих на шлюх. Вот и на этот раз за столиком сидели интеллигентные, милые девочки – наверняка студенточки – и поглядывали на своих спутников с живым интересом, и улыбались, и смеялись… Але так и хотелось бросить на ходу: «Девчонки, что ж вы, это же обыкновенные бандиты!»
Неизвестно было только, как повели бы себя девочки при таком известии. А может быть, они и так прекрасно об этом знали.
Когда Аля пришла в «Терру» впервые, ее смущало только одно: удастся ли сохранить невозмутимость, встретившись с какими-нибудь старыми знакомыми «по разные стороны баррикад»?
Она не понаслышке знала ночную, тусовочную жизнь Москвы. Во всей этой шумной круговерти не было ничего, что могло бы ее привлечь. Не зря она за все время учебы в ГИТИСе не сходила ни на одну дискотеку, ни в один ночной клуб, вызывая недоумение однокурсников.
Аля не собиралась больше украшать собою богемно-бизнесменские компании, как когда-то говорил Илья. Но ведь и не предполагала, что придется принимать во всем этом участие в качестве официантки…
Хорошо еще, что «Терра инкогнита» была клубом средней руки, к тому же сравнительно новым, поэтому здесь не приходилось ожидать встречи с Ильей. Что мелькнет в его прозрачных глазах, если он увидит Алю, бегающую с подносом между столиками? Не дай бог, сочувствие или торжество!..
Все остальные взгляды и мнения были ей в общем-то безразличны. Да и не было ничего особенного в том, что студентка ГИТИСа подрабатывает официанткой: это был едва ли не самый распространенный вид заработка не только среди студенток, но и среди молодых актрис.
Правда, к Але отношение могло быть особое. Кто-нибудь из прежних знакомых непременно покрутит пальцем у виска, увидев ее во второразрядном клубе и вспомнив, кем она могла быть, если бы не дурацкие амбиции.
Первой знакомой, которую довелось встретить в «Терре», оказалась Нателла.
Вообще-то Аля уже и забыть ее успела, таким недолгим и давнишним было их знакомство. Она и фамилию ее не могла вспомнить… Да и трудно было узнать в увядшей, тщетно пытающейся выглядеть привлекательной женщине прежнюю Нателлу, с ее вызывающей эффектностью. В той красивой певичке, как метеор мелькнувшей на Алином горизонте, даже пороки казались привлекательными: будоражил душу чуть надтреснутый голос, притягивал взгляды хмельной румянец и блеск в глазах…
Теперь пороки перешли ту черту, за которой их вид вызывает жалость и неловкость.
Аля узнала ее по голосу – вернее, по остаткам прежнего голоса, разбитости которого не могла скрыть плохая аппаратура очередной попсовой группы. Нателла пела по очереди с еще одним солистом, совсем мальчишкой, голос которого был изначально безнадежен. Дело было в понедельник, когда в «Терру» приглашались самые захудалые исполнители.
Когда она отдыхала перед следующей песней, даже издалека было видно, как застыло смотрят в одну точку ее большие черные глаза.
Когда программа наконец кончилась, Аля сама подошла к Нателле, думая, что придется долго напоминать, кто она и где они виделись. Но, к ее удивлению, та узнала ее сразу – и обрадовалась так, как будто встретила родственницу или лучшую подругу.
– Ну конечно, не забыла! – воскликнула Нателла, спрыгивая с невысокой эстрады. – А я думала, куда это ты исчезла? Это сколько лет уже прошло?
По тому, как она покачнулась, спрыгнув с высоты полуметра, по судорожно-вялому движению, которым попыталась удержать равновесие, Аля поняла, что жизнь этой когда-то очаровательной певички изменилась необратимо.
«Прав был Илья, – подумала она. – Не стоило связываться… Ее и трезвой-то не застанешь».
Илья всегда бывал прав. И тогда, когда отказался раскручивать многообещающую Нателлу, несмотря на ее голос, выигрышную внешность и победу в престижном конкурсе. И когда сказал Веньке, что больше не будет давать ему деньги и пусть сам выпутывается из своих проблем… Он всегда был прав, но именно благодаря ему Аля на всю жизнь возненавидела само понятие справедливости.
– Три года прошло, – ответила она. – Как твои дела?
Ей не хотелось Нателлиных вопросов, и она поспешила их предупредить своим.
– А разве не видно? – усмехнулась та. – По-моему, все ясно.
– Д-да… – промямлила Аля, не ожидавшая такого прямого ответа. – Напарник твой… не очень-то.
– Да и я не лучше. Это я еще подлечилась недавно, пока держусь более-менее, по крайней мере не на игле. Все-таки живой хмель полегче! А ты работаешь здесь?
Аля не успела ответить. Какой-то мыдлон с маслеными глазками подошел к Нателле, по-хозяйски взял за локоть, и она послушно пошла за ним к бару, рядом с которым расположилась пьяная компания. Тут Алю окликнули из-за столика, и она не успела даже понять, знакомый ли так бесцеремонно подозвал Нателлу, или она идет теперь ко всякому, кто предъявит на нее права.
Лучше было об этом не думать.
Аля удивилась, когда Нателла снова появилась в зале – уже под утро, перед самым закрытием.
Официантки собирали посуду, охранники тормошили пьяного клиента, мешком обвисшего на стуле, потом плюнули и оставили его отсыпаться.
– Случилось что-нибудь? – спросила Аля, увидев Нателлу, идущую к ней через пустой зал.
– Да так… Выпить еще захотелось, а папики уже отрубились. Нальешь?
До тоски знакомым духом повеяло от этих слов и от собачьего выражения в ее глазах! Той жизнью, от которой Аля отшатнулась, как от страшного омута.
– Налью, – кивнула она. – Что пить будешь?
– Да водки, чего там рассусоливать. Выпьешь со мной?
Аля принесла из бара белого вина себе и водки Нателле, и они сели за столик в углу.
– А ты, значит, официанткой, – повторила Нателла. – Я вообще-то слышала, что вы с Илюшей разбежались. А его-то что ж не видно?
– Он, наверное, в Америке еще, – секунду помедлив, ответила Аля. – Ему мать контракт устроила, она же там давно. Он фильм, кажется, какой-то снимал или клипы… Не знаю точно.
– Ну и хер с ним, – подытожила Нателла. – Пошли бы они все! Ты, Алька, о нем не жалей, все они говно.
– Кто это – все? – улыбнулась Аля.
– Да мужики наши, кто еще. – Она даже ладонью пристукнула по столу для убедительности. – Ведь не на кого взгляд кинуть, разве нет? Все говно, пальцем ткни – завоняют. А который поприличнее – тот, пожалуйста, голубой. Не-ет… – Она пьяно покачала головой, залпом допила водку. – По мне, так я бы с ними не то что в койку – на одном поле не села бы… Хоть он там продюсер, хоть звезда, хоть кто. Смотреть не на что, а строят из себя – куда там! Уж лучше найти себе папика, и все дела. Ты даешь, он платит, все честно, все довольны, и без этих штучек про любовь да про совместное творчество. Что, не так разве?
– Так, – ответила Аля, чтобы не углубляться в эту тему. – И что, нашла?
– Да где ж его найдешь? – невесело усмехнулась Нателла. – Они ж импотенты все, бизнесмены-то, им только бабки срубить да нажраться поскорее – зачем им женщина? А если не импотент, так у него жена-юристка и любовница-моделька. Слушай, – вдруг словно вспомнила она, – а у тебя тут никого нет на примете? В смысле, для меня? Я без претензий, как кошка, ей-богу!
Она ухмыльнулась так криво и так судорожно сглотнула, что Але стало противно, несмотря на жалость.
– Да я только что устроилась, – ответила она. – Еще не знаю никого. Я в ГИТИСе вообще-то учусь, – зачем-то добавила она.
– Ну, если что появится перспективное – звони, – сказала Нателла, пропустив мимо ушей ГИТИС. – Я в Чертанове квартиру снимаю.
Она записала на салфетке свой телефон и, на всякий случай еще раз опрокинув пустую рюмку, встала из-за стола.
Глядя, как идет она к выходу нетвердой походкой, Аля вздрогнула. На мгновение ей показалось, что прежняя жизнь, почти забытая за эти годы, снова берет над нею власть.
Сумасшедшая ночь заканчивалась в пятницу позже, чем обычно. Аля уже предвкушала тот долгожданный миг, когда она доберется наконец до дому, примет душ, упадет в кровать и будет спать почти до вечера. Вечером в Учебном театре ГИТИСа шел карталовский спектакль по Мольеру, но она была занята только в эпизоде, так что можно было особенно не волноваться.
До самого вечера ей предстояли только мелкие радости, но, поработав ночной официанткой, Аля научилась ценить и их.
Картина ближайших десяти часов выстроилась в ее мозгу так отчетливо, что разрушить ее могло бы разве что землетрясение. Она наблюдала, как постепенно пустеет зал, и считала минуты.
Давно уже ушла компания студентов, вогнав ее напоследок в краску: расплачиваясь, парень дал вполне приличные чаевые. Аля вспомнила, как принесла им холодное мясо, да и то после напоминания, как не торопилась высыпать окурки из пепельницы…
– Не надо, ребята, зачем? – пробормотала она. – Я вообще-то не очень вами занималась…
– Да ладно, девушка, мы же понимаем, – успокоил второй, в очках с сильными стеклами. – Вам сегодня круто пришлось.
«А этот, набриолиненный, ни копейки небось не даст! – со злостью то ли на мыдлона, то ли на себя подумала Аля. – Нажрался как свинья, не отвалит никак!»
Клиент, которому она в самом начале вечера принесла три джина, к утру действительно имел плачевный вид. Правда, он не падал лицом в тарелку, но трудно было представить, как он будет добираться до дому. Головой он опирался на руку, голова то и дело соскальзывала с его сжатого кулака, и даже тщательно уложенные волосы теперь выглядели растрепанными.
– Д-девушка! – позвал он, хлопая себя по карманам в поисках бумажника. – Девушка, давай счет…
Стоя над ним, Аля ждала, пока он выудит из бумажника купюры, и почти с ненавистью смотрела на его лысеющую макушку.
– Эт-ти, что ли? – произнес он, наконец справившись с собственным бумажником. – Отсчитай, сколько там, и себе… Тебя как зовут?
– Какая разница? – поморщилась Аля. – Ну, Александра, все равно ты через пять минут забудешь.
Но особенно хамить не хотелось: все-таки чаевые он дал, а что напился – так ведь не наблевал, и на том спасибо.
– С-слушай, Саш-ша, как же я домой-то доберусь? – пробормотал он вопросительно. – Я ж за рулем?..
– А я при чем? – пожала плечами Аля.
– Ну, все-таки… Ты ж мне тройной джин принесла вместо один к трем, вот и покатилось, а я вообще-то просто так заскочил, на полчаса. Как я теперь отсюда выберусь?
– Не знаю, – сказала Аля, отходя от столика. – Твои проблемы.
Но все-таки ей стало неловко. Ведь действительно: она перепутала заказ, принесла ему тройной джин, и, выходит, из-за нее он завелся. Но что ж теперь? Самое большое, что она может для него сделать, – попросить ребят из охраны, чтобы дали ему отоспаться. Это было обычным делом: если охранники видели, что мыдлон безвредно спит за столиком, и обнаруживали при этом, что деньги он просадил до рубля и на тачку не осталось, – они вполне могли его не трогать, пока он не проявит первые признаки жизни.
Аля уже собиралась предложить ему этот вариант и поскорей отправиться к барной стойке с выручкой за спиртное, когда он снова обратился к ней:
– Слышь, а ты машину случайно не водишь? А то б добросила до дому.
– Вот нахал! – возмутилась было Аля.
И тут же представила вдруг, что садится за руль…
Она три года не водила машину и даже как-то не думала об этом. И надо же – при словах какого-то пьяного мыдлона у нее прямо зубы свело от желания и в самом деле сесть за руль, проехать по пустынным утренним улицам, ощутить, как машина слушается каждого ее движения…
Когда Илья учил ее водить, она и предположить не могла, как понравится ей это нехитрое занятие! И только научившись делать это легко, без напряжения, Аля с удивлением поняла, что проведенные за рулем часы стали едва ли не лучшими в ее тогдашней жизни.
Ей нравилось собственное одиночество, когда она ехала по вечернему городу и ветер врывался в приоткрытое окно кабины, нравились ясные и мимолетные образы, с которыми она оставалась наедине, нравилось произносить какие-то невообразимые монологи, которых никто не услышит…
Сейчас Аля думала, что именно тогда чувствовала себя актрисой. А может быть, все было проще: в ее отношениях с Ильей уже произошел надлом, и ей все меньше хотелось оставаться с ним наедине.
– Ты ключи-то хоть не потерял? – неожиданно для себя спросила она.
– Вот, – с готовностью ответил мыдлон, звеня в кармане ключами. – А что, правда, подбросишь?
Кажется, он даже протрезвел слегка.
– Сиди уж, жди, – ответила Аля. – В самом деле ведь виновата. Споила, можно сказать, трезвенника!
– Меня Рома зовут, – представился он, когда они оказались на улице, хотя Аля даже не спросила его имени. – А тачка – во-он она.
Аля ожидала увидеть «Жигули» или подержанный «Фольксваген»: мыдлон не производил впечатления особо крутого товарища. И на бандита не был похож, так что какого-нибудь навороченного джипа или «БМВ» тоже ожидать не приходилось. Поэтому она удивилась, увидев припаркованную рядом со входом темно-зеленую «Вольво». Слишком уж хороша была машина для этого размякшего типа.
– А ты не перепутал? – недоверчиво спросила она. – Может, твою угнали уже?
– Сплюнь, – обиделся Рома. – Что я, по-твоему, совсем лох?
– Ладно, крутизна, садись, – улыбнулась Аля, открывая водительскую дверцу. – Куда едем?
– Домой, – ответил он, плюхаясь на переднее сидение. – На Удальцова. Знаешь где?
– Поищу, – отмахнулась от него Аля.
Ей было так хорошо, так легко – совсем не до него! Она снова чувствовала себя в том блаженном одиночестве посреди Москвы, которое так любила когда-то. Весь город раскинулся перед нею, полный счастливого ожидания, ей хотелось кануть в эти огромные объятия, в ее власти было выбрать, куда отправиться… Даже жаль, что улица Удальцова недалеко!
Она поехала вдоль набережной к Киевскому вокзалу. Рому сразу развезло от тепла печки и от мерного движения, он уткнулся носом в воротник фиолетового кашемирового пальто и задремал; его присутствие было совершенно неощутимо. И Аля с удовольствием чувствовала, как слушается руля легкая «вольвушка», как несется она по пустой набережной, лихо разбрызгивая коричневую грязь.
Ей хотелось продлить это удовольствие, и она поехала медленнее – глядя, как вырастает впереди серая громада МИДа. Чтобы удлинить дорогу, она проехала мимо Новодевичьего монастыря, подумав мимоходом, что почему-то ни разу не удосужилась погулять здесь, хотя когда-то, еще во время школьной экскурсии, ей очень понравилась эта тихая местность – Пироговские улицы, памятники врачам в скверах перед институтскими клиниками…
Первые торговцы уже парковали машины, выгружали товар возле рынка в Лужниках, и Аля поспешила проехать дальше: ей нравилась ранняя утренняя пустота Москвы, даже ноябрьская мокрая мгла не портила впечатления.
Еще одна высотка – университет – показалась впереди. Она была совсем не похожа на МИД; вся Москва была не похожа на себя, и вся Москва была прекрасна.
– Проснись, эй, подъезжаем. – Притормозив уже на Мичуринском проспекте, Аля толкнула своего незадачливого спутника. – Куда по Удальцова-то ехать?
Она с трудом добудилась чертова Рому, даже остановиться пришлось у обочины, чтобы добиться, где он живет.
Жил он в самом начале улицы Удальцова. Не меньше, чем «вольвушке», Аля удивилась респектабельности стоящего немного на отшибе многоэтажного дома из желтого кирпича.
«Откуда что берется? – мимоходом подумала она. – Ну и времечко!»
Впрочем, особенно удивляться не приходилось: почти вся ее сознательная жизнь прошла в этом самом времечке, и она привыкла спокойно встречать его замысловатые повороты.
– Все, командир, приехали, – сказала она, с сожалением притормаживая у подъезда.
«Командир» уже успел задремать снова.
– Вот что, – рассердилась Аля, – прислуга я тебе, что ли? Держи ключи и будь здоров! Проспишься – сам вылезешь.
– Погоди, п-постой!.. – Наверное, его разбудили не столько ее слова, сколько сердитые интонации. – Как тебя… С-саша… Ты хоть п-подымись ко мне, что ли… Куда ты, а?
– «П-подымись, С-саша!» – передразнила она. – Сам ты С-саша! Лужицу не надо за тобой подтереть?
Сердиться, конечно, следовало только на себя.
«Ну, не дура? – подумала Аля, громко хлопая дверцей. – Куда поехала, зачем? На машинке захотелось покататься! Вот и пили теперь через весь город. Идиот этот пьяный даже денег на такси не удосужился выдать! Да что им, они о таких мелочах и не думают, привыкли к обслуге!»
Вместо спокойного сна в своей кровати теперь предстояло добираться с Юго-Запада на Северо-Запад. И такси было не взять. Деньги, так неприлично заработанные сегодня на безропотных студентах, надо было срочно вернуть Линке, которой Аля уже неделю была должна.
Она пошла по темной улице, сердясь на себя, чувствуя, что протекают сапоги, что волосы снова мокнут от незаметно пошедшего снега… Потом представила, как открывает дверь, входит в пустую квартиру – и неожиданно заплакала.
Глава 4
Между занятиями сценической пластикой и читкой новой пьесы, назначенной Карталовым на шесть вечера, промежуток был ровно сорок минут. За это время можно было добраться от ГИТИСа до Подколокольного переулка, где находился карталовский театр, и не отойти от того состояния, в котором Аля всегда находилась после занятий с Иовенко.
Вообще-то сценическая пластика – это было привычно, ею занимались с первого курса, и Аля всегда любила ее больше других дисциплин. Но только теперь, перед самым окончанием института, с карталовскими студентами начал заниматься Георгий Иовенко – тот самый, что работал с лучшими актерами и режиссерами, имя которого в театральной и киношной среде произносили с придыханием. Неизвестно, как удалось Карталову уговорить мастера, каждый час работы которого был драгоценен. Впрочем, Павел Матвеевич умел совершать невозможное, когда это было жизненно необходимо.
В том, что заниматься с Иовенко жизненно необходимо, Аля поняла на первом же занятии. Это было что-то совершенно особенное, никогда ею прежде не виданное. А ведь она считалась лучшей по сценпластике и сама была уверена, что прекрасно владеет своим телом, умеет движением выразить любое чувство.
Она и с Ильей так познакомилась: он шел по коридору ГИТИСа, а она сидела на подоконнике, ожидая результатов первого тура, и все ее тело выражало полное отчаяние… Он сам сказал ей в первую их ночь: «Вот здесь оно у тебя даже было, отчаяние!» – засмеялся и поцеловал ямочку на сгибе ее локтя.
Иовенко перевернул все ее представления о собственных возможностях. Аля вдруг поняла, что не умеет ничего, и вместе с тем – что в ней скрыты силы, которых она в себе даже не предполагала.
Она вспомнила, как на первом же занятии он ошеломил ее предложением сыграть Отелло.
– Но почему Отелло? – поразилась тогда Аля.
– А почему бы и нет? – Иовенко смотрел на нее с недоумением, словно не понимая, что же странного можно усмотреть в его идее; он был похож на стрекозу – гибкий, с огромными выпуклыми глазами. – Сара Бернар играла ведь Гамлета. А вас я прошу: постарайтесь найти то движение, из которого для вас вырастет вся роль, понимаете?
И вот она бежала по Солянке к Подколокольному переулку – к Театру на Хитровке, который в ГИТИСе часто называли «У Карталова на куличках». Так уж это место называлось – Хитровка, Кулижки, – поэтому возможностей для подшучивания было предостаточно. Актеров, например, в глаза и за глаза называли хитрованцами и при случае спрашивали, когда же они возьмутся за «На дне» – по месту, так сказать, обитания.
Район был старый, странный и, наверное, красивый, но рассмотреть его получше вечно было некогда. Аля пробегала мимо башни Ивановского монастыря, мимо церкви Владимира в Старых Садах, мимо Опекунского совета и не всегда могла вспомнить, как это все называется, хотя на зданиях висели мемориальные доски.
Сегодня Карталов впервые пригласил ее на читку пьесы в своем театре, и все ее мысли были только об этом.
Алю давно смущало: почему Карталов ограничивает ее ролями в студенческих спектаклях и не дает сыграть даже самого маленького эпизода у себя, в профессиональном театре? Ведь, кажется, она его любимая ученица… Никогда не поймешь, что у него на уме, какое чувство поблескивает в его глазах под густыми бровями – одобрение или недовольство.
С улицы здание театра казалось таким маленьким, что непонятно было: где там вообще может поместиться зрительный зал? Но, наверное, архитектор начала века, имя которого Аля забыла, владел секретом пространства. Несмотря на постоянные перестройки, в доме на Хитровке за последние семьдесят лет размещалось все, от бесчисленных контор до кинотеатра, – сохранился и зал, и довольно просторное фойе, нашлось место для мастерских, гримерных и репетиционных комнат.
Актеры уже собрались в репетиционной; Аля едва не опоздала. Все на их курсе знали, что хитрованцы настороженно относятся к нынешним карталовским студентам, без пяти минут выпускникам. В этом не было ничего удивительного: вся труппа состояла из прошлого выпуска Павла Матвеевича в ГИТИСе, и молодые актеры хорошо представляли, какой недолгой может быть с его помощью дорога от безвестных выпускников театрального вуза до обласканных вниманием прессы новых звезд. А недавний триумф хитрованцев на престижном театральном фестивале в Авиньоне только подтвердил это.
Конечно, как им было не относиться с настороженностью к новым выпускникам – потенциальным конкурентам!
Все это Аля знала и поэтому не слишком обольщалась радостными приветствиями, которыми ее встретили хитрованцы. Едва ли кто-нибудь действительно был ей здесь рад…
Карталов вошел через две минуты после нее. Она почувствовала, как привычно вздрогнуло сердце, когда он показался в дверях, прошел, прихрамывая, на свое место во главе длинного стола.
Наверное, мало у какой счастливой возлюбленной так вздрагивало сердце при виде любимого, как у нее при виде этого удивительного человека, одно появление которого обещало праздник!
Наполненность жизнью, которую она почувствовала в нем с первого дня, которая сразу поразила ее в немолодом, усталом и вместе с тем совершенно юном человеке, никуда не исчезла и теперь. И теперь ей, словно впервые, показалось, что горячая волна покатилась от него по комнате, подхватив и ее, Алю.
– Итак, «Сонечка и Казанова», – сказал Карталов. – По цветаевской «Повести о Сонечке», по ее пьесам, эссе, дневникам и письмам. Моя композиция, как вы догадываетесь.
К Алиному удивлению, он не стал ничего рассказывать о пьесе – просто начал читать. А в ГИТИСе Карталов всегда начинал с рассказа – о пьесе, или об авторе, или о том, каким видит спектакль, или обо всем этом вместе. Здесь все было иначе, и Аля слегка растерялась…
Голос у него был глуховатый, но наполненный таким множеством интонаций, что, пожалуй, он мог бы и не говорить, кому из героев принадлежат реплики: это и так было понятно.
Это была пьеса о любви – конечно, о любви, несомненно! Аля одного не могла понять: почему же пьеса о любви вызывает у нее такую растерянность? Она словно в бездну какую-то заглядывала, вслушиваясь в карталовский голос, произносящий слова Марины, ее подруги Сонечки, Казановы, влюбленной в него девочки Франциски, – и ей становилось страшно.
«Зачем он меня позвал? – мелькнуло у нее в голове, пока он переворачивал страницу. – Я ничего не понимаю, это слишком сложно для меня! Кого же я могу здесь играть?»
Вся самоуверенность, с которой она шла на первую свою читку в театре, улетучилась как утренний туман. Але вдруг показалось, что она не умеет абсолютно ничего… Как играть стихи, да еще эти, цветаевские, которые и просто прочитать нелегко?
Она незаметно поглядывала на сидящую рядом премьершу Нину Вербицкую. Неужели той все понятно, неужели она не испытывает и тени страха перед глубиной и сложностью этих чувств?
Но Нина сидела совершенно неподвижно, и ее выразительный, неправильный профиль выглядел как отчеканенный на римской монете. Руки с длинными гибкими пальцами тоже неподвижно лежали на столе. Только трепетала от дыхания пышная рыжая челка над высоким лбом.
Аля физически ощутила Нинину нацеленную сосредоточенность: та словно порами кожи впитывала в себя каждое слово Карталова. Ей предстояло играть главную роль, она это знала и готовилась к этому уже сейчас, впервые слушая пьесу. Можно было только позавидовать ее умению вот так, сразу, собрать все силы, пропитаться каждым словом и чувством режиссера…
Но Аля даже и позавидовать сейчас не могла – так она растерялась. Она едва улавливала смысл пьесы, пробиваясь к нему сквозь порывистые, мучительные цветаевские монологи, и даже обрадовалась, когда читка была окончена.
Она вздрогнула от неожиданности, услышав голос Карталова:
– Алечка, задержись на минуту.
Все актеры уже вышли из репетиционной, а он продолжал сидеть. Прежде чем обернуться к нему, Аля увидела, как напряглась спина Нины Вербицкой, замешкавшейся в дверях.
– Ты поняла, зачем я тебя позвал? – спросил Карталов, когда Аля вернулась к длинному столу.
– По правде говоря, не очень, Павел Матвеевич, – вздохнула она. – Мне было страшновато.
Улыбка мелькнула в его глубоко, как у Льва Толстого, посаженных глазах. Но он не улыбнулся, а спокойно произнес:
– Я хочу, чтобы ты сыграла Марину.
Если бы Аля не сидела в этот момент, а стояла, то ноги у нее наверняка подкосились бы от его слов. Конечно, она пыталась представить, кого могла бы сыграть. В спектакле должно быть занято много актеров, они будут танцевать, конечно, это она сможет… Но Марину!
– Но… как это, Павел Матвеевич? – растерянно произнесла она. – Я – Марину? Да я, честно говоря, не поняла почти ничего!
Последние слова вырвались у нее непроизвольно, от растерянности. Карталов засмеялся.
– Ну и хорошо, – сказал он. – Не поняла – и отлично!
– Что ж хорошего? – Аля сама невольно улыбнулась в ответ на его заразительный смех, хотя ей было стыдно за себя. – Сидела же, слушала как все…
– А по-твоему, я бы обрадовался, если б ты мне бодренько отрапортовала: все понятно, шеф, бу сделано? – поинтересовался он. – Мне кажется, ты должна понять. И воли у тебя должно хватить. Если я сам правильно тебя понял за эти годы.
Его слова не были похвалой, но они были Але приятны. Карталов вообще умел простые вещи говорить так, что они звучали необыкновенно.
– Но я… Я ведь вообще-то не очень стихи Цветаевой люблю, – сказала она. – То есть просто не очень понимаю. И как их читать, как играть? Я не чувствую…
– Вот этим мы с тобой и займемся, – ответил он. – Что ж, Алечка, я тебя оповестил – и больше пока не задерживаю. Размышляй!
В глазах его снова мелькнула усмешка.
«Хорошо ему смеяться! – подумала Аля. – А я теперь ночь спать не буду… Это тебе не две реплики в водевиле – главная роль в трагедии!»
– А Нина? – вдруг вспомнила она, уже поднявшись из-за стола. – Я ведь думала, что она будет Марину играть.
– Нина и так занята во всем репертуаре, – с прежней невозмутимостью ответил Карталов. – Или ты ее ревности боишься?
Аля только пробормотала в ответ что-то невнятное и, торопливо простившись, вышла из репетиционной.
На нее словно лавина обрушилась. Играть в его театре – единственной со всего курса! – да еще главную роль, да еще ту, которую наверняка готовилась играть Вербицкая… Было от чего испугаться!
Было от чего испугаться – но ведь было и чему обрадоваться! Аля сама не заметила, как ее испуг сменился радостью – еще прежде, чем она дошла до конца узкого коридора, в который выходили двери гримерных.
Ей предстояла роль, которой она пока не могла себе представить, – а значит, предстояла жизнь, которой она не могла себе представить. И эта предстоящая жизнь уже была в ее душе сильнее, чем тусклая обыденность, в которой она барахталась как в болоте, без радости и смысла. Эта предстоящая, еще не прожитая жизнь была единственной, ради которой стоило просыпаться по утрам, с мыслью о которой стоило засыпать ночью, которая была достойна того, чтобы привидеться во сне…
Эта жизнь была так прекрасна, что у Али дыхание занялось, и она остановилась прямо посередине пустого фойе. Она хотела этой жизни, она от многого ради нее отказалась – и наконец Карталов пообещал ее, и эта непрожитая жизнь подступила к самому сердцу.
Она действительно не могла уснуть, хотя следующую ночь предстояло работать в «Терре», да и день не обещал быть легким, так что по-хорошему надо было бы выспаться как следует.
Аля читала Цветаеву, наугад открывая белый двухтомник, когда-то в качестве огромного дефицита подаренный маме благодарной пациенткой. Она читала и не могла понять, что чувствует при этом. Смятение – это точно, но что, кроме смятения?
Как играть человека, если заведомо знаешь, что он несравнимо больше тебя, огромнее, мощнее? Можно ли показать, как ходит, говорит, улыбается, сердится женщина, написавшая эти строки?..
Единственной зацепкой были стихи, написанные Цветаевой в Крыму: их Аля почувствовала сразу, без объяснений. Сразу вспоминался Коктебель, лиловые силуэты гор Янычаров, скала Хамелеон, тяжело лежащая в море и меняющая цвет тысячу раз на дню. И прозрение собственной судьбы, которое пришло к ней именно там, в Коктебеле, – та готовность защищать свою душу, без которой невозможно выдержать жизнь.
К середине ночи, когда Аля наконец выключила свет, голова у нее горела, глаза не закрывались, как будто крошки были насыпаны под воспаленные веки, и вместо бодрящего кофе впору было пить валерьянку.
«Не усну, – подумала она. – Везет же, у кого канаты вместо нервов».
Едва она это подумала, как почувствовала наконец, что голова у нее туманится, делается тяжелой, словно вдавливается в подушку. Но сон не подхватил ее, унося на легкой лодочке, как это бывало обычно, а навалился душной тяжестью.
Она вообще не могла понять, что с ней происходит – сон это или явь? Тяжесть она ощущала просто физическую, да и все ее ощущения были физическими, отчетливыми. И все-таки то состояние, в которое она погружалась все глубже, невозможно было назвать бодрствованием; она засыпала…
Видения, мелькавшие в ее воспаленной голове, никак не были связаны ни с книгой, которую она только что читала, ни с каким-нибудь событием сегодняшнего дня. Але казалось, будто чьи-то руки обнимают ее, чьи-то губы торопливо, жадно касаются ее груди. Она чувствовала это дыхание, от которого, как от холода, сжимались соски, чувствовала страстные, до боли, прикосновения.
Кто-то чужой, незнакомый держал ее тело в своих руках, и она должна была бы испугаться. Но главная странность заключалась в том, что она чувствовала не страх, не растерянность даже, а только бешеное, неуемное желание: чтобы объятия были крепче, чтобы не одни только руки этого неведомого человека прикасались к ней, а все его тело, которое казалось ей горячим, огромным.
Вдруг она почувствовала, что это и происходит с нею: сбывается желание, и вся она подмята тяжестью чужого мощного тела. Потом она ощутила эту тяжесть в себе, у себя внутри. Ноги ее судорожно дернулись, раздвинулись. И опять ей хотелось одного: чтобы это странное томленье не кончалось, длилось бесконечно, все глубже пронзая ее забытое мужчинами и забывшее их тело.
Ей хотелось вскрикнуть, но вместо крика долгий, сладкий стон прозвучал в тишине комнаты так отчетливо, что она услышала его уже не во сне и не в забытьи, а наяву. Услышала – и тут же испугалась, что сейчас проснется, и кончится эта сладкая тяжесть, и она не успеет… Ей нравилась медлительность истомы, как нравилась тяжесть этого чужого, несуществующего мужчины, которому она подчинялась вся.
Тело ее вздрагивало все сильнее, билось в призрачных, но таких ощутимых объятиях, приподнимаясь им навстречу и снова падая на горячую постель.
Наконец она почувствовала, что больше не может выдерживать этого напряжения, что огонь у нее внутри становится мучительным, невыносимым… И вдруг он вспыхнул в ней последней вспышкой, она вскрикнула – и тут же тепло разлилось по всему ее телу, начинаясь между раздвинутых ног и достигая каждой возбужденной его клетки.
Теперь она действительно проваливалась в теплую, успокоительную пустоту – тяжело дыша, чувствуя капли пота у себя на лбу и на свинцовых, неподъемных веках.
Утром Аля проснулась в таком состоянии, что впору было не день начинать, а приходить в себя, как после тяжелого труда. Все тело у нее болело, как будто черти горох на ней молотили, ныли кости, а кожа саднила, как после ожога. И не было сил даже на то, чтобы оторвать голову от подушки.
День тоже не принес облегчения: Аля чувствовала себя сомнамбулой и, придя в ГИТИС, смотрела на всех бессмысленными глазами.
– Слушай, да проснись ты наконец! – разозлился на нее однокурсник Антон. – Ты что, хочешь, чтоб я провалился?
Антон Пташников шел показываться в Маяковку и попросил Алю подыграть ему в отрывке из какой-то современной пьесы. Она, конечно, согласилась, и они даже репетировали несколько раз, но сейчас все это начисто вылетело у нее из головы. Она еле шевелила губами и двигалась настолько вяло, что на нее смотреть было тошно.
– Учти, не возьмут – ты будешь виновата, – нервно сказал Пташников. – Ты реплики так подаешь, что в двух шагах не слышно!
– Антоша, ну не сердись, – попросила Аля. – Это же не я показываюсь, а ты, какая разница, как я буду играть? Тебе же лучше.
– Интересное дело! – еще больше обиделся тот. – Выходит, по-твоему, я только на фоне снулой рыбы хорошо выгляжу?
Аля прикусила язык: действительно, глупость сморозила. Правда, обиженный Антон попал в самую точку: он всегда играл тускло, и, будь Аля в хорошей форме, она оказала бы ему плохую услугу на просмотре в Маяковке, куда он надеялся попасть.
Конечно, она понимала причину своего безумного видения. Только полная дура не поняла бы, почему молодой одинокой женщине мерещится все это в ночной тишине и почему она наутро просыпается разбитая, с отвращением к себе.
Это было единственное чувство, которое Аля к себе сейчас испытывала.
К вечеру, когда она наконец добралась до «Терры», ей хотелось только одного: вздремнуть где-нибудь в укромном уголке.
Минуты до прихода мыдлонов тянулись медленно, казались часами, часы – вечностью. Аля никогда не была в восторге от «Терры», но в этот вечер ее раздражала здесь каждая мелочь, даже убогий голосок очередного певца.
Барменша Ксения орала на официантку Люду из-за того, что та медленно приносит в бар чистые стаканы. Люда устроилась всего неделю назад, считала, что ей несказанно повезло с работой, и была уверена, что ее в любую минуту могут выгнать. До «Терры» она работала продавщицей в киоске, потом хозяин-азербайджанец купил мини-маркет, палатку свою продал, а Люду пристроил официанткой в ночной клуб.
– Чего это, девочки, стоило, лучше не вспоминать, – мрачно и брезгливо улыбалась она.