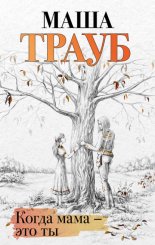Весь невидимый нам свет Дорр Энтони

Однако он поступает. Через пять дней после его возвращения из Эссена почтальон приносит в сиротский дом письмо и передает лично в руки Вернеру. Жесткий конверт с орлом и свастикой. Без марки. Как депеша от Бога.
Фрау Елена стирает. Младшие мальчики сгрудились вокруг нового приемника: слушают получасовую программу «Детский клуб». Ютта и Клаудиа Фёрстер повели трех младших девочек на ярмарочное кукольное представление; Ютта с самого возвращения Вернера не сказала ему и десяти слов.
«Ты призван», — говорится в письме. Вернеру указано прибыть в Учреждение национал-политического образования № 6 в Шульпфорте. Он стоит в гостиной сиротского дома, пытаясь осознать новость. Стены в трещинах, лупящийся потолок, две скамьи, на которых одни сироты сменяют других, сколько существует шахта. Он сумел отсюда выбраться.
Шульпфорта. Крохотная точка на карте возле Наумбурга, в Саксонии. Триста километров к востоку. Лишь в самых дерзких мечтах Вернер позволял себе надеяться, что когда-нибудь поедет так далеко. Он несет письмо в проулок за домом, где фрау Елена в клубах дыма кипятит простыни.
Она перечитывает листок несколько раз.
— Мы не сможем заплатить.
— Нам и не надо.
— Сколько туда ехать?
— Пять часов на поезде. Билет уже оплачен.
— Когда?
— Через две недели.
Фрау Елена: мокрые волосы прилипли к щекам, под глазами багровые мешки, розовые ободки у ноздрей. Тонкий крестик на влажной шее. Гордится ли она им? Фрау Елена трет глаза, рассеянно кивает и говорит:
— Они будут рады.
Потом возвращает ему письмо и смотрит в проулок между тесными рядами веревок с бельем и угольными ведрами.
— Кто, фрау?
— Все. Соседи. — Она смеется неожиданно резким смехом. — Заместитель министра. Тот, что забрал твою книгу.
— Но не Ютта.
— Да. Не Ютта.
Он мысленно репетирует доводы, которые изложит сестре. Pflicht. Это означает «долг». Обязательства. Каждый немец выполняет свое предназначение. Надевай башмаки и иди работать. Ein Volk, ein Reich, ein Fhrer[17]. У каждого из нас своя роль, сестренка. Однако еще до возвращения девочек известие, что его приняли в школу, облетает весь квартал. Соседи приходят один за другим, восклицают, трясут подбородками. Шахтерские жены приносят свиные ножки и сыр, передают из рук в руки письмо, грамотные читают вслух неграмотным, и Ютта, вернувшись, застает полную комнату ликующих людей. Близняшки Ханна и Сусанна Герлиц упоенно носятся вокруг дивана, шестилетний Рольф Гупфауэр затягивает: «Вставай! Слава отечеству!» — несколько других детей подхватывают, и Вернер не видит, как фрау Елена говорит с Юттой в уголке, как Ютта убегает наверх.
Когда звонят к обеду, она не спускается. Фрау Елена просит Ханну Герлиц прочесть молитву и говорит Вернеру, что побеседует с Юттой, а он должен оставаться здесь, ведь все эти люди пришли ради него. В голове у него то и дело искрами вспыхивают слова: «Ты призван». Каждая ускользающая минута сокращает его срок в этом доме. В этой жизни.
После обеда маленький Зигфрид Фишер, не старше пяти лет, обходит стол, дергает Вернера за рукав и протягивает ему вырванную из газеты фотографию. На снимке шесть бомбардировщиков плывут над облачной грядой. На фюзеляжах застыли солнечные полосы, шарфы пилотов развеваются.
— Ты ведь им покажешь, правда? — спрашивает Зигфрид Фишер.
Его лицо пылает верой. Оно словно обводит кружком все часы, что Вернер провел в сиротском доме, мечтая о чем-то большем.
— Да, — говорит Вернер; глаза всех детей обращены на него. — Да, обязательно.
Occuper
Мари-Лора просыпается от боя часов на церкви: два, три, четыре, пять. Слабый запах плесени. Старые пуховые подушки, слежавшиеся от времени. Шелковые обои за продавленной кроватью, на которой она сидит. Вытянув руки, Мари-Лора почти может коснуться стен с обеих сторон.
Эхо колокольного звона затихает. Она проспала почти весь день. Что это за приглушенный рокочущий гул? Толпа? Или по-прежнему море?
Мари-Лора спускает ноги на пол. Кровавые мозоли на пятках пульсируют. Где трость? Осторожно — чтобы не удариться обо что-нибудь щиколоткой — Мари-Лора возит ступнями по половицам. За занавеской окно — высоко, не дотянуться. Напротив — комод. Ящики из него можно выдвинуть только наполовину — дальше они упираются в кровать.
Погода здесь такая, что ее можно ощущать пальцами.
Мари-Лора нащупывает дверной проем и выходит — куда? В коридор? Здесь гул тише, почти как шепот.
— Есть кто-нибудь?
Тишина. Затем движение внизу, тяжелые башмаки мадам Манек взбираются по узким винтовым ступеням, ее затрудненное прокуренное дыхание все ближе — третий этаж, четвертый — сколько же в доме этажей? Наконец голос мадам зовет: «Мадемуазель?» Мари-Лору берут за руку и ведут назад в комнату, где она проснулась, усаживают на край кровати.
— Тебе надо в уборную? Наверняка надо, а потом в ванну. Ты очень хорошо спала, твой папа сейчас в городе, хочет отправить телеграмму, хотя я его предупредила, что легче вытаскивать перья из патоки. Есть хочешь?
Мадам Манек взбивает подушки, встряхивает одеяло. Мари-Лора уговаривает себя сосредоточиться на чем-нибудь маленьком и конкретном. На макете в Париже. На одной-единственной ракушке в лаборатории доктора Жеффара.
— А что, весь этот дом принадлежит моему двоюродному дедушке Этьену?
— Каждая комната.
— И как же он за него платит?
Мадам Манек смеется:
— Сразу быка за рога! Твой двоюродный дедушка унаследовал этот дом от отца, твоего прадедушки. Он был очень успешный и богатый человек.
— Вы его знали?
— Я работаю здесь с тех пор, как мсье Этьен был маленьким мальчиком.
— И мой дедушка тоже? Вы и его знали?
— Да.
— А я сегодня познакомлюсь с дядей Этьеном?
Мадам Манек отвечает не сразу:
— Возможно, нет.
— Но он здесь?
— Да, детка. Он всегда здесь.
— Всегда?
Большие руки мадам Манек заключают ее в объятия.
— Давай пока займемся ванной. Твой папа придет и все тебе объяснит.
— Папа ничего не объясняет. Он сказал только, что его дядя был на войне вместе с моим дедушкой.
— Так и было. И твой двоюродный дедушка вернулся с войны… — мадам Манек ищет слова, — не совсем таким, каким на нее ушел.
— Вы хотите сказать, стал видеть то, чего нет.
— Испуганным. Как мышь в мышеловке. Он видел, как мертвые проходят сквозь стены. Ужасы на перекрестках. Теперь он не выходит из дому.
— Никогда?
— Уже много лет. Но Этьен — чудо. Он знает все на свете.
Мари-Лора слышит скрип деревянных стропил, крики чаек и тихий рокот за окном.
— Мы очень высоко, мадам?
— На шестом этаже. Удобная кровать, правда? Я надеялась, что вы с папой хорошо отдохнете.
— Окно открывается?
— Да, милая. Хотя, наверное, пока лучше оставить ставни закрытыми…
Мари-Лора уже стоит на кровати, ведет ладонями по стене:
— Отсюда видно море?
— Нам велели держать окна и ставни закрытыми. Но разве что на минутку…
Мадам Манек поворачивает ручку, открывает створки внутрь, распахивает ставни. И тут же в комнату врывается ветер — яркий, свежий, соленый, лучезарный. Рокот вздымается и опадает.
— А тут есть улитки, мадам?
— Улитки? В океане? — Снова смех. — Их там как капель в дожде. Ты интересуешься улитками?
— Да-да-да. Я находила древесных улиток и садовых, а морских — никогда.
— Тогда ты приехала куда надо, — говорит мадам Манек.
Она наливает теплую ванну на третьем этаже. Из ванной Мари-Лора слышит, как мадам закрывает дверь. В тесной ванной комнате пол стонет под тяжестью воды, стены потрескивают, как будто это каюта «Наутилуса». Боль в пятках слабеет. Мари-Лора погружается с головой. Никогда не выходить из дому! Десятилетиями прятаться в этом странном узком доме!
К обеду ее наряжают в крахмальное платье, которому неизвестно сколько десятилетий. Они сидят за квадратным кухонным столом, папа и мадам Манек друг напротив друга, упираясь под столом коленями. Окна и ставни плотно закрыты. Приемник отрывисто перечисляет имена министров. Де Голль в Лондоне, Поля Рейно сменил Петен. На обед рыба, тушенная с зелеными помидорами. Папа рассказывает, что письма не приходят и не отправляются уже три дня. Телеграфные линии не работают. Самой свежей газете — шесть дней. По радио диктор чтает частные объявления.
Мсье Шемину, бежавший в Оранж, ищет своих троих детей, оставленных с багажом в Иври-сюр-Сен.
Франсис в Женеве ищет информацию о Мари-Жанне, последней раз виденной в Жантийи.
Мама молится о Люке и Альберте, где бы те ни были.
Л. Рабьер ищет сведения о своей жене, последней раз виденной на вокзале Орсе.
А. Коттер сообщает матери, что жив и находится в Лавале.
Мадам Мейзё разыскивает шесть своих дочерей, отправленных поездом в Редон.
— Все кого-нибудь потеряли, — шепчет мадам Манек.
Папа Мари-Лоры выключает приемник; пощелкивают, остывая, лампы. Наверху тот же голос продолжает тихо читать имена. Или это ей кажется? Она слышит, как мадам Манек встает и собирает тарелки, а папа выдыхает так, будто табачный дым давит на его легкие и нужно их быстрее освободить.
Вечером они с папой поднимаются по винтовой лестнице и ложатся спать бок о бок на той же продавленной кровати, в той же спальне со старыми шелковыми обоями, на том же шестом этаже. Отец возится с рюкзаком, с дверной задвижкой, со спичками. Вскоре в воздухе уже привычный запах его сигарет, синих «Галуаз». Мари-Лора слышит, как со скрипом и щелчком раскрываются створки окна, и сразу — долгожданный шелест ветра или моря и ветра — ее ухо не может их разделить. Вместе с ним в комнату врываются запахи соли, сена, рыбного рынка и далеких болот. И ничего такого, что походило бы на запах войны.
— А мы можем пойти завтра к морю, папа?
— Скорее всего, не завтра.
— А где дядя Этьен?
— Наверное, в своей комнате на пятом этаже.
— И видит то, чего нет?
— Нам очень повезло, что он есть.
— И что есть мадам Манек. Она замечательно готовит, правда? Может быть, даже чуть лучше тебя?
— Ну если только чуть-чуть.
Мари-Лора рада, что в голосе отца наконец появилась улыбка. Однако она чувствует, что за улыбкой его мысли бьются, как птицы в клетке.
— Что значит, папа, что они нас оккупируют?
— Это значит, они разместят на наших площадях свои грузовики.
— Они заставят нас говорить на своем языке?
— Может быть, они заставят нас перевести часы на один час.
Дом скрипит. Чайки кричат. Папа снова закуривает.
— Как можно «занять страну»? Это как занимают комнату?
— Это военный контроль, Мари. Хватит вопросов на сегодня.
Тишина. Двадцать сердцебиений. Тридцать.
— Как может одна страна заставить другую перевести часы? А если все откажутся?
— Тогда многие придут на работу слишком рано. Или опоздают.
— Помнишь нашу квартиру, папа? Мои книги, и наш макет, и шишки на подоконнике?
— Конечно.
— Я расставляла шишки по размеру, от больших к маленьким.
— Они по-прежнему там.
— Ты так думаешь?
— Я знаю.
— Ты не можешь знать.
— Ладно, не знаю, но уверен.
— А прямо сейчас немецкие солдаты укладываются на наши кровати, папа?
— Нет.
Мари-Лора старается лежать очень тихо. Она почти слышит, как у папы в голове крутятся шестеренки.
— Все будет хорошо, — шепчет она; отец стискивает ей руку. — Мы немного побудем здесь, а потом вернемся в свою квартиру, и шишки будут там, где мы их оставили, и «Двадцать тысяч лье под водой» будут лежать в ключной, и никто не будет спать на наших кроватях.
Далекое торжественное пение моря. Стук чьих-то каблуков по булыжной мостовой внизу. Мари-Лоре очень хочется услышать: «Да, конечно, ma chrie», но папа молчит.
Не лги
Он не может сосредоточиться на уроках, на простых разговорах или домашних поручениях. Стоит закрыть глаза, его захватывает видение школы в Шульпфорте: красные флаги, мускулистые лошади, сверкающие лаборатории. Лучшие мальчики Германии. Иногда он видит в себе символ новых возможностей, на который обращены все взгляды. А по временам перед ним мелькает деревенский парень со вступительных экзаменов, как тот побледнел и зашатался, но никто не пришел ему на помощь.
Почему Ютта за него не рада? Почему даже сейчас, когда он вырвался отсюда, в глубине мозга звучат какие-то непонятные предостережения?
— Расскажи нам снова про ручные гранаты! — просит Мартин Заксе.
— И про соколиную охоту! — подхватывает Зигфрид Фишер.
Трижды Вернер готовит доводы, и трижды Ютта поворачивается на каблуках и уходит прочь. Час за часом она возится с малышами, или отправляется за покупками на рынок, или выискивает другие предлоги помочь фрау Елене, найти себе дело вне дома.
— Она не хочет меня слушать, — говорит Вернер фрау Елене.
— А ты все-таки постарайся.
Он сам не успел заметить, как до отъезда остался один день. Вернер просыпается до зари и заходит в спальню девочек. Ютта лежит, обхватив голову руками, одеяло намотано на тело, подушка заткнута в щель между матрасом и стеной: даже во сне все не так, все поперек. Над кроватью ее фантастические рисунки: родной поселок фрау Елены, Париж с кружащими птичьими стаями над тысячью белых башен.
Вернер зовет ее по имени.
Ютта плотнее заворачивается в одеяло.
— Ты выйдешь со мной пройтись?
К его удивлению, она садится на постели. Они выходят из спящего дома. Вернер идет молча. Они перелезают через один забор, потом через второй. У Ютты за ботинками тянутся незавязанные шнурки. Репейник царапает колени. Встающее солнце прожигает дырочку в горизонте.
Останавливаются на краю оросительного канала. В прошлые зимы Вернер довозил Ютту в тележке до этого самого места, и они смотрели, как конькобежцы соревнуются на замерзшем канале: крестьяне с привязанными к обуви лезвиями, с заиндевелой бородой, проносились мимо группами по пять-шесть человек на дистанции в десять или пятнадцать километров. Глаза конькобежцев были как у лошадей в длинном забеге. Вернеру нравилось смотреть на них, ощущать поднятый ими ветер, слушать звон коньков — сперва рядом, потом затихающий вдали. Его наполняло странное волнение, и казалось, сейчас душа вырвется и заговорит с ними. Но как только они исчезали за излучиной реки, оставив только белые следы от коньков, волнение спадало, и он вез Ютту назад, чувствуя себя одиноким, брошенным и запертым в своей безнадежной жизни.
— Прошлой зимой конькобежцев не было, — говорит он.
Сестра смотрит на канал. Глаза у нее лиловые. Волосы всклокоченные, непослушные. Может, даже светлее, чем у него. Schnee.
— В этом году тоже не будет, — отвечает она.
Шахтный комплекс — дымящийся горный хребет у нее за спиной. Даже сейчас Вернер слышит вдали мерный механический стук: утренняя смена спускается в клети, ночная поднимается — все эти мальчишки с усталыми глазами и черным от угольной пыли лицом выходят навстречу солнцу, — и на миг Вернер чувствует нечто огромное, черное, страшное где-то совсем близко.
— Знаю, ты злишься…
— Ты станешь, как Ганс и Герриберт.
— Не стану.
— Поведешься с такими, как они, и станешь.
— Ты хочешь, чтобы я не ехал? Пошел работать на шахту?
Они смотрят, как вдалеке по дорожке едет велосипедист. Ютта прячет ладони под мышки.
— Знаешь, что я слушала? По нашему приемнику? Пока ты его не разбил?
— Тише, Ютта. Пожалуйста.
— Передачи из Парижа. Там говорили прямо противоположное тому, что нам рассказывал Дойчландзендер. Говорили, что мы — чудовища. Что мы совершаем зверства. Ты понимаешь, что значит «зверства»?
— Прошу тебя, Ютта.
— Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают?
Сомнения пролезают, как угри. Вернер выталкивает их прочь. Ютте всего двенадцать лет. Она еще совсем маленькая.
— Я буду писать тебе каждую неделю. Два раза в неделю, если получится. Можешь не покаывать письма фрау Елене, если не хочешь.
Ютта закрывает глаза.
— Это не навсегда, Ютта. Может, на два года. Половина принятых не доходит до выпуска. А вдруг я все-таки чему-нибудь научусь? Стану инженером? Или летчиком, как говорит маленький Зигфрид. Ну что ты мотаешь головой? Мы же всегда мечтали побывать внутри самолета, помнишь? Мы полетим на запад, ты, я и фрау Елена, если захочет. Или поедем на поезде. Через леса, через villages de montagnes[19], про которые рассказывала фрау Елена, когда мы были маленькими. Может быть, доедем до самого Парижа.
Быстро светает. Мягко шелестит трава. Ютта открывает глаза, но не смотрит на брата:
— Не лги. Себе можешь лгать, Вернер, а мне не лги.
Десятью часами позже он уже в поезде.
Этьен
Первые три дня Мари-Лора не встречается с двоюродным дедушкой. Затем, утром четвертого дня, нащупывая дорогу в уборную, она наступает на что-то маленькое и твердое. Садится на корточки, находит это что-то пальцами.
Оно гладкое и закрученное. Коническая спираль с рельефными ребрами. Устье широкое овальное.
— Трубач, — шепчет Мари-Лора.
В шаге от первой ракушки обнаруживается вторая. Затем — третья и четвертая. Дорожка из ракушек огибает уборную и спускается по винтовой лестнице к закрытой двери пятого этажа, где, как уже знает Мари-Лора, живет дедушка Этьен. Оттуда слышны звуки фортепьянного концерта. «Входи», — произносит голос.
Она ждет затхлости и старческой вони, однако в комнате стоит легкий запах мыла, книг, сухих водорослей. Почти как в лаборатории доктора Жеффара.
— Дядя Этьен?
— Здравствуй, Мари-Лора.
Голос густой и мягкий — кусок шелка, который можно держать в комоде и вынимать лишь изредка, просто чтобы погладить. Мари-Лора тянется в пустоту, и ее ладонь оказывается в прохладной руке, худой и почти невесомой. Этьен говорит, что сегодня чувствует себя получше.
— Извини, что не познакомился с тобой раньше.
Фортепьяно по-прежнему играют — впечатление, что их десятки и музыка льется со всех сторон.
— Сколько у тебя приемников, дядя?
— Давай покажу. — Он прикладывает ее руки к полке. — Этот стерео. Гетеродиновый. Я собрал его сам.
Ей представляется крохотный пианист во фраке, который играет внутри приемника. Потом дядя кладет ее руки на большое тумбовое радио, затем на маленькое — не крупнее тостера. Всего их одиннадцать, говорит Этьен, и в его голосе сквозит мальчишеская гордость.
— Я могу слушать корабли в море. Мадрид. Бразилию. Лондон. Однажды поймал Индию. Здесь, на краю города, на высоком этаже, очень хорошо принимает.
Он дает ей порыться в коробке с предохранителями и в другой, с переключателями. Затем подводит к шкафам: корешки сотен книг, птичья клетка, жуки в спичечных коробках, электрическая мышеловка, стеклянное пресс-папье (дядя говорит, что там внутри сушеный скорпион), банки с разными штепселями и еще сотня вещей, которые она не может определить.
Весь пятый этаж, за исключением лестничной площадки, — одна большая дядина комната. Три окна выходят на улицу Воборель, еще три — в проулок. Кровать маленькая, старинная, покрывало на ней гладкое и плотное. Аккуратно прибранный письменный стол, кушетка.
— Вот и вся экскурсия, — говорит Этьен почти шепотом.
Мари-Лора чувствует, что он добрый, любопытный и нисколечки не сумасшедший. И еще он словно застыл: как дерево в безветрие. Или как моргающая в темноте мышь.
Мадам Манек приносит бутерброды. Этьен говорит, что у него нет Жюль Верна, зато есть Дарвин, и читает ей из «Путешествия на „Бигле“», переводя с английского на французский: «Разнообразие видов прыгающих пауков чуть ли не бесконечно…»[20] Из приемников струится музыка. Так хорошо задремывать на кушетке, в тепле и сытости, и чувствовать, что фразы подхватывают тебя и переносят куда-то далеко.
* * *
В шести кварталах отсюда, в телеграфном отделении, отец Мари-Лоры прижимается лицом к окну и смотрит, как через Сен-Венсанские ворота въезжают два немецких солдата на мотоциклах с колясками. Все ставни в городе закрыты, но в щелки глядят тысячи глаз. За мотоциклистами едут два грузовика, а за ними — черный «мерседес-бенц». Эмблема на капоте и хромированные детали сверкают на солнце. Процессия останавливается перед высокими замшелыми стенами Шато-де-Сен-Мало. У входа ждет пожилой, неестественно загорелый человек (мэр, объясняет кто-то) с белым платком в больших матросских руках. Руки эти дрожат, но только самую малость.
Из машин вылезают немцы, больше десяти человек. Их сапоги сверкают, мундиры — как новенькие. У двоих в петлицах гвоздики. Один ведет на поводке бигля. Некоторые ошарашенно глазеют на фасад шато.
Низенький человек в полевой капитанской форме выбирается с заднего сиденья «мерседеса» и стряхивает с рукава невидимую пылинку. Он говорит несколько слов тощему адъютанту, тот переводит мэру. Мэр кивает. Коротышка проходит в большие двери. Через несколько минут адъютант распахивает ставни на окне верхнего этажа и мгновение смотрит на крыши домов внизу, затем разворачивает красный флаг с черной свастикой посредине и закрепляет его на подоконнике.
Юнгманы
Школа — сказочный замок: восемь или девять каменных зданий под холмом, бурые крыши, узкие окна, шпили и башенки, между черепицами пробивается трава. Спортивные площадки в излучинах очаровательной речки. В самый ясный час самого ясного цольферайнского дня Вернер не дышал воздухом, в котором бы настолько не было пыли.
Однорукий воспитатель быстрым злым голосом перечисляет правила:
— Вот ваша парадная форма, вот ваша полевая форма, вот ваша спортивная форма. Подтяжки сзади скрещены, спереди параллельны. Рукава закатаны до локтя. Каждый должен носить нож в ножнах справа на ремне. Когда хотите, чтобы вас вызвали, поднимайте правую руку. Всегда стройтесь в шеренги по десять. Запрещено держать в шкафчиках книги, сигареты, еду и личные вещи. Там должна находиться только ваша форма, ботинки, нож, вакса. Разговоры после отбоя запрещены. Письма домой будут отправляться по средам. Вы отбросите слабости, малодушие, нерешительность. Вы станете как водопад, как залп пуль — будете мчать в одном направлении, с одной скоростью, к одной цели. Вы забудете про удобство и станете жить исключительно ради долга, питаться страной и дышать народом. Все поняли?
Мальчишки хором кричат, что да. Их четыре сотни плюс тридцать преподавателей и еще пятьдесят человек персонала, воспитателей и поваров, конюхов и егерей. Младшим кадетам всего по девять лет. Старшим — по семнадцать. Готические лица, прямые носы, острые подбородки. Голубые глаза — у всех без исключения.
Вернер спит в крохотной спальне вместе с семью другими четырнадцатилетками. Его койка нижняя, верхнюю занимает Фредерик, тоненький, как травинка, с очень белой кожей. Фредерик тоже новичок. Он из Берлина. Его отец — помощник посла. В разговоре Фредерик поминутно отводит глаза вдаль, словно высматривает что-то в небе.
Они с Вернером впервые едят в столовой, сидя в новых накрахмаленных рубашках за длинным деревянным столом. Некоторые мальчики переговариваются шепотом, другие сидят поодиночке, некоторые наворачивают так, будто не ели много дней. Сквозь три сводчатых окна пробивается золотистый рассвет.
Фредерик шевелит в воздухе пальцами и спрашивает:
— Ты любишь птиц?
— Конечно.
— Знаешь про серых ворон?
Вернер мотает головой.
— Серые вороны умнее многих млекопитающих. Даже обезьян. Я видел, как они кладут орехи, которые не могут расколоть, на дорогу и ждут, пока машины их не раздавят, а потом выклевывают мякоть. Вернер, я уверен, мы с тобою крепко подружимся.
В каждой классной комнате со стены сурово глядит портрет фюрера. Ученики сидят на скамьях без спинок, за деревянными столами, изрезанными от скуки бесчисленными поколениями мальчиков: послушников, рекрутов, кадетов. В первый же день Вернер проходит мимо полуоткрытой двери научно-технической лаборатории и видит помещение, большое, как цольферайнская аптека, с новехонькими мойками и стеклянными шкафами, в которых ждут сверкающие мензурки, весы и горелки. Он замирает, и Фредерик вынужден его поторопить.
На второй день старенький френолог читает общую лекцию. В столовой почти темно, жужжит проектор, на дальней стене возникает схема с множеством кружков. Старик стоит перед экраном и бильярдным кием показывает разные части схемы:
— Белые кружки означают чистую немецкую кровь. Круги с черным означают долю чуждой крови. Обратите внимание на группу два, номер пять. — Он стучит кончиком кия, экран идет складками. — Браки между чистыми немцами и евреями на одну четверть по-прежнему разрешены, видите?
Получасом позже Вернер и Фредерик на уроке литературы читают Гёте. Затем на практикуме намагничивают иголки. Воспитатель зачитывает расписание. Понедельник — механика, история Германии, расовые науки. Вторник — верховая езда, ориентирование, военная история. Все, даже девятилетние, будут учиться чистить и разбирать маузеровскую винтовку. Стрелять тоже будут все.
Во второй половине дня они надевают патронташи и бегают. Бегом с холма, бегом к флагу, бегом на холм. Бег с товарищем на спине, бег с поднятой над головой винтовкой. Бег, ползанье по-пластунски, плаванье. Затем снова бег.
Звездные ночи, росистые зори, тихие внутренние галереи, вынужденный аскетизм — никогда еще Вернер не ощущал такого единодушия с другими, никогда не испытывал такой потребности стать своим. Здесь есть кадеты, которые перед отбоем обсуждают горные лыжи, дуэли, джаз-клубы, гувернанток, охоту и марки сигарет, названные по фамилиям кинозвезд; виртуозно ругаются грязными словами. Есть мальчики, которые небрежно упоминают «телефонный звонок полковнику», и мальчики, у которых матери — баронессы. Есть мальчики, которых взяли не за способности, а потому, что их отцы работают в министерствах. А как они разговаривают! «Не родится на терновнике виноград». «Эх ты, нюня, я бы ей сразу вдул». «Давай, ребята, мать вашу в душу!» Некоторые кадеты все делают образцово: на стрельбах они всегда попадают в цель, у них идеальная выправка, а ботинки начищены так, что отражают небо с облаками. Есть кадеты, у которых кожа как сливочное масло, глаза как сапфиры и тончайшая сеть голубых жилок на тыльной стороне ладони. Однако сейчас, в ежовых рукавицах дисциплины, они все «юнгманы» — воспитанники. Они вместе входят в столовую, вместе заглатывают яичницу, вместе строятся на перекличку, салютуют флагу, стреляют из винтовок, бегают и моются вместе. Им всем одинаково тяжело. Каждый из них — комок глины, и горшечник — толстый комендант школы с лоснящимся лицом — лепит из них четыре сотни одинаковых горшков.
«Мы молоды, — поют они, — мы упорны, мы никогда не шли на компромисс, у нас впереди столько крепостей, которые нам предстоит штурмовать».
Вернера кидает из крайности в крайность: то он обессилен и растерян, то упоен восторгом. Не верится, что его жизнь так круто переменилась. Чтобы не поддаваться сомнениям, он учит наизусть стихи или старается удержать перед глазами образ научно-технической лаборатории: девять столов, тридцать табуретов, катушки, переменные конденсаторы, усилители, батареи, паяльники, запертые в стеклянных шкафах.
Над ним, на верхней койке, Фредерик стоит на коленях, смотрит через открытое окно в старый полевой бинокль и отмечает на бортике кровати увиденных птиц. Под словами «серощекая поганка» — одна черточка. Под словами «обычный соловей» — шесть. Внизу отряд десятилеток марширует к реке, несет факелы и знамена со свастикой. Процессия останавливается (порыв ветра наклонил пламя факелов), затем идет дальше. Песня ярким, пульсирующим облаком врывается в окно:
- Меня, меня возьмите в свои ряды!
- Я не хочу в ничтожестве жизнь влачить.
- Чем ждать бесславной смерти, лучше
- Мертвым на жертвенный лечь курган[21].
Вена
Фельдфебелю Рейнгольду фон Румпелю сорок один год — еще вполне можно надеяться на повышение. У него влажные красные губы, бледные щеки, почти прозрачные, как сырое филе камбалы, и умение держать нос по ветру, которое редко его подводит. Жена мужественно переносит разлуку с ним, расставляя фарфоровых кошечек по цвету — от темных к светлым — на двух полках в штутгартской гостиной. Еще у него две дочери, которых он не видел девять месяцев. Старшая, Вероника, очень идейная. Ее письма к нему пестрят такими выражениями, как «святая решимость», «невиданные свершения» и «впервые в истории».
У фон Румпеля есть особый талант, и этот талант — алмазы. В огранке и шлифовке он не уступает лучшим арийским ювелирам Европы и часто на глаз может определить подделку. Он изучал кристаллографию в Мюнхене, стажировался у шлифовальщика в Антверпене и однажды — незабываемый день! — побывал в алмазном магазине без вывески на Чартерхауз-стрит в Лондоне, где его заставили вывернуть карманы, провели по трем лестничным пролетам, через три запертые двери и усадили за стол, а там человек с острыми нафабренными усами показал ему необработанный алмаз из Южной Африки весом в девяносто два карата.
До войны Рейнгольду фон Румпелю жилось вполне неплохо. Он был оценщиком в магазине на втором этаже, позади Старого штутгартского замка. Клиенты приносили камни и спрашивали, сколько те стоят. Иногда он брался за переогранку алмазов или консультировал проекты по добавлению фацет, а если иногда обманывал клиента, то говорил себе, что это входит в игру.
Война расширила сферу его деятельности. Фельдфебель фон Румпель получил возможность делать то, чего не делал никто со времен Великих Моголов, а может, и за всю историю человечества. Франция капитулировала всего несколько недель назад, а он уже повидал такое, чего не надеялся увидеть и за шесть жизней. Глобус семнадцатого века размером с небольшой автомобиль, вулканы отмечены рубинами, полюса — сапфирами, а мировые столицы — алмазами. Держал — держал! — рукоять кинжала по меньшей мере четырехвековой давности, из белого нефрита с изумрудами. Только вчера, по пути в Вену, он оприходовал фарфоровый сервиз в пятьсот семьдесят предметов, с бриллиантом огранки «маркиза» в ободе каждой тарелки. Где изъяты сокровища и у кого, фон Румпель не спрашивает. Он уже упаковал все в окованный железом ящик, запер, белой краской написал сверху номер и лично проследил, как ящик грузят в круглосуточно охраняемый вагон.