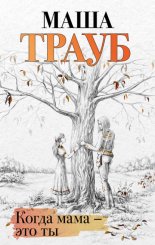Весь невидимый нам свет Дорр Энтони

— Да.
Он откашливается. Включает микрофон и говорит:
— Пятьсот шестьдесят семь, тридцать два, три тысячи одиннадцать, двадцать три ноль-ноль, сто десять, девяносто, сто сорок шесть, семь тысяч семьсот пятьдесят один.
Числа летят над крышами, через море, неведомо куда. В Англию, в Париж, к покойникам.
Дядя переключается на другую частоту и повторяет числа. На третью. Затем выключает передатчик. Машина тикает, остывая.
— Дядя, что значат эти числа?
— Не знаю.
— Из них составляются какие-то слова?
— Наверное, да.
Они спускаются по лестнице и пролезают через шкаф.
Внизу не ждут солдаты с автоматами. Все как обычно. Мари-Лоре вспоминается строчка из Жюль Верна: «Научные теории, мой мальчик, не все безошибочны, но этим нечего смущаться, потому что в конце концов они приходят к истине»[35].
Этьен смеется какой-то своей мысли:
— Помнишь, мадам говорила про лягушку в кастрюле?
— Да, дядюшка.
— Интересно, кого она имела в виду? Себя? Или немцев?
Фолькхаймер
Инженер — Вальтер Бернд — молчаливый и желчный; зрачки у него смотрят в разные стороны. Щербатого шофера называют Нойманом-первым, ему лет тридцать. Вернер знает, что Фолькхаймеру, их фельдфебелю, никак не больше двадцати, но в белесо-сером утреннем свете тот выглядит вдвое старше.
— Партизаны пускают под откос поезда, — объясняет он. — Они организованны, и капитан уверен, что они координируют свои действия по рации.
— Предыдущий техник, — говорит Нойман-первый, — ничего не нашел.
— Оборудование хорошее, — отвечает Вернер. — Через час у меня обе станции заработают.
В глазах Фолькхаймера зажигается нежность.
— Пфенниг, — говорит он, глядя на Вернера, — в сто раз лучше вашего предыдущего техника.
Они приступают к операции. «Опель» подпрыгивает на проселке, который немного лучше коровьей тропы. Через каждые несколько километров они тормозят, устанавливают приемопередатчик на каком-нибудь пригорке и оставляют с ним Бернда и тощего Ноймана-второго. Затем проезжают несколько сот метров, чтобы получилось основание треугольника. Расстояние засекают по одометру. Вернер включает свою станцию, выдвигает телескопическую антенну, надевает наушники и начинает прочесывать эфир в поисках чего-либо недозволенного. Голоса, которому не позволено здесь звучать.
По всему огромному ровному горизонту постоянно что-то горит. Обычно Вернер едет спиной вперед, глядя в сторону мест, которые остаются позади. В сторону Польши, в сторону рейха.
Никто их не обстреливает. Редко-редко сквозь треск помех пробиваются голоса, но все они говорят по-немецки. Вечерами Нойман-первый достает из снарядных ящиков банки с консервированными сосисками, а Нойман-второй усталым голосом рассказывает смешные истории про шлюх, которые у него были или которых он выдумал. Вернеру снится, как мальчишки догоняют Фредерика, только вдруг оказывается, что это не Фредерик, а Ютта, и она укоризненно смотрит на брата, пока мальчишки отрывают ей руки и ноги.
Каждый час Фолькхаймер заглядывает в кузов «опеля» и ловит взгляд Вернера:
— Ничего?
Вернер мотает головой. Он возится с аккумулятором, с антеннами, в сотый раз проверяет схему. В Шульпфорте, с доктором Гауптманом, это было игрой. Вернер мог угадать частоту Фолькхаймера, всегда знал, передает передатчик Фолькхаймера или нет. Здесь он даже не знает, когда и откуда передают и передают ли вообще. Здесь он охотится за призраками. Они попусту жгут топливо, проезжая мимо дымящихся домов, взорванных орудий и неотмеченных могил, покуда Фолькхаймер все более нетерпеливым движением проводит огромной ручищей по коротко остриженным волосам. Издалека доносится грохот больших орудий, и все равно партизаны взрывают пути, отправляют вагоны под откос, увечат солдат фюрера и наполняют офицеров бессильной злостью.
Может, вот этот пилящий дерево старик — партизан?
Или вон тот человек, склонившийся над мотором автомобиля? Или те три женщины с ведрами?
За ночь вся земля покрывается инеем. Вернер в кузове грузовика греет руки под мышками; просыпаясь, он видит свое морозное дыхание и голубоватое свечение ламп в приемопередатчике. Какой глубины тут будет снег? Два метра? Пять? Сорок?
Здесь ляжет километровый слой снега, думает Вернер. Мы будем ехать поверх всего, что когда-то было.
Осень
Грозы ополаскивают небо, побережье, улицы, багровое солнце погружается в море, заливая огнем западные стены Сен-Мало. Три лимузина с обмотанными тканью глушителями призраками скользят по рю-де-ла-Кросс; человек десять немецких офицеров в сопровождении примерно такого же числа людей с камерами и софитами поднимаются на Голландский бастион.
Этьен наблюдает за ними в бронзовую подзорную трубу из окна шестого этажа. Здесь капитаны, майоры и даже один подполковник — он левой рукой придерживает воротник, правой указывает на островные форты. Солдат пытается прикурить на ветру, у него сдувает пилотку и уносит в море, остальные хохочут.
Из дома Клода Левитта через улицу со смехом выпархивают три женщины. Окна Клода ярко освещены, хотя в остальном квартале нет электричества. Кто-то открывает окно третьего этажа и выбрасывает стеклянную стопку; она со звоном катится по улице Воборель.
Этьен зажигает свечу и поднимается на шестой этаж. Мари-Лора уснула. Он достает из кармана скрученную бумажную полоску, разворачивает. Все его попытки взломать шифр оказались тщетны: он записывал числа в столбик, складывал, умножал — никакого результата. И все же результат есть. Ушли пугающие головокружения, в глазах не мутится, сердце не стучит как сумасшедшее. Уже почти месяц с тех пор, как он последний раз сжимался в комок и силился отогнать проходящих сквозь стены призраков. Когда Мари-Лора возвращается с хлебом, когда Этьен разворачивает тоненькую бумажную полоску и подносит губы к микрофону, он чувствует себя уверенным. Живым.
56778. 21. 4567. 1094. 467813.
Затем время и частота следующей передачи.
Это продолжается уже не первый месяц. Через каждые два-три дня в очередном батоне оказывается полоска бумаги. В последнее время Этьен стал передавать музыку. Всегда по ночам и не больше полутора минут. Дебюсси, или Равель, или Массне, или Шарпантье. Вставляет микрофон в патефонную трубу, как годы назад, и включает пластинку.
Кто слушает? Этьен воображает коротковолновые приемники, спрятанные в коробках из-под овсянки, под полом или в детских кроватках. Он воображает два или три десятка слушателей на побережье и, может быть, еще сколько-то в море: капитанские приемники на свободных судах, везущих помидоры, беженцев или оружие. Англичане, ждущие чисел, а не музыки, наверное, дивятся: «Зачем?»
Сегодня он включает «Времена года» Вивальди, аллегро из концерта «Осень». Пластинку, которую его брат купил за пятьдесят пять сантимов в лавке на рю-Сент-Маргерит четыре десятилетия назад.
Тихо бренчит клавесин, скрипки плетут затейливое барочное кружево — низкое треугольное помещение чердака наполняется звуками.
В квартале отсюда, двадцатью метрами ниже, двенадцать немецких офицеров позируют на камеру.
Слушайте, думает Этьен. Слушайте.
Кто-то трогает его за плечо. Этьен вздрагивает и едва успевает ухватиться за наклонный потолок, чтобы не упасть. У него за спиной стоит Мари-Лора, в ночной рубашке.
Скрипки то падают, то взмывают. Этьен берет Мари-Лору за руку и — покуда крутится пластинка, а передатчик шлет музыку через крепостные стены, прямо через немцев, в море — ведет ее танцевать. Он кружит ее под низким, скошенным в две стороны потолком, ее пальцы мелькают. В свете свечи она кажется существом из иного мира: лицо — сплошные веснушки, глаза — как коконы паучьих яиц. Они неподвижны, но его это не нервирует; они как будто смотрят в другое, более глубокое пространство, целиком состоящее из музыки.
Грациозная. Стройная. Движения точны и согласованны, хотя она танцует, наверное, первый раз.
Музыка по-прежнему играет. Слишком долго! Антенна не убрана и, возможно, угадывается на фоне неба. С тем же успехом можно было устроить на чердаке полную иллюминацию. И все же… музыка льется. Мари-Лора закусила нижнюю губу, и ее лицо сияет отраженным светом свечи. Этьен глядит на нее и вспоминает болота за городской стеной в те зимние вечера, когда солнце уже совсем низко, но еще не совсем ушло за горизонт и камыш пылает закатным огнем, — места, где он часто бродил с братом целую жизнь назад.
Вот что означают числа, думает он.
Концерт закончился. Под потолком бьется оса. Передатчик еще включен, патефонная иголка крутится на последней дорожке. Мари-Лора запыхалась и улыбается.
Проводив ее спать, Этьен задувает свечу и долго стоит на коленях рядом с кроватью. Всадник Смерть едет по улице внизу, заглядывая в окна. На лбу у него огненные рога, из ноздрей идет дым, в костлявой руке — список с адресами. Он смотрит сперва на немецких офицеров, выходящих из лимузина перед шато.
Затем на ярко освещенные комнаты парфюмера Клода Левитта.
Затем на темный высокий дом Этьена Леблана.
Минуй нас, всадник. Минуй этот дом.
Подсолнухи
Они едут по пыльной дороге между бесконечными полями подсолнухов, высоких, словно деревья. Стебли высохли и одеревенели, головки качаются, и у Вернера такое чувство, будто за ним наблюдают десять тысяч циклопов. Нойман-первый тормозит, Бернд с карабином уходит в подсолнухи ставить вторую станцию. Вернер выдвигает большую антенну и надевает наушники.
В кабине Нойман-второй говорит:
— Да ты вообще никогда с бабой не лежал.
— Заткнись, — говорит Нойман-первый.
— Ты дрочишь каждую ночь. Доишь бычка. Лущишь початок.
— Да так пол-армии делает. Что русские, что немцы.
— Вот тот маленький арийский мальчик сразу видать, что кобель.
Бернд называет частоты. Пусто. Пусто. Пусто.
Нойман-первый говорит:
— Истинный ариец белокур, как Гитлер, строен, как Геринг, и высок, как Геббельс.
Смех Ноймана-второго.
— Хватит, — говорит Фолькхаймер.
Ранний вечер. Весь день они ехали через эту странную заброшенную местность и не видели ничего, кроме подсолнухов. Вернер крутит ручку, переключает диапазоны, заново настраивает станцию, пытаясь убрать помехи. Они наполняют эфир весь день — громкие, тоскливые, зловещие украинские помехи, звучавшие здесь задолго до того, как люди научились их слышать.
Фолькхаймер вылезает из грузовика, расстегивает штаны и мочится на цветы. Вернер решает поправить антенну, но не успевает: в уши резко, словно взмах сабли на фоне солнца, врывается непонятная речь. Каждый нерв в его теле колет иголкой.
Он, сколько можно, увеличивает громкость и прижимает наушники к голове. Снова возникает тот же голос: па-ра-что-то-шо-же, че-ре-что-то-да-шой… Фолькхаймер смотрит так, будто тоже услышал, будто впервые за несколько месяцев очнулся от сна, как в ту снежную ночь, когда Гауптман выстрелил из пистолета, когда они поняли, что приборы Вернера работают.
Вернер на долю деления поворачивает ручку тонкой настройки, и его оглушает поток чудовищной варварской невнятицы. Она бьет прямо в мозг — как будто сунул руку в мешок с ватой и напоролся на бритву; все надежно и неизменно, и вдруг опасное лезвие, о которое режешься, не успев толком понять, что произошло.
Фолькхаймер стучит кулачищем по «опелю», чтобы заткнуть Нойманов. Вернер передает Бернду частоту, тот замеряет пеленг и передает его обратно. Вернер берется за расчеты. Логарифмическая линейка, тригонометрия, карта. Русский все еще говорит, когда Вернер спускает наушники на шею:
— Север-северо-восток.
— Расстояние?
Просто числа. Чистая математика.
— Полтора километра.
— Сейчас передают?
Вернер прижимает к уху один наушник и кивает.
Нойман-первый заводит «опель», Бернд возвращается, круша подсолнухи. Вернер убирает антенну, и они едут прямо по полю, давя сухие стебли. Самые высокие подсолнухи почти с грузовик, их большие корзинки молотят по крыше кабины и по бортам кузова.
Нойман-первый смотрит на одометр и зачитывает расстояния. Фолькхаймер раздает оружие. Два карабина 98k. Самозарядный «вальтер» с оптическим прицелом. За спиной у Вернера Бернд заряжает свой «маузер». Подсолнухи молотят о будку. Грузовик мотает на ухабах, словно корабль в море.
— Одиннадцать тысяч метров, — объявляет Нойман-первый.
Нойман-второй вылезает на капот и прочесывает поле биноклем. К югу подсолнухи уступают место огуречным грядкам, дальше за полосой голой земли стоит беленый домик под соломенной крышей.
— Край поля.
Фолькхаймер смотрит в оптический прицел.
— Дыма не видать?
— Нет.
— Антенна?
— Пока не вижу.
— Глуши мотор. Дальше пойдем пешком.
Наступает тишина.
Фолькхаймер, Нойман-второй и Бернд с оружием пропадают в подсолнухах. Нойман-первый остается рядом с машиной, Вернер — в будке. Все с виду спокойно. Никто пока не подорвался на мине. Подсолнухи качают гелиотропными головками, словно в печальном согласии.
— Гадов возьмут тепленькими, — шепчет Нойман-первый.
Его правая нога ходит ходуном. Вернер выдвигает антенну, насколько позволяет осторожность, надевает наушники и включает станцию. Русский читает какие-то односложные слова — наверное, буквы алфавита. Каждый слог выплывает из эфирной ваты, как будто для одного Вернера, и тут же тает. Нойман-первый прислонился к колесу, и от дрожи в его ноге слегка подрагивает весь грузовик. Солнце светит в окна, тусклые от размазанных насекомых. Пробегает холодный ветерок, все поле колышется и шуршит.
Там же должны быть часовые? Пикеты? А вдруг вооруженные партизаны подкрадываются сейчас к грузовику сзади? Русский радист зудит в ухе, как шмель. Кто знает, что он передает: позиции войск, расписание поездов. Может, он в эту самую секунду сообщает артиллеристам-наводчикам координаты грузовика, а Фолькхаймер выходит из подсолнухов — огромная человеческая мишень, — держа винтовку, как палку. Не верится, что дом его вместит, скорее уж наоборот — Фолькхаймер поглотит дом.
Выстрелы сперва доходят по воздуху, долей секунды позже — через наушники, да так громко, что Вернер почти срывает их с головы. И тут же умолкает даже треск помех. Тишина в наушниках — как нечто тяжелое и надвигающееся, призрачный дирижабль, медленно идущий на посадку.
Нойман-первый открывает и закрывает затвор карабина.
У Вернера внезапно встает перед глазами картина: они с Юттой на кровати, голос француза только что умолк, стекла дребезжат от проходящего поезда, а эхо передачи как будто еще подрагивает в воздухе; кажется, протяни руку — и поймаешь его в ладонь.
Возвращается Фолькхаймер, лицо у него забрызгано чернилами. Он двумя пальцами сдвигает назад каску, и Вернер видит — это не чернила.
— Подожгите дом. Быстро. Много солярки не тратьте. — Он смотрит на Вернера. Голос ласковый, почти меланхолический. — Забери их оборудование.
Вернер кладет наушники, надевает каску. У него что-то случилось с чувством равновесия — все вокруг как будто качается. Нойман-первый идет впереди с канистрой солярки, что-то мурлыкая себе под нос. Они выходят из подсолнухов, перешагивают через побитые заморозками сорняки. На земле у входа лежит собака, положив морду на лапы, и мгновение Вернеру кажется, что она просто спит.
Первый убитый лежит на полу — одна рука подвернута, вместо головы алое месиво. Второй сидит, уронив голову на стол, как будто задремал; края раны какого-то непристойно розово-лилового цвета. Кровь на столе густеет, как воск. Она кажется почти черной. Странно думать, что голос этого человека еще плывет по воздуху, может, уже над другой страной, слабея с каждым километром.
Рваные штаны, грязные куртки, на одном из убитых подтяжки — они оба в штатском.
Нойман-первый срывает с окна мешковину, висящую тут вместо занавески, и выходит на улицу. Слышно, как плещет солярка. Нойман-второй стаскивает с убитого подтяжки, снимает с косяка связку лука и тоже уходит.
В кухне — кусок недоеденного сыра, рядом нож с потертой деревянной ручкой. Вернер открывает единственный шкафчик. Внутри — обитель суеверий: пузырьки с темной жидкостью, таблетки россыпью, прилипшие к полке чайные ложки, что-то с латинской надписью «belladonna» и еще что-то, помеченное буквой «X».
Рация убогая, высокочастотная — наверное, с русского танка. Выглядит так, будто в кожух просто затолкали пригоршню компонентов. Установленная перед домом антенна с противовесом рассылала сигнал от силы километров на сорок.
Вернер выходит и оборачивается на дом, желтовато-белый в вечернем свете. Ему вспоминается кухонный шкаф со странными снадобьями. Собака, которая не уберегла хозяев. Может, эти партизаны и владеют темным лесным колдовством, но им не следовало лезть в более высокую магию радио. Он закидывает винтовку на плечо и через подсолнухи несет потертую рацию к машине. Мотор уже работает, Нойман-второй и Фолькхаймер в кабине. Вернер слышит голос доктора Гауптмана: «Работу ученого определяют два фактора: его интересы и требования времени». Все вело к этим мгновениям: смерть отца, бессонные ночи на чердаке, когда они с Юттой слушали француза, Ганс и Герриберт, прячущие красные повязки под рубашкой, чтобы не увидела фрау Елена, ясные вечера в Шульпфорте, когда он собирал приборы для доктора Гауптмана. Страшная история с Фредериком. Все было нужно для того, чтобы сейчас Вернер забросил казацкое оборудование в кузов и уселся на лавку, глядя, как на краю поля занимается пламенем дом. Бернд залезает следом, кладет карабин на колени и даже не дает себе труда закрыть заднюю дверцу, когда «опель», рыча, трогается с места.
Камни
Фельдфебеля фон Румпеля вызвали на склад в окрестностях Лодзи. Это его первая поездка после лечения в Штутгарте, и ноги до сих пор как ватные. За колючей проволокой — шесть охранников в касках. Они щелкают каблуками, отдают честь. Он снимает китель и надевает комбинезон на молнии, без карманов. Отодвигаются три засова. За дверью четверо солдат в таких же комбинезонах стоят у столов. Все окна забиты фанерой, на каждом столе горит яркая лампа.
Темноволосый ефрейтор объясняет, как будет проходить работа. Первый солдат вынимает камни из оправы. Второй отчищает их специальным составом. Третий взвешивает и называет вес фон Румпелю. Тот осматривает каждый камень и относит к одной из трех категорий: «с включениями», «с незначительными включениями», «практически без включений». Сам ефрейтор записывает.
— Мы будем работать сменами по десять часов, пока все не закончим.
Фон Румпель кивает. Спина у него уже и сейчас раскалывается от боли.
Ефрейтор берет мешок, снимает пломбу и высыпает на застланный бархатом поднос тысячи драгоценных камней: изумруды, сапфиры, рубины. Цитрин. Перидот. Хризоберилл. Между ними поблескивают сотни маленьких бриллиантов, по большей части в браслетах, колье, серьгах и запонках. Первый солдат относит поднос к себе на стол, берет обручальное кольцо и пинцетом отгибает крючки-«лапки». Бриллиант отправляется по цепочке. Фон Румпель пересчитывает оставшиеся под столом мешки: девять.
— Откуда…
Но он уже и без того знает, откуда эти камни.
Грот
Первые месяцы после смерти мадам Манек Мари-Лора каждое утро ждет, что старуха, пыхтя, поднимется по лестнице и грубоватым матросским голосом воскликнет: «Господи, ну и холодрыга!» — однако этого не происходит.
Туфли рядом с кроватью, под макетом. Трость в углу.
На первый этаж, где висит на крючке рюкзак.
На улицу. Двадцать два шага по улице Воборель. Затем направо. Шестнадцать канализационных решеток. Налево, на улицу Робера Сюркуфа. Девять канализационных решеток до булочной.
— Один простой батон, пожалуйста.
— Как поживает твой дядя?
— Дядя здоров, спасибо.
Иногда в батоне запечена маленькая белая бумажка, иногда — нет. Иногда мадам Рюэль сует Мари-Лоре пакет с чем-нибудь еще: капустой, перцем, мылом, — что сама сумела достать. Назад до перекрестка с рю-д’Эстре. Вместо того чтобы повернуть влево на улицу Воборель, Мари-Лора идет прямо. Пятьдесят шагов до городской стены, сто или чуть больше — до конца улочки, которая сужается с каждым шагом.
Мари-Лора пальцами нащупывает замок, вынимает из кармана ключ, который Юбер Базен отдал ей год назад. Ледяная вода доходит до середины икры, ноги мгновенно немеют. Однако грот вмещает собственную вселенную, где вращаются бесчисленные галактики, где в одинокой створке мидии растет морской желудь и лежит маленькая витая раковина — домик еще более маленького рака-отшельника. А на домике рака? Еще более маленький морской желудь. А на этом морском желуде?
Здесь, в бывшей собачьей конуре, где шум моря заглушает все другие звуки, Мари-Лора заботится об улитках, как о растениях в саду. От прилива до прилива, от мгновения до мгновения она слушает, как они ползают, и думает об отце в тюремной камере, о мадам Манек на ее райском поле дикой моркови, о дяде, который двадцать лет не выходил из дому.
Потом ощупью добирается до выхода и запирает за собой дверь.
С начала зимы электричество отключают часто и включают ненадолго; Этьен поставил на чердаке два аккумулятора с катеров — теперь перебои с электричеством не мешают ему передавать. Чтобы согреться, приходится жечь ящики, бумагу, даже старую мебель. Мари-Лора затащила на шестой этаж тяжелый ковер из спальни мадам Манек и укрывается им поверх одеяла. Иногда она просыпается среди ночи и почти слышит, как на полу нарастает иней.
Что там за шаги? Не полицейский ли? Что за машина? Не их ли едут забирать?
Этьен наверху, передает числа, и Мари-Лора думает: можно спуститься и встать у двери. Если это полиция, я выгадаю для него несколько минут. Только уж очень холодно вылезать. Лучше остаться под тяжелым ковром. Может быть, она уснет и вновь окажется в музее. Как хорошо вести пальцами по знакомым стенам, идти гулкой Большой галереей к ключной. Всего-то и надо, что повернуть влево, а там будет папа, за своим станком для вытачивания ключей.
Он скажет: «Что же ты так долго не шла, солнышко?»
И еще он скажет: «Я никогда-никогда тебя не оставлю, даже и через миллион лет».
Преследование
В январе сорок третьего Вернер находит вторую подпольную рацию — в уничтоженном бомбой саду, среди поломанных деревьев. Через две недели — третью, потом четвертую. Каждый следующий раз выглядит вариацией предыдущего: треугольник уменьшается, стороны сближаются, пока не сойдутся в одну точку — сарай, дом, подвал фабрики или какое-нибудь мерзкое становище посреди снегов.
— Он сейчас передает?
— Да.
— В той лачуге?
— Видишь антенну у восточной стены?
Когда есть возможность, Вернер записывает партизан на магнитную ленту. Все, насколько он понял, любят слушать собственный голос. Гордыня, как в самых старых сказках. Они поднимают антенну слишком высоко, говорят слишком долго в убеждении, что мир к ним добр, а это не так.
Капитан просит передать, что очень ими доволен, обещает увольнительные, мясо, коньяк. Всю зиму «опель» колесит по оккупированным землям, по городам, которые Ютта когда-то отмечала на шкале радио: Прага, Минск, Любляна.
Иногда грузовик нагоняет колонну пленных, и Фолькхаймер просит Ноймана-первого сбросить скорость. Он сидит очень прямо, высматривая кого-нибудь своего роста, и, если находит, стучит по кабине. Нойман-первый тормозит, Фолькхаймер спрыгивает в снег, заговаривает с охранниками, затем идет через колонну, обычно в одной гимнастерке, несмотря на холод.
— И ведь оставил карабин в кузове, — всякий раз удивляется Нойман-первый. — Ушел без карабина.
Иногда Фолькхаймер слишком далеко, иногда Вернер отчетливо его слышит.
— Ausziehen, — говорит Фолькхаймер, выпуская морозный пар, и почти всегда русский верзила его понимает.
Снимай. Дюжий русский малый, которого, судя по лицу, ничем удивить невозможно. Разве что тем, что к нему идет другой такой же великан.
Пленный снимает варежки, протертую шинель, рубаху. И только когда Фолькхаймер указывает на обувь, лицо русского меняется. Он мотает головой, смотрит вверх или вниз, закатывает глаза, как испуганная лошадь. Остаться босиком — значит умереть. Однако Фолькхаймер стоит и ждет, один верзила напротив другого, и всякий раз пленный сдается. Он стоит на снегу в драных носках и пытается заглянуть в глаза товарищам, но те отводят взгляд. Фолькхаймер мерит все по очереди и, если что-нибудь оказывается мало, возвращает, потом забирается обратно в кузов, и Нейман-первый жмет на газ.
Обледенелые дороги, горящие деревни среди лесов, морозы такие, что даже снег уже не идет, — всю эту странную и страшную зиму Вернер бродит по эфиру, как когда-то бродил по улочкам Цольферайна, катя Ютту в тележке. Голос в наушниках возник и пропал — начало охоты, человеческий след среди треска помех. Вот оно, думает Вернер, когда снова его находит (иногда — сутки спустя), это чувство, будто с закрытыми глазами шел вдоль километровой нити и наконец отыскал пальцами узелок.
Задача, которую надо решить, упражнение для ума — это куда лучше, чем кормить вшей в мерзлых вонючих окопах, как преподаватели из Шульпфорты в первую войну. Чище, механизированней: сражения идут в воздухе, невидимо, линия фронта повсюду. Ведь есть же в этой охоте свой пьянящий азарт? В тряской ночной езде, в том, чтобы внезапно различить за деревьями антенну?
Я тебя слышу.
Иголки в стоге сена. Шипы в лапе льва. Вернер их находит, а Фолькхаймер выдергивает.
Всю зиму немцы гонят лошадей, сани, танки и грузовики по одним и тем же дорогам, превращая их в скользкий лед, замешенный на крови и грязи. А когда наконец приходит апрель, пахнущий трупами и стружкой, двухметровые сугробы вдоль дороги тают, а лед упорно не хочет сходить: он остается твердой, блестящей, смертоносной схемой вторжения, летописью распятия России.
Как-то поздним вечером они переезжают по мосту Днепр. На другом берегу — купола и цветущие каштаны Киева. Ветер гонит по улицам пепел, в подворотнях жмутся проститутки. В кафе через два столика от Вернера сидит пехотинец чуть старше его, с очень странным, будто изумленным, лицом. Он прихлебывает кофе и дергающимися глазами читает газету.
Вернер невольно поглядывает в ту сторону. Наконец Нойман-первый наклоняется к нему:
— Знаешь, отчего он так?
Вернер мотает головой.
— Веки отморозил, бедолага.
Почта сюда не доходит. Уже много месяцев Вернер не писал сестре.
Записки
Оккупационные власти потребовали вывесить на двери каждого дома список жильцов: «М. Этьен Леблан, 62 года, м-ль Мари-Лора Леблан, 15 лет». Мари-Лора изводит себя картинами длинных пиршественных столов: тарелки с ломтями свинины, с печеными яблоками, банановым фламбе, ананасами, украшенными взбитыми сливками.
Как-то летом сорок третьего она под моросящим дождем доходит до булочной. Очередь стоит на улице. Когда Мари-Лора наконец добирается до прилавка, мадам Рюэль берет ее за обе руки и очень тихо произносит: «Спроси, не согласится ли он прочесть и это». Затем протягивает батон. Под ним — сложенный лист бумаги. Мари-Лора сует батон в рюкзак, а бумагу зажимает в кулаке. Отдает продовольственный талон, идет прямиком домой и запирает за собой дверь.
Этьен, шаркая, спускается в кухню.
— Что тут написано, дядя?
— Тут написано: «Мсье Дроге сообщает своей дочери в Сен-Кулом, что идет на поправку».
— Она сказала, это важно.
— Что это значит?
Мари-Лора снимает рюкзак, достает батон и отламывает горбушку. Говорит:
— Думаю, это значит, что мсье Дроге поправляется и хочет сообщить об этом своей дочери.
В следующие недели мадам Рюэль продолжает передавать записки. Новорожденный в Сен-Венсане. Умирающая бабушка в Ла-Маре. Мадам Гардиньер в Ла-Рабинэ передает сыну, что простила его. Есть ли в этих сообщениях тайный смысл и не кроется ли в сообщении: «Мсье Файю скончался от сердечного приступа» — приказ: «Взорвите сортировочный узел в Ренне», Этьену неведомо. Главное, что люди слушают, что у обычных граждан есть приемники, что они ждут весточек от близких. Он не выходит из дому, не видит никого и тем не менее оказался в самом средоточии человеческого общения.
Этьен настраивает микрофон и читает числа, потом записки. Он передает на пяти разных частотах, добавляет, когда и на какой частоте будет следующая передача, в конце ставит музыку. В целом получается до шести минут.
Слишком долго. Почти наверняка слишком долго.
И однако за ним не приходят. Колокольчики не звенят. Немецкие солдаты не вламываются в дом, чтобы застрелить их с Мари-Лорой.
Почти каждый вечер она просит Этьена почитать отцовские письма, хотя давно выучила их наизусть. Сегодня он сидит на краешке ее кровати.
Сегодня я видел дуб, который притворялся каштаном.
Я знаю, что ты поступишь правильно.
Если захочешь понять, поищи внутри дома Этьена внутри дома.
— Как ты думаешь, почему он два раза написал «внутри дома»?
— Мы уже столько раз это обсуждали, Мари.
— А что, по-твоему, он делает прямо сейчас?
— Наверняка спит, милая.
Она перекатывается на бок, он натягивает одеяло ей на плечи, задувает свечу и смотрит на миниатюрные крыши и печные трубы макета. И вдруг приходит воспоминание: Этьен вместе с братом на лугу к востоку от города. Тем летом в Сен-Мало появились светлячки; отец сделал детям по длинному сачку и дал банки с закрывающимися крышками. Этьен и Анри носились по высокой траве, а светлячки улетали от них вверх, и казалось, земля горит, а это искры, брызжущие из-под ног.
Анри тогда сказал, что хочет насобирать полную банку и поставить на подоконник, чтобы моряки видели его окно за много миль.
Если этим летом светлячки и были, они не залетали на улицу Воборель. А теперь здесь лишь тени и тишина. Тишина — плод оккупации; она висит на ветках, сочится из водосточных канав. Мадам Гибу, мать сапожника, уехала из города. И старая мадам Бланшар тоже. Столько темных окон! Как будто город превратился в огромную библиотеку, где все книги на неведомых языках. Дом — полки томов, которые никто не читает, все лампы погашены.
Однако есть передатчик на чердаке. Искорка в ночи.
Из проулка доносится звук шагов. Этьен приоткрывает ставни в спальне Мари-Лоры, смотрит на шесть этажей вниз и видит в лунном свете призрак мадам Манек. Воробьи садятся в ее протянутую руку, и она одного за другим убирает их за пазуху.
Луданвьель
Пиренеи сияют. Дырчатая луна сидит на их пиках, словно насаженная. В ее платиновом свете фельдфебель фон Румпель доехал на такси до комиссариата и теперь беседует с капитаном полиции, который то и дело подкручивает двумя пальцами роскошные усы.
Произошло ограбление в шале видного мецената, связанного с Парижским музеем естествознания. Французская полиция арестовала преступника; при задержании у него изъяли сумку с драгоценными камнями.
Проходит довольно много времени. Капитан разглядывает ногти на левой руке, потом на правой, потом снова на левой. Фон Румпель ждет. Сегодня он чувствует изрядную слабость, его мутит. Врачи сказали, что лечение закончено, осталось наблюдать, как поведет себя опухоль, но иногда по утрам он не в силах выпрямиться после того, как завязал шнурки.
Подъезжает автомобиль. Капитан выходит его встречать. Фон Румпель смотрит в окно.
Двое полицейских вытаскивают с заднего сиденья хлипкого мужчину в бежевом костюме. Под левым глазом у него лиловый фингал. Руки в наручниках. Воротник забрызган кровью. Всё как будто он только что играл злодея в кино. Полицейские ведут его в комиссариат, а капитан достает из багажника сумку.
Фон Румпель вынимает из кармана белые перчатки. Капитан закрывает дверь кабинета, кладет сумку на стол и опускает жалюзи. Наклоняет абажур настольной лампы. Где-то неподалеку захлопывается дверь камеры. Капитан достает из сумки телефонную книжку, стопку писем и дамскую пудреницу. Затем отрывает фальшивое дно и вытаскивает шесть бархатных свертков. Разворачивает их один за другим. В первом три роскошных берилла: розовых, толстых, шестигранных. Во втором — друза амазонита, бирюзового, с тонкими белыми прожилками. В третьем — алмаз грушевидной огранки.
По пальцам фон Румпеля пробегает дрожь. Капитан достает из кармана лупу; по лицу расплывается неприкрытая алчность. Он долго изучает алмаз, поворачивая его так и этак. Перед глазами фон Румпеля проплывают видения Фюрермузеума: колонны, сверкающие витрины, драгоценные камни под стеклом… И еще от камня исходит некая энергия, как бы слабый электрический ток. Шепчет ему, обещает уничтожить болезнь.
Наконец капитан опускает лупу — от нее вокруг глаза остался розовый вдавленный ободок. Влажные губы блестят в свете лампы. Он кладет алмаз обратно на полотенце.
Фон Румпель протягивает руку через стол. Вес правильный. Камень холодит пальцы даже через перчатку. Насыщенная голубизна по краям.
Верит ли он?
Дюпон почти разжег пламень в этом куске шпинели, однако в лупу видно: камень — точная копия того, который фон Румпель осматривал в музее два года назад. Он кладет подделку на стол.
У капитана вытягивается лицо.
— Но разве не надо, по крайней мере, посветить на него рентгеновскими лучами?
— Делайте что хотите, на здоровье. Письма я с вашего разрешения заберу.
К полуночи он уже в гостинице. Две подделки. Дело движется в нужную сторону. Два камня найдены, два предстоит найти, и один из них будет настоящим. На обед он заказывает мясо кабана с грибами. И целую бутылку бордо. В военное время особенно важно не опускаться. Именно такие вещи составляют разницу между цивилизованным человеком и варваром.