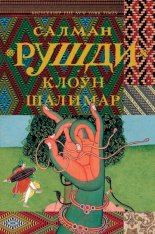Уральские сказы – I Бажов Павел

– Чем, бабушка, несчастный?
– А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.
Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:
– Иди-ко теперь к Прокопьичу – малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.
Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает. Прокопьич поглядел на него, да и говорит:
– Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь – еле живой стоит.
Пошел Прокопьич к приказчику:
– Не надо такого. Еще ненароком убьешь – отвечать придется.
Только приказчик – куда тебе, слушать не стал:
– Дано тебе-учи, не рассуждай! Он – этот парнишка – крепкий. Не гляди, что жиденький.
– Ну, дело ваше, – говорит Прокопьич, – было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.
– Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, – отвечает приказчик.
Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан – кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:
– Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?
Данилушко и отвечает:
– На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.
Прокопьич закричал, конечно:
– Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?
– То и понимаю, что эту штуку испортили, – отвечает Данилушко.
– Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне – первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!
Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал – с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:
– Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, по-твоему, сделать?
Данилушко и стал показывать да рассказывать:
– Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше-пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.
Прокопьич, знай, покрикивает:
– Ну-ну… Как же! Много ты понимаешь. Накопил – не просыпь! – А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок-он и ноги протянет».
Подумал так, да и спрашивает:
– Ты хоть чей, экий ученый?
Данилушко и рассказал про себя.
Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут. Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское – про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопьич пожалел:
– Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.
Потом будто рассердился, заворчал:
– Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то – не руками, – всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.
Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо. Поели, Прокопьич и говорит:
– Ложись вон тут на скамеечке!
Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, – вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, – все ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку – давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.
– Вот тебе и Недокормышек! – дивится Прокопьич. – Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну, и глазок! Ну, и глазок!
Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:
– Спи-ко, глазастый!
А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом – то-тепло ему стало, – и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу.
Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота – как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.
– С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, – живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.
На другой день и говорит Данилушке:
– Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, – в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь – то и ладно. Хлеба возьми полишку, – естся в лесу-то, – да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?
На другой день опять говорит:
– Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?
Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:
– Ладно, да не вовсе. Лови других.
Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить – пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьнч справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали.
Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.
В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! – понял прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокпьичу расскажет, да и спрашивает – это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет.
Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я…» – Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.
Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:
– Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу. По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…
Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.
– Ну-ко, – говорит, – тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.
Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:
– Ты чей? Данилушко и отвечает:
– В ученье, дескать у мастера по малахитному делу.
Приказчик тогда хвать его за ухо:
– Так-то ты, стервец, учишься! – Да за ухо и повел к Прокопьичу.
Тот видит – неладно дело, давай выгораживать Данилушку:
– Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.
Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:
– Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?
Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит – у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево.
Однем словом, все как есть.
Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:
– Этот, видно, гож тебе пришелся?
– Не жалуюсь, – отвечает Прокопьич.
– То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу – до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.
Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:
– Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.
– Сам же, – говорит Данилушко, – показывал да рассказывал, а я примечал.
У Прокопьича даже слезы закапали, – до того ему это по сердцу пришлось.
– Сыночек, – говорит, – милый, Данилушко… Что еще знаю, все тебе открою… Не потаю…
Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные.
Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь – у малахитчиков – дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.
А как выточил зарукавье – змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:
«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу – Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»
Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:
– Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится – только камень без пользы изведет.
Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без натуги. Поучился даже большой потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:
– Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?
Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой, потряхивает:
– Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.
Барин на приказчиково известие отписал:
«Пусть тот прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу – на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь – с тебя взыск будет».
Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:
– Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.
Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет… Закричал только: «Не твое дело!»
Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:
– Ты, гяяди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.
Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай – не делай, а срок отбывай – сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:
– Еще такую же делай!
Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:
– Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!
Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, – то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердят был, – все как есть наоборот повернул.
Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать – может-де вдвоем-то скорее придумают что новенькое.
При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».
Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.
Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, – пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает – хорошо идет дело Одно ему не по нраву – трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:
– Тебе-то что? Придумали – значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они – толком и не знаю.
Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:
– Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!
Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, – не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, – и говорит:
– Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь – твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо – такой и дам.
Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано – чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать – не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:
– Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.
– И то, – говорит Данилушко, – в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.
С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Даннлушко остановичся где на покосе, либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку – не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:
– Потерять не потерял, а найти не могу.
Ну, которые и запоговаривали:
– Неладно с парнем.
А он придет домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:
– Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.
Прокопьич давай отговаривать:
– На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор – сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать – только и всего.
Ну, Данилушко на своем стоит.
– Не для барина, – говорит, – стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.
По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:
– Лента каменная с дырками, каемочка резная…
Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:
– По дурман-цветку свою чашу делать буду.
Прокопьнч отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:
– Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай… Не могу ее из головы выбросить.
Прокопьич отвечает:
– Ладно, мешать не стану, – а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».
Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много – в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:
– Вот хоть бы Катя Летемина – чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.
Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:
– Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди – молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.
Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя – невеста-то – с родителями пришла, еще которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.
– Как, – говорит, – только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!
Мастера тоже одобряют:
– В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь – пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.
Данилушко слушал-слушал, да и говорит:
– То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на него – сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.
– А где оплошал, – смеются мастера, – там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.
– Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!
Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.
Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говоривал:
– Камень – камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое – точить да резать.
Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех – других-то мастеров – учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:
– Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера…
– Какие мастера, дедушко?
– А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.
Всем любопытно стало. Спрашивают, – какую поделку видел.
– Да змейку, – говорит, – ту же, какую вы на зарукавье точите.
– Ну, и что? Какая она?
– От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает – не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки… Того и гляди – клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.
Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:
– Не знаю, милый сын. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.
Данилушко на это и говорит:
– Я бы поглядел.
Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:
– Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? – да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера насмех подымать:
– Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.
Старик разгорячился, по столу стукнул:
– Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.
Мастера смеются:
– Хлебнул, дедушко, лишка! А он свое:
– Есть каменный цветок!
Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман – цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:
– Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди – пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?
Данилушко одно свое:
– Погоди ты маленько! Вот только – придумаю – да камень подходящий подберу.
И повадился он на медный рудник – на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:
– Нет, не тот…
Только это промолвил, кто-то и говорит:
– В другом месте поищи… у Змеиной горки.
Глядит Данилушко, – никого нет.
Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:
– Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.
Оглянулся Данилушко, – женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.
«Что, – думает, – за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»
Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали. Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.
Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень – на руках не унести – и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, все, как есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:
– Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!
Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки – все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит – живой цветок-то хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел – тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки – как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Не живой стал и красоту потерял.
Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, – чего еще парню надо? Чаша вышла – никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, – поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.
– Ладно, – говорит, – больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. – И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит – вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:
– Погоди маленько, доделка есть.
Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это – вот-де скоро змеи все в одно место соберутся.
Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» – и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».
Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, – думает, – отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит – у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!»
Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:
«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит – молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:
– Ну, что Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?
– Не вышла, – отвечает.
– А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.
– Нет, – отвечает, – не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.
– Показать-то, – говорит, – просто, да потом жалеть будешь.
– Не отпустишь из горы?
– Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.
– Покажи, сделай милость! Она еще его уговаривала:
– Может, еще попытаешь сам добиться! – Про Прокопьича тоже помянула: – Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. – Про невесту напомнила: – Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.
– Знаю я, – кричит Данилушко, – а только без цветка мне жизни нет. Покажи!
– Когда так, – говорит, – пойдем, Данило-мастер, в мой сад.
Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.