Шоссе Линкольна Тоулз Амор
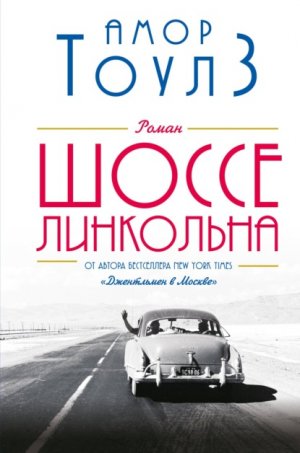
Джейк покраснел, то ли от усилия и гнева, а может быть, еще и от смущения.
– Подними кулаки, – сказал он.
Эммет не пошевелился.
– Кулаки, слышишь?
Эммет принял боксерскую стойку, поднял кулаки, но не настолько, чтобы защитить голову.
На этот раз Джейк ударил его в зубы. Эммета отбросило на три шага, он почувствовал вкус крови на губах. Он удержал равновесие и сделал три шага вперед, став досягаемым для нового удара. Он слышал, как чужой подзуживает Джейка, снова поднял кулаки на уровень груди, и Джейк сбил его с ног.
Мир вдруг пришел в беспорядок, накренился на тридцать градусов. Чтобы подняться на колени, Эммету пришлось опереться на дорогу обеими руками. Он чувствовал, как жар от бетона проходит в его ладони.
Он стоял на четвереньках, ждал, когда прояснится в голове; потом начал вставать.
Джейк шагнул к нему.
– Не вставай, – сказал он осипшим от волнения голосом. – Не вставай, Эммет Уотсон.
Эммет выпрямился, начал поднимать кулаки… но он не готов еще был стоять. Земля закружилась, встала дыбом, и он, крякнув, повалился на мостовую.
– Хватит, – раздался чей-то голос. – Хватит, Джейк.
Между зрителями пробивался шериф Питерсен.
Одному помощнику он велел отвести Джейка в сторону, а другому – отогнать зрителей. Сам сел на корточки и осмотрел Эммета. Даже повернул ему голову, чтобы получше разглядеть левую сторону лица.
– Кажется, ничего не сломано? Ты цел, Эммет?
– Я цел.
Шериф продолжал сидеть на корточках.
– Собираешься предъявить обвинение?
– В чем?
Шериф дал знак помощнику отпустить Джейка и снова обратился к Эммету – тот сидел на тротуаре и вытирал кровь с губы.
– Давно ты вернулся?
– Вчера.
– Быстро же он тебя отыскал.
– Да, быстро.
– Не могу сказать, что я удивлен.
Шериф помолчал.
– Ты дома остановился?
– Да, сэр.
– Ну, ладно. Давай-ка почистим тебя, прежде чем домой поедешь.
Шериф взял Эммета за руку, чтобы помочь встать. Но при этом успел взглянуть на костяшки его пальцев.
Шериф и Эммет ехали по городу в «студебекере» – Эммет на пассажирском месте, шериф за рулем, вел машину спокойно, неторопливо. Эммет кончиком языка ощупывал зубы. Шериф насвистывал песню Хэнка Уильямса и вдруг оборвал ее.
– Неплохая машина. Сколько может выжать?
– Миль восемьдесят, без тряски.
– Смотри ты.
Шериф по-прежнему вел неторопливо, плавно входя в повороты, насвистывая. Когда проехали поворот к участку, Эммет посмотрел на него вопросительно.
– Я подумал, к нам тебя отвезу, – объяснил шериф. – Пусть Мэри на тебя взглянет.
Эммет не возражал. Ему не мешало почиститься перед тем, как ехать домой, но еще раз в полицию не хотелось.
Они остановились на дорожке к дому Питерсенов, и Эммет хотел уже открыть дверь, но шериф не двинулся с места. Он сидел, положив руки на руль – так же, как директор колонии накануне.
Эммет ждал, когда заговорит шериф, и смотрел через ветровое стекло на шину, подвешенную к дубу на дворе. С детьми шерифа он не был знаком, но знал, что они взрослые; непонятно было, то ли эта шина – память об их детстве, то ли шериф повесил ее для внуков. А может, ее повесили еще до того, как шериф купил дом.
– Я подошел уже к концу вашей стычки, – сказал шериф, – но по виду твоей руки и лица Джейка могу предположить, что сам ты не усердствовал.
Эммет не ответил.
– Ну, может, ты счел, что тебе причитается, – продолжал шериф задумчивым тоном. – А может, пройдя то, что тебе пришлось пройти, решил, что пора для драк осталась позади.
Шериф посмотрел на Эммета, будто ожидая ответа, но Эммет молчал и продолжал смотреть на качели.
– Не против, если закурю у тебя в машине? – помолчав, спросил шериф. – Мэри больше не разрешает мне курить в доме.
– Я не против.
Шериф вынул из кармана пачку и щелчком выдвинул две сигареты, одну протянул Эммету. Эммет взял, шериф поднес зажигалку ему, потом себе. Из уважения к машине опустил стекло. Он затянулся, выпустил дым и сказал:
– Война почти десять лет как закончилась. Но некоторые из тех, что вернулись, ведут себя так, как будто она продолжается. Взять Дэнни Хогланда. Месяца не проходит, чтобы меня не вызвали из-за него. То драку затеет в придорожном ресторане, то симпатичной жене своей влепит пощечину в супермаркете.
Шериф покачал головой, словно недоумевая, что эта красивая женщина нашла в Дэнни Хогланде.
– А в прошлый вторник? Меня вытащили из постели в два часа ночи: Дэнни стоял перед домом Айверсонов с пистолетом, кричал о какой-то старой обиде. Айверсоны ничего не могли понять. А оказалось, обида была вовсе не на Айверсонов. На Баркеров. И стоял он не перед тем домом. И даже квартал не тот.
Эммет невольно улыбнулся.
– А вот другой край спектра. – Шериф показал сигаретой на какую-то невидимую аудиторию. – Ребята вернулись с войны и дали зарок, что больше никогда не тронут человека. Очень уважаю такую позицию. Право на нее они сполна заслужили. Штука в том, что, когда доходит до виски, Дэнни Хогланд по сравнению с ними – мальчик. Из-за них меня из постели не вытаскивают. Потому что перед домом Айверсонов, или Баркеров, или еще чьим-то они не стоят в два часа ночи. Они сидят у себя в комнате, в темноте, и тихо уговаривают бутылку виски. Я что хочу сказать, Эммет, – ни тот, ни другой способ жизни не кажется мне таким уж хорошим. Воевать все время нельзя, но и забывать нельзя, что ты мужчина. Можешь позволить избить себя раз-другой. Это твое право. Но, в конце концов, надо и постоять за себя – как ты умел.
Теперь шериф посмотрел на Эммета.
– Ты понял меня, Эммет?
– Да, сэр. Понял.
– Я слышал от Эда Рэнсома, ты уезжаешь из города…
– Завтра уезжаем.
– Ну, хорошо. Мы тебя почистим, и я съезжу к Снайдерам, чтобы тебя сейчас не донимали. И коли на то пошло, кто-нибудь еще тебя донимает?
Эммет опустил стекло и выбросил окурок.
– Да большей частью советами, – сказал он.
Дачес
Когда приезжаю в новый город, стараюсь понять расклад – план улиц и характер людей. В некоторых городах потребуются дни. В Бостоне понадобятся недели. В Нью-Йорке – годы. В Моргене, Небраска, хватит нескольких минут.
В плане город – правильная сетка, со зданием суда в центре. По словам механика, который подвез меня на своем тягаче, в тысяча восемьсот восьмидесятых годах старейшины неделю совещались, решая, как лучше назвать улицы, и решили – с видом на будущее, что улицы, идущие с востока на запад, назовут в честь президентов, а улицы с севера на юг – по породам деревьев. Как выяснилось, можно было – по временам года и по карточным мастям, потому что спустя семьдесят пять лет город остался тем же – четыре квартала на четыре.
– Здравствуйте, – сказал я двум женщинам, шедшим навстречу, и ни одна не ответила.
Не поймите меня превратно. В таких городках есть своя прелесть. И есть люди, которые предпочтут жить здесь, а не где-нибудь еще – даже в двадцатом веке. Когда хочешь, например, немного разобраться в мире. В большом городе носишься среди шума и грохота – и события в мире могут казаться случайными. А в городе такого размера, когда из окна падает рояль и прямо кому-то на голову, ты скорее всего знаешь, чем несчастный это заслужил.
В общем, Морген был такой городок, где если случается что-нибудь необычное, то собираются зрители. И вот, обхожу я здание суда и вижу, полукругом собрались граждане, прямо в подтверждение моих слов. За двадцать шагов вижу типичный срез местного электората. Рабочие с ферм в шляпах, вдовы с сумками, парни в рабочих брюках. И спешит туда же мать с коляской и малышом у ног.
Я бросил остаток мороженого в мусор и подошел посмотреть поближе. И кого я вижу в центре сцены? Эммета Уотсона – вот кого, и его донимает какой-то молодой гужеед, со своими гужеедскими обидами.
Люди вокруг как будто взволнованы, по крайней мере, на свой аграрный лад. Не кричат, не улыбаются, но рады, что поспели к интересному. Неделями будет о чем посудачить в парикмахерской и в дамском салоне.
Эммет же выглядел замечательно. Стоял не моргая, опустив руки, не особо радуясь, что он здесь, но и уйти не торопился. А вот задира нервничал. То подступит, то отступит, рубашка мокра от пота, хотя привел с собой двух корешей.
– Джейк, я не хочу неприятностей, – говорил Эммет. – Я хочу сесть в машину и уехать.
– Я не могу тебе позволить, – ответил Джейк, но похоже было, что только этого он и хочет сейчас.
Тут один из приспешников – высокий в ковбойской шляпе – решил встрять.
– Похоже, у Джейка к тебе одно незаконченное дело, Уотсон.
Я этого ковбоя прежде не видел, но по тому, как у него была сдвинута шляпа и по улыбке на его лице я сразу понял, кто он такой. Такие затевают сотни драк, а сами стоят в сторонке.
И что же сделал Эммет? Завелся после слов ковбоя? Велел ему заткнуться и не лезть в чужие дела? Он даже не потрудился ответить. Только повернулся к Джейку и сказал:
– Если у нас незаконченное дело, давай закончим.
А?!
Если у нас незаконченное дело, давай закончим.
Ты можешь всю жизнь дожидаться, когда надо будет сказать такую фразу, а когда понадобится – спасуешь. Такая уравновешенность дается не воспитанием, не практикой. Ты либо родился с этим, либо нет. И чаще – нет.
Но дальше самое интересное.
Оказывается, Снайдер – брат того парня, которого Эммет вывел из строя в пятьдесят втором году. Это я понял из того, что он городил: якобы Джимми ударили исподтишка – как будто Эммет Уотсон может унизиться до того, чтобы ударить человека, который этого не ждал.
Когда подзуживание не подействовало, мистер Честный Боец посмотрел вдаль, словно задумавшись, а затем без предупреждения ударил Эммета в лицо. Эммет невольно ступил вправо, потряс головой, выпрямился и занял прежнее место.
«Ну, началось», – подумали все зрители. Ясно было, что Эммет может сделать из того котлету, хотя он фунтов на десять легче и дюйма на два ниже ростом. Но, к огорчению публики, он не ответил. Просто стоял на прежнем месте.
И это Джейка завело. Он сделался красным, как рак, и закричал Эммету, чтобы тот поднял кулаки. Эммет поднял – более или менее, – и Джейк опять его ударил. На этот раз – в зубы. Эммет попятился, но не упал. По губе текла кровь, он утвердился на ногах и подошел за новой порцией.
А ковбой, лениво прислонившийся к машине Эммета, крикнул: «Пропиши ему, Джейк», – как будто Джейк собирался преподать Эммету урок. Но ковбой все не так понял. Это Эммет преподавал урок.
Алан Лэдд в «Шейне».
Фрэнк Синатра в «Отныне и вовеки веков».
Ли Марвин в «Диком».
Знаете, что у этих троих общего? Всех троих избили. Не дали, там, в нос или под дых. А избили. Когда звенит в ушах, из глаз течет и во рту вкус крови. Лэдда отделали ребята Райкера в салуне Графтона. Синатру – в тюрьме садист Фатсо. А с Марвином расправился Марлон Брандо на улице американского городка вроде этого, и честные граждане так же собрались там посмотреть.
Готовность вытерпеть побои: вот когда ты понимаешь, что перед тобой основательный человек. Который не ошивается в сторонке, чтобы подлить бензина в чей-то костер, и не уходит домой целеньким и невредимым. Он стоит впереди и в центре, бесстрашный, готовый отстаивать свое, пока может стоять.
Да, урок преподавал Эммет. И не только Джейку. Он преподавал его всему этому поганому городишке.
А они не понимали, на что смотрят. По их лицам видно было, что смысл урока пролетает мимо их мозгов.
Джейк уже начал дрожать, наверное, думал, что продолжать это долго не сможет. Так что на этот раз постарался закончить одним ударом. Прицел и гнев соединив, он сшиб Эммета с ног.
Публика тихонько охнула, как будто выдохнула с облегчением, а ковбой заржал довольно, как будто это он нанес удар. Но Эммет стал подниматься.
Жаль, у меня не было фотоаппарата. Мог бы снять их и отправить фото в «Лайф». На обложку бы поместили.
Поверьте, это было красиво. Но для Джейка – уже чересчур. Чуть ли не плача, он шагнул вперед и закричал Эммету, чтобы тот не вставал. Чтобы не вставал, ради бога.
Не знаю, услышал ли его Эммет – наверное, в голове стоял звон. Услышал или не услышал, значения не имело. Он все равно собирался сделать то же самое. Ступая немного неуверенно, он снова приблизился к Джейку, выпрямился во весь рост и поднял кулаки. Но тут, видно, кровь отлила от головы, он пошатнулся и упал.
Видеть Эммета на коленях было неприятно, но меня это не обеспокоило. Ему просто нужна была минута, чтобы прийти в себя и подставиться. Это было ясно как божий день. Но он не успел – представление испортил шериф.
– Хватит, – сказал он, проталкиваясь между зрителями. – Хватит.
По приказу шерифа помощник стал разгонять зрителей – он махал рукой и каждому говорил, что пора двигаться. Но ковбоя разгонять не пришлось. Он сам себя разогнал. Как только на сцене появились власти, он надвинул шляпу на лоб и живенько зашагал мимо здания суда, словно направляясь в хозяйственный магазин за банкой краски.
Я пошел следом.
Дойдя до дальнего фасада, он пересек президентскую улицу и пошел по древесной. Так он спешил оказаться подальше от места своих забав, что даже не остановился возле старухи с тростью, пытавшейся засунуть сумку с продуктами в свой «форд-Т».
– Позвольте помочь, – сказал я.
– Спасибо, молодой человек.
Пока бабушка садилась за руль, ковбой уже прошел полквартала. Когда он свернул в проулок за кинотеатром, мне пришлось догонять его бегом, хотя бегать избегаю в принципе.
Теперь, перед тем как рассказать, что было дальше, я, пожалуй, немного отвлекусь, верну вас к тому времени, когда мне было лет девять и я жил в Льюисе.
Когда папаша сдал меня в приют святого Николая для мальчиков, монахиней, отвечавшей за нас, была женщина весьма определенных мнений и неопределенного возраста – сестра Агнесса. Понятно, что решительная женщина евангелической профессии, очутившись в среде подневольных слушателей, воспользуется каждой возможностью донести до них свою точку зрения. Но не сестра Агнесса. Как опытный артист, она умела выбрать момент. Она появлялась незаметно, держась в тени, пока остальные произносили свои реплики, а затем выходила на авансцену и за пять минут пожинала лавры.
Больше всего она любила поделиться мудростью перед отбоем. Она входила в спальню, тихо наблюдала, как суетятся остальные сестры – одному ребенку показывают, как складывать одежду, другому велят вымыть лицо и всем – помолиться. Когда все улеглись, сестра Агнесса выдвигала стул и преподавала урок. Как вы можете догадаться, сестра Агнесса была неравнодушна к библейской грамматике, но говорила она так прочувствованно, что всякая болтовня стихала, и слова ее еще долго звучали в наших ушах, когда был погашен свет.
Один из любимых ее уроков именовался «Цепями неправедности».
«Мальчики, – произносила она материнским тоном, – когда-нибудь вы причините зло другим, и другие причинят зло вам. И эти два зла станут вашими цепями. Зло, которое вы причинили другим, повиснет на вас в виде вины, а зло, причиненное вам другими, – в виде негодования. Учение Иисуса Христа, нашего Спасителя, освободит вас от обоих. Освободит вас от вины путем искупления; от негодования – путем прощения. И только освободившись от этих цепей, вы сможете жить своей жизнью с любовью в сердце и идти по жизни безмятежно».
Я тогда не понимал, о чем она толкует. Не понимал, как твоим движениям могут помешать какие-то грешки – по моему опыту, те, кто были склонны поступать нехорошо, к финишу приходили первыми. Я не понимал, почему, если кто-то плохо поступил с тобой, ты должен нести бремя за него. И уж совсем не понимал, что значит идти по жизни безмятежно. Но еще сестра Агнесса говорила: «Какой мудростью Господь не счел нужным наделить нас при рождении, он дарует ее нам через опыт». И в самом деле, когда я повзрослел, жизнь научила находить какой-то смысл в проповедях сестры Агнессы.
Как с моим приездом в Салину.
Это было в августе; в воздухе тепло, дни длинные, и надо убирать первый урожай картошки. «Ветхозаветный» Акерли заставлял работать от зари до сумерек, и когда кончался ужин, желание было одно: выспаться. Но свет гасили, а у меня, бывало, все крутится в голове, как я вообще очутился в Салине, и все припоминаю в тяжелых подробностях, пока не закричат петухи. А иногда воображаю, как меня вызывают к директору, и он мрачно сообщает мне об автомобильной аварии или о пожаре в гостинице, где погиб мой папаша. И если в первую минуту такие видения умиротворяют меня, то остаток ночи будет мучить стыд и раскаяние. Вот так вместе: негодование и чувство вины. Два противоречивых чувства сбивали с толку, и я уже примирился с мыслью, что, может быть, больше никогда не высплюсь.
Но когда директор Уильямс сменил Акерли и началась эпоха реформ, он учредил программу вечерних занятий, которые должны были подготовить нас к жизни в качестве честных граждан. Для этого приходил учитель обществоведения и рассказывал нам о трех ветвях власти. Приходил член городской управы и рассказывал про бич коммунизма и про долг каждого гражданина участвовать в голосовании. И тогда нам хотелось поскорее вернуться на картофельное поле.
А несколько месяцев назад он пригласил дипломированного аудитора ознакомить нас с основами финансовой грамотности. Рассказав о взаимосвязи между ресурсами и денежными обязательствами, аудитор подошел к доске и в нескольких штрихах обрисовал, как сводятся личные счета. И вот тут, сидя в заднем ряду душной классной комнаты, я наконец понял, о чем говорила сестра Агнесса.
По ходу жизни, говорила она, мы можем поступить несправедливо с другими, и они – поступить несправедливо по отношению к нам, и в результате – упомянутые цепи. Иными словами, через свой проступок мы оказываемся в долгу перед другим человеком, так же, как и другие через свои проступки оказываются в долгу перед нами. И поскольку эти долги – и наши, и долги других перед нами – нас томят и гложут ночами, единственный способ хорошо выспаться – это подвести баланс.
Эммет слушал не намного внимательнее, чем я, но ему и не было нужды прислушиваться именно к этому уроку. Он выучил его задолго до приезда в Салину. Выучил на личном опыте, пока рос в тени отцовской неудачи. Вот почему без колебаний подписал отказ от права выкупа имущества. Вот почему не захотел взять в долг у мистера Рэнсома и забрать фарфор с нижней полки шкафа. И почему с удовольствием позволил себя избить.
Как сказал этот ковбой, у Джейка к Эммету было незаконченное дело. Неважно, кто кого спровоцировал, но когда Эммет ударил Снайдера на ярмарке, он стал должником так же несомненно, как его отец, когда заложил семейную ферму. И с того дня долг висел над Эмметом – и не давал спать, – пока не был взыскан кулаками кредитора на глазах у публики.
Но если надо было выплатить долг Джейку Снайдеру, то ковбою он ни черта не был должен. Ни шекеля, ни драхмы, ни медного цента.
– Эй, техасец, – крикнул я ему на бегу. – Постой!
Ковбой остановился и оглядел меня.
– Я тебя знаю?
– Ты меня не знаешь, сэр.
– Тогда чего тебе надо?
Я поднял руку, пытаясь отдышаться, потом ответил.
– Там, возле здания суда, ты сказал, что у твоего друга Джейка незаконченное дело к моему другу Эммету. С таким же успехом я мог бы сказать, что у Эммета незаконченное дело с Джейком. Но так или эдак, у Джейка дело к Эммету или у Эммета дело к Джейку, согласимся, что тебе до этого никакого дела.
– Слушай, я не пойму, о чем ты толкуешь.
Я постарался разъяснить.
– Я что говорю: если у Джейка и была причина избить Эммета, а у Эммета – терпеть побои, то у тебя причин подначивать и злорадствовать никаких не было. Со временем, я думаю, ты будешь сожалеть о том, какую роль играл в сегодняшних событиях, и тебе захочется это исправить, – чтобы успокоить совесть. Но Эммет завтра уезжает из города – и тогда уж будет поздно.
– Знаешь, что я думаю? – сказал ковбой. – Я думаю, шел бы ты на хер.
Он повернулся и пошел прочь. Вот так, просто. Даже не попрощался.
Признаюсь, я немножко скис. Вот, помогаешь незнакомцу понять, какую тяжесть он на себя взял, а он поворачивается к тебе задом. Такая реакция может навсегда отвратить тебя от благих порывов. Но еще один урок сестры Агнессы заключался в том, что, исполняя труд Господень, надо иметь терпение. Ибо так же верно, как то, что праведный встретит препоны на пути к справедливости, Господь так же верно даст ему средства, чтобы их преодолеть.
И – чудо! Что вдруг является передо мной, как не мусорный ящик перед кинотеатром, полный до краев вчерашнего мусора. И среди бутылок от кока-колы и коробок от попкорна торчит стандартная доска два дюйма на четыре, длиной с руку.
– Эй! – крикнул я на бегу. – Постой секунду!
Ковбой повернулся кругом, и по лицу его я понял, что он готов отмочить что-то изумительное, позабавить всех ребят в баре. Но, боюсь, этого мы не узнаем – я хрястнул его раньше, чем он заговорил.
Удар пришелся на левую сторону головы. Шляпа взлетела в воздух, сделала кульбит и приземлилась на другой стороне проулка. Ковбой упал на месте, как марионетка с обрезанными нитями.
Я ни разу в жизни не ударил человека. И, честно говоря, первое впечатление – было больно. Я переложил доску в левую руку и посмотрел на правую ладонь – углы доски оставили на ней два красных следа. Я бросил доску и потер ладонью о ладонь, убрать жжение. Потом нагнулся – получше рассмотреть ковбоя. Ноги у него были подогнуты, левое ухо рассечено надвое, но он еще был в сознании. Или почти.
– Слышишь меня, ковбой? – спросил я.
Потом заговорил громче, чтобы он наверняка услышал.
– Считай, что расплатился с долгом полностью.
Он посмотрел на меня, заморгал. А потом чуть-чуть улыбнулся, и по тому, как закрылись у него глаза, стало понятно, что он уснул сном младенцы.
Выходя из проулка, я ощутил не просто моральное удовлетворение: шаги как будто стали легче и походка пружинистее.
Скажи пожалуйста, весело подумал я. И походка безмятежная!
Наверное, это было заметно. Потому что, выйдя из проулка, я поздоровался с двумя стариками, и они мне ответили. По дороге в город десять машин проехали мимо, и только механик меня подвез. А сейчас, по дороге к Уотсонам, остановилась первая же машина, и предложили подбросить.
Вулли
Интересная штука с любой историей, раздумывал Вулли – пока Эммет был в городе, Дачес гулял, а Билли читал вслух толстую красную книгу, – интересная штука с любой историей: ее можно пересказывать и долго, и коротко.
«Графа Монте-Кристо» Вулли первый раз услышал, когда был младше, чем Билли. Его семья проводила лето в Адирондакских горах, и каждый вечер перед сном сестра Сара прочитывала ему главу из книги Александра Дюма, а там тысяча страниц.
С тысячью страниц дело такое, что чувствуешь приближение волнующего места, но надо ждать и ждать, когда до него действительно дойдет. Иногда так долго ждать приходится, что по дороге засыпаешь. В большой красной книге у Билли профессор Абернэти пересказал весь сюжет на восьми страницах. И в его пересказе, когда чувствуешь приближение волнующего места, оно появляется мигом.
Взять, например, ту часть, которую Билли сейчас читает. Эдмона Дантеса приговорили за преступление, которого он не совершал, и сажают на всю жизнь в страшный замок Иф. Его еще только ведут в цепях через громадные ворота замка, а вы уже знаете, что он непременно сбежит. Но в повествовании мистера Дюма, до того как Дантес вырвется на свободу, ты должен прослушать столько фраз, главу за главой, что кажется, ты сам уже заперт в замке Иф! У профессора Абернэти не так. В его рассказе герой прибывает в тюрьму, сидит восемь лет в одиночке, завязывает дружбу с аббатом Фариа и чудесным образом сбегает – все на одной странице.
Вулли показал на одинокое облако, плывущее по небу.
– Так, я думаю, выглядел замок Иф.
Наставив палец на прерванное место, Билли посмотрел на облако и охотно согласился.
– С отвесными каменными стенами.
– И сторожевая башня посередине.
Вулли и Билли улыбнулись, увидев одно и то же; потом Билли стал серьезен:
– Можно задать тебе вопрос?
– Конечно, конечно.
– Тяжело было в Салине?
Вулли задумался над вопросом, а в небе замок Иф превратился в океанский лайнер с огромной трубой на месте сторожевой башни.
– Нет, – сказал Вулли, – не так уж тяжело. Точно не так, как Эдмону Дантесу в замке Иф. Просто… каждый день там – как все другие.
– Как это, как все другие?
– В Салине мы встаем в одно и то же время, одеваемся в одно и то же. Каждый день завтракаем за одним и тем же столом, с одними и теми же людьми. Каждый день делаем одну и ту же работу на одних и тех же полях и ложимся спать в один и тот же час на те же кровати.
Хотя Билли был еще мал или же потому, что был мал, он, казалось, понимал, что просыпаться, одеваться, завтракать – само по себе нормально, но есть что-то глубоко несообразное в том, чтобы это делалось совершенно одинаково изо дня в день, особенно в тысячестраничном варианте твоей собственной жизни.
Билли кивнул, нашел место, где остановился, и продолжал читать.
А у Вулли не хватило духу сказать Билли, что, конечно, таков был образ жизни в Салине, но он таков же и во многих других местах. Такой же образ жизни, несомненно, был в пансионах. Не только в «Святом Георгии», последнем, куда сдали Вулли. Во всех трех, где он учился, в одно и то же время просыпались, одевались, завтракали за одним и тем же столом, с теми же людьми, и отправлялись в те же классы, на те же уроки.
Над этим Вулли часто задумывался. Почему начальство этих школ решило сделать каждый день таким, как все другие? По размышлении он пришел к выводу, что делается это потому, что так проще управлять. Если каждый день устроен так же, как все остальные, повар всегда знает, когда приготовить завтрак, учитель истории – когда преподать историю, дежурный по школе – когда проверить порядок в здании.
А потом у Вулли случилось озарение.
Это было в первом семестре его второго года в одиннадцатом, выпускном классе школы святого Марка. По дороге с физики на физкультуру он увидел, как из такси перед зданием школы выходит декан по воспитательной работе. Увидев такси, Вулли подумал, каким приятным сюрпризом будет его приезд для сестры, недавно купившей большой белый дом в Гастингсе-на-Гудзоне. Он живо сел в машину и сказал шоферу адрес.
«Это что, в Нью-Йорке?» – удивился таксист.
«Да, в Нью-Йорке», – подтвердил Вулли, и они поехали.
Приехали через несколько часов, и Вулли застал сестру на кухне – она только начала чистить картофелину.
– Привет, сестренка!
Если бы Вулли нагрянул с визитом к любому другому члену семьи, не было бы отбоя от вопросов «как», «что», «почему» (особенно ввиду того, что ему потребовались сто пятьдесят долларов за такси, дожидавшееся перед домом). Но, расплатившись с шофером, Сара просто поставила чайник на плиту, печенье на стол, и они чудесно посидели, как в старое время, болтая о том о сем, обо всем, что пришло в голову.
Но через час примерно в кухню вошел зять Вулли «Деннис». Сестра была на семь лет старше Вулли, а «Деннис» на семь лет старше Сары, так что, математически, «Деннису» было тогда тридцать два. Но «Деннис» вдобавок был еще на семь лет старше себя самого, то есть по характеру – почти сорок. Вот почему, вероятно, он был уже вице-президентом в «Дж. П.Морган, сыновья и Ко».
Когда «Деннис» увидел Вулли за столом в кухне, он несколько расстроился, потому что Вулли полагалось быть где-то в другом месте. И еще больше расстроился, увидев на столе недочищенную картофелину.
– Где ужин? – спросил он Сару.
– Боюсь, я еще не начала готовить.
– Но уже половина восьмого.
– О, господи боже, Деннис.
С минуту «Деннис» смотрел на Сару изумленно, потом повернулся к Вулли и спросил, нельзя ли ему поговорить с Сарой с глазу на глаз.
По опыту Вулли знал: когда кто-то с кем-то хочет поговорить с глазу на глаз, ты не совсем понимаешь, что с собой делать. Во-первых, тебе обычно не сообщают, надолго ли они уединятся, и неизвестно, насколько серьезное ты должен придумать себе занятие. Воспользоваться случаем и сходить в туалет? Или начать складывать пазл с гонкой яхт, с пятьюдесятью спинакерами? И далеко ли удалиться? Ясно – так, чтобы не слышать их разговора. Поэтому ведь и попросили тебя. Но можно и так понять, чтобы не слишком далеко, чтобы мог услышать, когда позовут обратно.
Размышляя над этой дилеммой, Вулли перешел в гостиную, где увидел неиспользуемый рояль, несколько нечитаных книг и незаведенные стоячие часы, которые действительно стояли с дедовских времен! Но выяснилось, при том, как расстроен был «Деннис», что гостиная слишком близко, и Вулли слышал каждое слово.
«Это ведь ты хотела переехать из города, – говорил «Деннис». – А вставать на рассвете – мне, чтобы попасть на поезд в шесть сорок две и успеть к восьми в банк на заседание инвестиционного комитета. А потом почти десять часов, пока ты занимаешься неизвестно чем, я тружусь как вол. Потом сломя голову на вокзал, и, если повезет, – успеть на поезд в шесть четырнадцать, и тогда, может быть, доберусь до дома в половине восьмого. После такого дня неужели это так много – просить, чтобы был на столе ужин?»
Тут-то и пришло озарение. Стоя перед дедовскими часами, слушая зятя, Вулли вдруг осознал, что, может быть – может быть – в «Святом Георгии», «Святом Марке» и «Святом Павле» каждый день организован, как все другие, не потому, что так легче управлять жизнью, а потому, что это самый лучший способ подготовить прекрасных молодых подопечных к тому, чтобы они успевали на поезд в шесть сорок две и к восьми – на заседание.
И в ту самую минуту, когда Вулли закончил вспоминать о своем озарении, Билли дошел до того места в рассказе, когда Эдмон Дантес, спасшись из тюрьмы, стоит в тайной пещере на острове Монте-Кристо перед великолепной грудой бриллиантов, жемчуга, рубинов и золота.
– Знаешь, Билли, что было бы великолепно? Знаешь, что было бы совершенно великолепно?
Наставив палец на прерванное место, Билли поднял голову от книги.
– Что, Вулли? Что было бы великолепно?
– День, не похожий на все другие.
Салли
На прошлой воскресной службе его преподобие Пайк читал из Евангелия притчу, где Иисус с апостолами приходит в селение, и женщина приглашает их в дом. Устроив их удобно, эта женщина, Марфа, уходит на кухню готовить им угощение. И все время, пока она готовит и ухаживает за ними, наполняет пустые стаканы, накладывает вторую порцию, ее сестра Мария сидит у ног Иисуса.
В конце концов, утомившись, Марфа не в силах сдержать свои чувства. «Господи, – говорит она, – разве не видишь, что моя бездельница сестра одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Или что-то в этом духе. А Иисус отвечает: «Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть».
Ну, уж извините меня. Если вам нужно доказательство, что Библия написана мужчиной, – то вот оно вам.
Я хорошая христианка. Я верю в Бога, Отца всемогущего, сотворившего небо и землю. Я верю, что Его единственный сын Иисус Христос, рожденный Девой Марией и пострадавший при Понтии Пилате, был распят, умер, был похоронен и на третий день воскрес. Верю, что он вознесся на небо и снова придет судить живых и мертвых. Верю, что Ной построил ковчег и ввел по деревянным сходням всех разных тварей до того, как сорок дней и ночей шел дождь. Хочу даже верить, что с Моисеем говорил неопалимый куст. Но не хочу верить, что Иисус Христос, наш спаситель – в два счета очистивший прокаженного, вернувший зрение слепым – отвернется от женщины, которая хлопочет по хозяйству.
Так что Его я не виню.
Виню я Матфея, Марка, Луку и Иоанна и всех остальных мужчин, служивших с тех пор священниками или проповедниками.
С мужской точки зрения одно только нужно: чтобы ты сидела у его ног и слушала, что он скажет, – неважно, долго ли он будет говорить и сколько раз говорил это раньше. На его взгляд, у тебя сколько угодно времени, чтобы сидеть и слушать, – еда там сама приготовится. Манна с неба упадет, и по щелчку пальцев вода превратится в вино. Любая женщина, взявшаяся испечь яблочный пирог, скажет вам, что именно так мужчина видит мир.
Чтобы испечь яблочный пирог, первым делом тебе надо замесить тесто. Надо порезать масло в муку, добавить взбитые яйца, несколько ложек холодной воды и оставить на ночь. Утром ты чистишь яблоки, вырезаешь сердцевину, режешь на ломтики и добавляешь сахар с корицей. Раскатываешь тесто для верхней корочки и собираешь пирог. Потом пятнадцать минут выпекаешь при двухстах двадцати градусах и еще сорок пять минут – при ста восьмидесяти. И наконец, когда ужин съеден, осторожно выкладываешь ломоть на тарелку, ставишь на стол, а мужчина на середине фразы подцепляет вилкой половину, отправляет в рот и глотает, не разжевав, чтобы вернуться к тому, о чем говорил, – и чтобы, не дай бог, не прервали.
А клубничное варенье? Лучше мне не начинать!
Как правильно заметил Билли, варенье – дело хлопотное. Только чтобы ягоды собрать, нужно полдня. Потом мыть их, отрывать стебельки. Надо стерилизовать банки и крышки. Когда все собрала, ставишь варить на медленном огне и следишь, как коршун, ни на шаг не отходя от плиты, – чтобы не переварилось. Готово – раскладываешь по банкам, запечатываешь и несешь в кладовку, по одному подносу за раз. И только тогда начинаешь прибирать – дело тоже мешкотное.
И да, как заметил Дачес, варить варенье – занятие немного старомодное, из времен фургонов и погребов. И слово-то уходит – теперь все чаще «джем».






