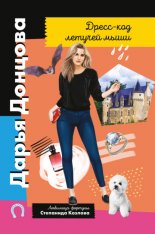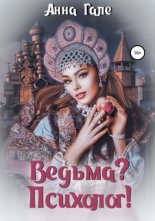Летняя книга Янссон Туве

Уровень моря поднялся. Невиданный шторм был ниспослан ей Богом, в своей безграничной щедрости Он сгребал огромные массы воды и швырял их на скалы, траву и мох, с треском ломая кусты можжевельника. София носилась по берегу, молотя землю крепкими босыми ногами, и, ликуя, восхваляла Господа Бога. Вот теперь было здорово, вот теперь было весело, наконец что-то произошло!
Папа проснулся и вспомнил про сети. Лодку било бортом о берег, весла, громыхая, перекатывались по дну, мотор опутали водоросли. Папа отцепил трос и, налегая на весла, направил лодку против волн. С подветренной стороны море вздыбилось и напоминало покоробившуюся скалу, а наверху, на безоблачных небесах, излучавших желтое сияние, сидел Господь Бог, внявший мольбам Софии о шторме, и на всем побережье царили растерянность и суматоха.
Сквозь глубокий сон до бабушки донесся рокот накатывающих на берег бурунов, она села и прислушалась.
София упала на песок рядом с ней и закричала:
– Это мой шторм! Это я попросила Бога, чтобы Он послал нам шторм, и Он послал!
– Замечательно, – сказала бабушка. – Но у нас же сети расставлены.
Одному и в тихую погоду трудно справиться с сетями, а уж когда дует ветер, это почти невозможно.
Папа перевел мотор на малую скорость, поставил лодку штевнем поперек волн и начал выбирать сети. Первая благополучно вышла из рифов, но вторая зацепилась за дно. Папа переключил мотор на холостой ход и стал кружить на одном месте, пытаясь освободить сеть. Сетная подбора лопнула. Тогда он начал просто тянуть сеть, и наконец она вышла, разодранная, с рыбой и водорослями на дне. София и бабушка стояли и смотрели, как лодка, которую то и дело захлестывали волны, подплыла к острову, папа выпрыгнул из нее и, тут же ухватившись за борт, потащил ее к берегу. Широкий вал накатил на мыс и затопил корму, а когда она вновь показалась из воды, лодка уже лежала на суше. Папа пришвартовался, подхватил сети и, сгибаясь от ветра, пошел вглубь острова. София с бабушкой последовали за ним, стараясь держаться поближе друг к другу, их глаза горели, а на губах ощущался привкус соли. Бабушка шла, широко расставляя ноги и тяжело опираясь на палку. Ветер подхватил хлам, сваленный у колодца и обреченный долгие годы истлевать, превращаясь в прах, и разметал его по всему острову; пенящиеся буруны смывали в штормовое море лоцманское старье, колодезную вонь и гнетущую скуку бесконечных летних дней.
– Тебе нравится? – кричала София. – Это мой шторм! Скажи, тебе весело?
– Очень весело, – ответила бабушка, моргая: брызги соленой воды попадали ей в глаза.
Папа швырнул сети у крыльца, где, словно серое покрывало, лежала поваленная ветром крапива. Потом он пошел на мыс, чтобы посмотреть на волны. Он очень торопился. Бабушка стала выбирать рыбу, из носа у нее текло, а волосы растрепались.
– Странно, – сказала София. – Мне всегда так хорошо, когда шторм.
– Вот как? Может быть… – отозвалась бабушка.
«Хорошо… – подумала она. – Нет, я бы не сказала, что мне хорошо. В лучшем случае мне интересно».
Она достала из сети окуня и бросила его на землю.
Папа сбил большим камнем замок с двери сторожки: семье было необходимо убежище.
Они оказались в узком темном коридорчике, который разделял две комнаты. На полу валялись мертвые птицы. Много лет назад они залетели в этот полуразвалившийся дом и уже не смогли выбраться. Пахло тряпьем и соленой рыбой. Здесь, внутри, всепроникающий голос шторма был другим, в нем все отчетливее звучала угроза. Они заняли западную комнату, в которой был цел потолок. В маленькой комнатке стояли две голые железные кровати и побеленная печь с кожухом, а посередине – стол с двумя стульями. Обои на стенах были очень красивые. Папа поставил корзину на стол, они выпили сока и съели бутерброды. Потом он сел работать. Бабушка расположилась на полу и продолжала выбирать рыбу из сети. От мощного гула, доносившегося с моря, стены сторожки непрерывно дрожали, сильно похолодало. Морская пена стекала с оконных стекол, а иногда попадала внутрь, на пол. Время от времени папа выходил, чтобы взглянуть на лодку.
Буруны, пенясь, росли у крутого обрыва, огромные белые волны, одна за другой, поднимались на головокружительную высоту и с шипением хлестали по скале, плотная завеса из падающей с неба воды двигалась над островом к западу. Это был океанский шторм! Папа снова пошел посмотреть на лодку и привязал покрепче канат, а вернувшись, полез на чердак, чтобы поискать топлива для печи. Печь сильно отсырела, но, когда ее все-таки удалось растопить, огонь яростно заполыхал. Комната согрелась, и они перестали мерзнуть. Перед печкой папа постелил старую сеть для салаки – на тот случай, если кто-нибудь захочет спать. Сеть была такая ветхая, что расползалась у него в руках. Потом он зажег свою трубку и снова сел за работу.
София поднялась в башенку, тесную, с четырьмя окошками, по одному на каждую сторону. Отсюда было видно, что остров сжался и стал ужасно маленьким, почти незаметное пятнышко из камней и бесцветной земли. Зато море, белое с желто-серым, казалось огромным, так что взгляд не достигал горизонта. Больше не существовало ни материка, ни других островов, только этот маленький клочок суши, окруженный водой, безнадежно отрезанный грозным штормом от остального мира и забытый всеми, кроме Бога, выполняющего просьбы.
– Господи, – серьезно сказала София, – я и не знала, что я такая важная персона. Ты очень любезен, большое спасибо, аминь.
Наступал вечер, закатное солнце покраснело. В печи горел огонь. Западное окошко зарделось, и обои показались еще красивее. С подтеками, порванные в некоторых местах, они хранили еще голубой и розовый узор из тщательно вырисованных лоз. Бабушка сварила рыбу в жестяной банке; ко всеобщей радости, нашлась соль. После ужина папа опять вышел проверить лодку.
– Я собираюсь не спать всю ночь, – сказала София. – Подумай, как было бы ужасно, если бы мы сидели дома, когда начался шторм!
– Угу, – откликнулась бабушка. – Но я немного беспокоюсь за нашу резиновую лодку. И не помню, закрыли ли мы окна.
– Наша резиновая лодка, – прошептала София.
– Ну да. И теплицы. И гладиолусы у нас не подвязаны. И кастрюли остались на берегу.
– Молчи! – закричала София.
Но бабушка задумчиво продолжала:
– И кроме того, я думаю обо всех тех, кто сейчас в море… Обо всех лодках, которые разобьются.
София закричала, вытаращив глаза:
– Как ты можешь так говорить, когда знаешь, что это моя вина! Ведь это я просила о шторме, вот он и начался!
Она громко заплакала, в ее воображении с ужасающей отчетливостью картины сменялись одна за другой: разбитые лодки и окна, сломанные гладиолусы, растерянные люди, кастрюли, катающиеся по морскому дну, и поваленная мачта с вымпелом, не выдержавшая порывов ветра и непогоды.
– О боже мой, – растерянно выдохнула София, – все погибло!
– Резиновую-то лодку мы точно затащили на берег, – сказала бабушка.
Но София обхватила голову руками, оплакивая катастрофу во всем Восточном Нюланде.
– Это не твоя вина, – попыталась ее успокоить бабушка. – Послушай, что я скажу. Шторм все равно бы начался.
– Но не такой большой! – плакала София. – Это Бог и я все устроили!
Солнце зашло, в комнате сразу стало темно. В печи горел огонь. Ветер не стихал.
– Бог и ты, – повторила бабушка раздосадованно. – Почему ты решила, что Он послушал именно тебя, когда, может быть, не меньше десятка человек просили его о ясной погоде? А наверняка так и было.
– Но я попросила первая, – сказала София. – И ты же сама видишь, что никакой ясной погоды нет!
– Да у Бога столько дел, что Он и не слышал тебя.
Вернулся папа и подложил дров, он дал Софии с бабушкой затхлое одеяло и снова вышел, чтобы посмотреть на волны, пока совсем не стемнело.
– Ты же сама говорила, что Он все слышит, – сказала София ледяным голосом. – Все, о чем бы Его ни попросили.
Бабушка легла на сеть для салаки и сказала:
– Конечно, но, видишь ли, я попросила Его раньше.
– Как это раньше?
– Раньше тебя.
– Когда? – растерянно спросила София.
– Сегодня утром.
– Тогда почему, – взорвалась София, – тогда почему ты взяла с собой так мало еды и одежды? Ты что, Ему не доверяешь?
– Ну… я подумала, что, может быть, так будет интереснее…
София вздохнула.
– Да, – сказала она. – Это на тебя похоже. Лекарства ты с собой взяла?
– Взяла.
– Это хорошо. Тогда спи и не думай о том, что ты натворила. Я никому не скажу.
– Очень мило с твоей стороны, – ответила бабушка.
На следующий день, к трем часам, шторм стих настолько, что можно было плыть домой.
Резиновая лодка лежала перевернутая у веранды, настил, весла и ковш уцелели. Окна были закрыты. И все же кое-что Богу спасти не удалось, – вероятно, бабушка попросила Его об этом слишком поздно. Но когда переменился ветер, море выбросило кастрюли обратно на берег. И к ним на остров тоже прилетел вертолет, и их имена занесли в специальный список.
Опасный день
К полудню, в жаркий день, над самой высокой на острове сосной начинают танцевать мотыльки. Они, в отличие от мошкары, танцуют, объединившись в продолговатое облачко, миллионы и даже миллиарды микроскопических мотыльков ритмично движутся вверх-вниз, в идеальной согласованности друг с другом, и тоненько поют.
– Свадебный танец, – сказала бабушка и попробовала посмотреть наверх, не потеряв при этом равновесия. – Моя бабушка говорила, – продолжала она, – что, когда накануне полнолуния танцуют мотыльки, нужно быть осторожным.
– Что? – не поняла София.
– В день, когда у них свадебный праздник, все может случиться. Поэтому нельзя искушать судьбу. Не рассыпать соль, не разбивать зеркало, а если дом покинули ласточки, то лучше переехать до наступления вечера. Все это очень хлопотно.
– Как же твоя бабушка могла придумывать такие глупости? – удивилась София.
– Она была суеверной.
– А что значит быть суеверной?
Бабушка задумалась и ответила, что это значит не пытаться найти разумные причины непонятных событий. Например, верить в силу зелья, сваренного в полнолуние. Ее бабушка была замужем за пастором, он не был суеверным. Если он заболевал или маялся от тоски, она тайком варила ему целебные отвары. А когда они помогали и дедушка выздоравливал, бедняжке приходилось говорить, что все дело в каплях Иноземцева. И так все время.
София с бабушкой присели на берегу, чтобы продолжить разговор. Был прекрасный безветренный день, на море стояла мертвая зыбь. Как раз в такие дни, в «гнилой месяц»[9], случается, что лодки сами уплывают от берега. Море, сонно поднимающееся и так же сонно опускающееся, выбрасывает на берег большие диковинные предметы, киснет молоко, и отчаянно пляшут стрекозы. Ящерицы перестают быть пугливыми. Когда всходит луна, выползают и спариваются красные пауки на необитаемых шхерах, и тогда все скалы покрываются красным ковром, сплетенным из множества крохотных застывших насекомых.
– Может быть, стоит предупредить папу, – сказала София.
– Я не думаю, что он суеверный, – ответила бабушка. – К тому же суеверия устарели, так что лучше верить в своего папу.
– Само собой, – ответила София.
Посреди мертвой зыби торчала верхушка дерева. Согнутые ветви напоминали какого-то гигантского зверя, медленно поднимающегося с морского дна. Воздух был неподвижен и только высоко над горою чуть дрожал от зноя.
– И она никогда не боялась? – спросила София.
– Никогда. Бабушка любила пугать других. Например, за завтраком сообщала, что кто-то, должно быть, умрет, прежде чем зайдет луна, потому что ножи лежат крест-накрест. Или потому, что ей приснились черные птицы.
– А мне сегодня ночью приснилась морская свинка, – сказала София. – Обещаешь мне быть осторожной и не переломать ног, пока не зайдет луна?
Бабушка обещала.
Удивительно, но молоко действительно скисло. А в сети им попался бычок-подкаменщик. Черная бабочка залетела к ним в дом и села на зеркало. А под вечер София увидела, что на папином столе лежат скрещенные нож и ручка! Девочка немедля отодвинула их подальше друг от друга, но что было, того не вернешь, она побежала к бабушкиной комнате и забарабанила в дверь обеими руками. Бабушка сразу же открыла.
– Знаешь, что случилось, – прошептала София, – нож с ручкой лежали крест-накрест на папином столе. Только не говори ничего, ты все равно меня не утешишь.
– Неужели ты не понимаешь, что это все суеверные выдумки моей бабушки? Она сочиняла их от скуки и чтобы попугать свою семью!
– Молчи, – приказала София. – Ничего не говори. Ничего мне не говори.
И, оставив дверь открытой, она ушла. Спустилась первая вечерняя прохлада, и пляшущие мотыльки исчезли. Запели свои серенады лягушки, а стрекозы наконец замерли. Блеснул последний красный луч, превратив желтое облако в оранжевое. Лес был полон примет и предзнаменований, всюду угадывались тайные письмена, но как найти то, что может помочь папе? София то и дело натыкалась на знаки, мимо которых нельзя было пройти спокойно, – то ей попадались на глаза скрещенные ветки, то на зеленом еще черничном кусте горела одна красная ягода. Взошла луна и запрыгала в верхушках можжевельника. Сейчас, должно быть, уплывают от берега лодки. Большие таинственные рыбины делали на воде круги, и красные пауки спаривались на сговоренных местах. За горизонтом притаилась неумолимая судьба. София искала целебную траву, чтобы приготовить отвар для папы, но ей попадалась только самая обыкновенная. К тому же она точно не знала, как выглядит целебная трава. Наверное, она очень маленькая, с мягкими бледными стебельками, скорее всего покрытая плесенью, и растет где-нибудь на болоте. Кто знает? Луна поднялась выше, совершая свой неизбежный путь.
София закричала через дверь:
– Из чего она варила отвары, эта бабка?
– Я позабыла, – ответила бабушка.
София вошла в комнату.
– Позабыла, – повторила она сквозь зубы, – позабыла? Как можно такое забыть! Что прикажешь теперь мне делать, раз ты позабыла? Как, скажи на милость, я спасу его, пока не зашла луна?
Бабушка отложила книгу и сняла очки.
– Я тоже суеверная, – сказала София. – Я еще суеверней, чем твоя бабушка. Сделай что-нибудь!
Бабушка встала и начала одеваться.
– Не надевай чулки, – нетерпеливо подгоняла София. – И не зашнуровывайся, у нас мало времени!
– Но если мы даже найдем сейчас эту травку, – сказала бабушка, – если даже мы ее сейчас найдем и сделаем отвар, все равно он не захочет выпить его.
– Это так, – согласилась София. – Может быть, влить отвар ему в ухо?
Бабушка надела сапоги и задумалась. Вдруг София заплакала. Она увидела, как луна повисла над морем, и кто ее знает, когда она вздумает закатиться, это может случиться внезапно, в любую минуту. Бабушка открыла дверь и сказала:
– Теперь нельзя произносить ни слова. Нельзя ныть, плакать или чихать, ни разочка, пока мы не добудем того, что нам требуется. Потом мы сложим все в надежное место и сделаем так, чтобы снадобье подействовало на расстоянии. В данном случае это как раз то, что нам нужно.
Остров был залит лунным светом, ночь стояла очень теплая. София смотрела, как бабушка сорвала цветок гвоздики, потом подняла два камешка и клок засохших водорослей и сунула все это в карман. Они пошли дальше. В лесу бабушка подобрала кусочек мха, листок папоротника и мертвого мотылька. София молча шла за ней. С каждым разом, когда бабушка опускала что-нибудь себе в карман, на душе у Софии становилось спокойнее. Луна приобрела красноватый оттенок и была почти такой же бледной, как небо, от нее тянулась дорожка прямо к берегу. Бабушка и София продолжали свой путь через весь остров, бабушка то и дело нагибалась, найдя что-нибудь важное. Опираясь на палку, она шагала на своих негнущихся ногах прямо посредине лунной дорожки, ее темный силуэт казался все больше и больше. Луч освещал бабушкину шляпу и плечи, судьба была в ее руках. София не сомневалась, что бабушка отыщет, что требуется, чтобы отвести несчастье и смерть. Все помещалось в ее кармане. София шла следом за бабушкой, наблюдая, как та несет луну на голове. Ночь была очень тихая. Когда они вернулись к дому, бабушка сказала, что теперь снова можно разговаривать.
– Лучше не надо! – зашептала София. – Молчи! Чтобы не потревожить их там, в кармане.
– Хорошо, – согласилась бабушка.
Она отковырнула маленький кусочек трухлявой ступеньки и тоже сунула его в карман, потом вошла в комнату и легла. Луна опустилась в море, но оснований для беспокойства не было.
После этого дня бабушка стала носить сигареты и спички в левом кармане, и все счастливо прожили на острове оставшуюся часть лета. Осенью бабушкин плащ сдали в химчистку, и почти тотчас же папа вывихнул ногу.
В августе
В такое время года быстро темнеет. Сидишь так августовским вечером у крыльца, занимаясь каким-нибудь делом, и вдруг, в одно мгновение, становится темным-темно, и черная теплая тишина обволакивает дом. На дворе лето, но оно уже отжило свое, хотя листва не начала желтеть и осень еще не готова вступить в свои права. На черном небе не видно ни единой звезды. Бидон с керосином переносят из подвала в прихожую, а на крючок у двери вешают карманный фонарик.
День за днем, мало-помалу, послушно следуя годовому ритму, вещи неуклонно перемещаются поближе к дому. Папа заносит внутрь палатку и насос. Он отсоединяет буй и затаскивает его вместе с цепью на берег. А когда уже и лодка поднята лебедкой наверх и резиновая шлюпка раскачивается от ветра на стене – значит точно пришла осень. Днем позже выкапывают картофель и закатывают со двора в дом бочку для дождевой воды. Убирают ведра и инструменты, прячут до следующего сезона раскрашенные поделки из жестяных банок, бабушкин зонт и другие радующие глаз летние вещи. На веранде стоят огнетушитель, топор, лом и лопата для снега. В эти же дни меняется и окружающая природа.
Бабушка любила эту пору перемен, неотвратимо повторявшихся из года в год, когда каждый предмет занимает свое, только ему отведенное место. Постепенно исчезают все следы человека, и остров, насколько это возможно, предстает в первозданном виде. Усталые грядки закрывают охапками фукуса. Долгие дожди очищают и выравнивают землю. Кое-где поверх фукуса еще бросаются в глаза яркие красные и желтые пятна последних цветов, а в лесу распускается на прощанье роскошная белая роза.
Из-за сырости у бабушки разболелись ноги, и, как бы ей этого ни хотелось, она уже не могла совершать больших прогулок по острову. И все же каждый день до наступления темноты она выходила и собирала мусор, уничтожая всякое напоминание о присутствии человека. Она поднимала гвозди, кусочки бумаги, ткани или пластика, обломки перепачканных мазутом досок и разные жестянки. Потом бабушка спускалась на берег и разводила костер, предавая огню все, что могло гореть. Она замечала, что, очищаясь, остров делался все более отдаленным и чужим.
«Он выталкивает нас, – думала бабушка. – И скоро будет необитаемым. Почти».
А ночи становились все темнее и темнее. Вдоль горизонта мерцала прерывистая цепочка маяков. И слышалось, как по фарватеру проплывали мимо большие корабли. На море был полный штиль.
В самые последние дни перед отъездом папа выкрасил болты красным суриком и в теплую сухую погоду пропитал веранду тюленьим жиром. Он смазал инструменты и дверные петли маслом «Каррамба» и вычистил дымоход. Занес в дом сеть. Потом сложил дрова у печки к следующей весне, а также для тех, кому, может быть, придется пережидать здесь шторм, и крепко-накрепко привязал канатом дровяной сарай, чтобы его не снесло в море.
– Нужно убрать колышки для цветов, – сказала бабушка. – Они портят пейзаж.
Но папа оставил их на месте, потому что иначе весной не узнаешь, где что посажено.
Бабушка волновалась из-за всякого пустяка.
– Представь, – говорила бабушка, – представь себе, что кто-нибудь приедет, ведь всегда кто-нибудь приезжает. Они же не знают, что соль хранится в подполе, к тому же крышка от подпола может разбухнуть, и тогда ее не поднимешь. Нет, надо принести соль в дом и надписать, чтобы было ясно, что это соль, а не сахар. И надо вывесить побольше штанов – хуже всего, когда ходишь в промокших штанах. А если они станут развешивать свою сеть над цветочными грядками и вытопчут их? Всего никогда не предусмотришь.
Через минуту бабушка стала беспокоиться из-за дымохода. Она повесила на нем плакат: «Не закрывайте вьюшку, приржавеет».
– Может быть, птицы совьют гнездо у нас в дымоходе, – сказала она сыну, – весной, я имею в виду.
– Но ведь весной мы уже будем здесь жить, – удивился папа.
– Никогда не знаешь, чего ждать от птиц, – ответила бабушка.
На неделю раньше обычного она сняла занавески, заклеила окна, выходящие на юг и восток, большими листами бумаги и написала на них: «Не срывайте, иначе перелетные птицы могут удариться о стекло. Пользуйтесь всем, но позаботьтесь о дровах… Инструменты под верстаком. С дружеским приветом».
– Почему ты так спешишь? – спросила София.
И бабушка ответила ей, что лучше всего браться за дело, когда чувствуешь, что пришел срок. Она положила на видное место сигареты и свечи, на случай если не зажжется лампа, и убрала барометр, спальный мешок и шкатулку с нитками под кровать. Подумав, она снова вынула барометр. Резные фигурки бабушка никогда не прятала. Все равно на них никто не позарится, а немножко приобщиться к прекрасному всегда полезно. Половики она тоже оставила, чтобы зимой было уютней.
Два заклеенных окна придавали комнате незнакомый таинственный и осиротелый вид. Бабушка надраила дверную ручку и вычистила помойное ведро. На следующий день она выстирала всю свою одежду и, уставшая, пошла к себе. В осеннюю пору в комнате было тесно: сюда складывали вещи – и те, которые еще понадобятся следующей весной, и просто хлам. Бабушка любила чувствовать себя затерянной в этом хаосе и, прежде чем заснуть, подолгу разглядывала все, что окружало ее: сеть, ящики с гвоздями, мотки стальной проволоки и веревки, мешки с торфом и другие нужные предметы, но с не меньшей нежностью рассматривала она таблички с названиями давно разбившихся кораблей, старые оповещения о приближающемся шторме, сведения об отстрелянных норках и убитых тюленях и, конечно же, любимую картину с отшельником посреди пустыни и стерегущим львом на заднем плане.
«Как же я оставлю эту комнату?» – подумалось бабушке.
Она с трудом вошла и разделась, раскрыла окно, и комната наполнилась ночной свежестью. Бабушка наконец легла и с наслаждением вытянула ноги. Она погасила свет, было слышно, как по ту сторону стены папа с Софией тоже укладываются спать. Пахло смолой, сырой шерстью и, может быть, немного скипидаром, море молчало. Засыпая, она вспомнила о горшке, стоявшем под кроватью, этом ненавистном признаке беспомощности. Она согласилась взять его, чтобы не вступать в лишние споры. Горшок может пригодиться в шторм или в дождь, но на следующий день его приходится украдкой выносить в море, а все, что делается украдкой, тяготит душу.
Проснувшись, бабушка еще долго лежала, раздумывая, выходить ей или нет. Снаружи подкарауливала непроглядная тьма, а ноги болели. Крыльцо было неудобным – слишком высокие и узкие ступеньки, а еще спуск к уборной и обратный путь. И лучше не зажигать свет: от этого только теряешь ориентацию, когда выйдешь во двор, и кажется, что кругом еще темнее. Сначала нужно свесить ноги с кровати и подождать, пока перестанет кружиться голова. А после сделать четыре шага к двери, снять крючок и снова подождать, потом осилить пять ступенек, держась за перила. Она не боялась упасть или оступиться, хотя знала, что вокруг кромешная тьма, и хорошо представляла себе, что чувствуешь, когда рука теряет опору и ухватиться не за что.
– Ничего страшного, – пробормотала про себя бабушка, – я и так знаю, как тут все выглядит, так что видеть мне необязательно.
Она спустила ноги с кровати и подождала немного, потом на ощупь сделала четыре шага к двери и сняла крючок. Ночь была черная, приятный колючий холодок пронизал бабушку. Очень медленно она спустилась по ступенькам и заковыляла от дома. Все оказалось не таким трудным, как представлялось. Дойдя до поленницы, она хорошо знала, в какой стороне дом, а в какой море и лес. Далеко в море тарахтел мотор плывущего по фарватеру катера, но огней не было видно.
Бабушка присела на поленницу и подождала, пока пройдет головокружение. Оно прошло скоро, но бабушка не вставала. На восток, по направлению к Котке, проплыла баржа, постепенно звук дизельного мотора растаял, и ночь снова стала тихой, как прежде. В воздухе пахло осенью. К острову приближалась еще одна лодка, по-видимому маленькая, на керосинном ходу. Должно быть, рыбачья, с автомобильным мотором, непонятно только, почему так поздно, обычно они выходят сразу после захода солнца. Во всяком случае, она не плывет по фарватеру, а уходит прямо в море. Тяжело стуча, лодка миновала остров и стала удаляться, пульсирующие удары раздавались все дальше и дальше, но никак не стихали.
– Чудн, – вслух произнесла бабушка. – Да это же разрыв сердца, совершенно ясно, а никакая не лодка.
Она замерла в нерешительности: пойти прилечь или посидеть; наверное, лучше посидеть еще немного.
Город Солнца
Перевод Л. Брауде
Солнечные города – это удивительные, преисполненные мира обиталища, где мы гарантируем вечное сияние солнца, рай на земле, оживляющий подобно старому вину…
Из американской брошюры
1
В Сент-Питерсберге[10], в штате Флорида, где всегда тепло, эспланады с пальмами окаймляют берег синего моря, улицы прямы и широки, а дома отгорожены изгородью из кудрявых деревьев и кустов. В респектабельной и тихой части города дома в основном деревянные, зачастую белые, с открытыми верандами, где кресла-качалки круглый год стоят длинными рядами, теснясь друг подле друга.
По утрам там очень спокойно, а улицы, залитые вечным солнечным светом, пусты. Но вот мало-помалу постояльцы выходят на веранды, спускаются вниз по ступенькам и медленно бредут к кафе под названием «Сад» или в другие красивые места с самообслуживанием; частенько они движутся мелкими группками или по двое. Чуть позднее они садятся в свои кресла-качалки или же совершают небольшую прогулку.
В Сент-Питерсберге парикмахеров гораздо больше, чем в каком-либо другом городе, и специализируются они на мелких воздушных кудельках из седых волос. Сотни пожилых дам с седыми кудрявыми головами бродят под пальмами; господ мужчин, напротив, не так уж и много.
В пансионатах у каждого своя отдельная комната или комната на двоих, у некоторых – лишь ненадолго в этом ровном благотворном климате, однако у большинства – на все предстоящее им время… Никто не болен, то есть в собственном смысле этого слова никто не лежит в постели; подобное улаживается невероятно быстро с помощью санитарных машин, которые никогда не пользуются сиренами. Среди деревьев здесь обитает множество белок, не говоря уже о птицах, и зверьки эти совершенно ручные – вплоть до наглости. Магазины всегда держат наготове слуховые аппараты и прочие вспомогательные средства, яркие веселые краски объявлений в каждом квартале возвещают о возможности немедленно измерить кровяное давление, а также дают любую информацию, какая только может понадобиться: к примеру, сведения о пенсиях, кремации и юридические советы. Крометого, в городе чрезвычайно заботятся о наличии разнообразных запасов шерсти и узоров для вязания, о всевозможных играх, материалах для изготовления брошек и всяких штучек-дрючек в этом роде. И будьте уверены: в этих магазинах вас ждет радушный прием и полная готовность помочь. Тот, кто гуляет вдоль эспланад, или спускается вниз к морю, или же поднимается наверх в городской парк и церковь, не встретит ни детей, ни хиппи, ни собак. Только в конце недели на пирсе и вдоль набережных полным-полно людей, приехавших в этот красивый город, чтобы посмотреть на корабль «Баунти».
Пансионат «Батлер армс» – в трех кварталах к северу от Второй авеню – дом двухэтажный, где из окна угловой комнаты последнего этажа можно видеть кусочек моря и парусную оснастку судна «Баунти», освещенного по вечерам. Веранда пансионата красивее большинства других в городе и украшена резными перилами: она производит приятное и даже несколько интимное впечатление благодаря тому, что кресел-качалок здесь всего восемь. Вообще-то, можно упомянуть, что дом очень стар, ему почти семьдесят пять лет.
Два раза в день Баунти-Джо проносится по авеню на своем мотоцикле: чуть раньше одиннадцати утра, когда открывается касса, и в сумерки, когда корабль освещен, а он с бешеной скоростью проезжает с открытым лицом и, поворачивая на углу улицы Палмера, сбрасывает ногу с педали и заставляет подошву своего сапога скользить по асфальту. Потом все снова стихает. Баунти-Джо любит Линду – уборщицу в пансионате «Батлер армс».
Место миссис Элизабет Моррис из Небраски (семьдесят семь лет) – на веранде, в кресле-качалке возле большой магнолии, почти у самых перил. Ближе всех к магнолии сидел мистер Томпсон, притворявшийся глухим, а по другую сторону – мисс Пибоди, чрезвычайно застенчивая; таким образом, миссис Моррис могла спокойно предаваться своим мыслям. Она прибыла в Сент-Питерсберг на несколько недель раньше, ее никто не сопровождал, горло у нее болело, а в пансионате «Батлер армс» голос и вовсе исчез. На одной из страниц своей записной книжки миссис Моррис указала свое имя, имущественное положение, а также несколько предметов антикварной мебели, которым должно прибыть позднее. Тишина в доме избавила ее от опрометчивой возможности, грозящей обернуться опасностью, довериться кому-либо после длительного и одинокого путешествия. Когда же к ней вернулся голос, опасный момент доверительности миновал; постояльцы привыкли к ее молчаливости и к тому, что она не задавала вопросов.
Элизабет Моррис была женщиной крепкого телосложения, к тому же необычайно статной. Единственная косметика, которой она пользовалась, была нанесена на ее могучие брови, красиво очерченные и линией своей напоминавшие вольный взмах птичьего крыла. Эти царственные брови, темно-синие под сенью седых волос, придавали ее взгляду ясное испытующее выражение, но видеть кому-либо ее глаза доводилось крайне редко.
Наклонившись вперед, мисс Пибоди спросила:
– У вас столько разных темных очков?
– Трое, – ответила миссис Моррис. – Я делаю улицу синей, коричневой или розовой. Синяя улица – лучше всего.
Баунти-Джо проехал мимо на своем мотоцикле; взревев на крутом повороте, машина устремилась прямо к берегу. На заднике мотоцикла Джо нарисовал большой белый крест.
– Мотор скрипит хуже, чем я, – сказал Томпсон.
Они ожидали почту. Каждое утро мисс Фрей, то в зеленых, а то и в розовых лосинах, появлялась на веранде с почтой. Старая тощая ящерица шестидесяти пяти лет в лосинах, которые были ей непомерно велики.
«Женщины!» – думал Томпсон и, деревенея на своем стуле, словно палка, издал одним лишь уголком рта долгий стонущий звук.
Пибоди, крепко вцепившись в руку миссис Моррис, закричала:
– Это приступ, приступ, сделайте что-нибудь!
Элизабет Моррис отдернула руку так, словно ее укусили. Сидевшая чуть поодаль на веранде миссис Рубинстайн заметила, что театрализованное представление Томпсона в качестве генеральной репетиции потерпело фиаско. Мисс Пибоди подняла глаза, шепча извинения. У нее были мелкие передние зубы, и она чрезвычайно напоминала бурозубку, поедающую насекомых. Миссис Моррис должна понять, что с ней, с мисс Пибоди, всегда было так: она слишком импульсивна и ее слишком легко обмануть, это вовсе не ее вина…
Утро стояло прохладное и свежее, пахло травой, а запах травы был таким, словно только что подстригали лужайку…
«Мне не следовало отдергивать руку, – подумала Элизабет Моррис, – так бывает всякий раз, когда кто-то притрагивается ко мне, а сейчас я ранила мышку».
Кресла-качалки стояли слишком близко одно к другому. Но качалась в кресле одна лишь Ханна Хиггинс, она непрерывно качалась взад-вперед, медленно и мирно; она достала клетку для яиц, ножницы, ручку и начала весьма проворно одну за другой вырезать лилии с высоким венчиком и четырьмя выпуклыми цветочными лепестками. Эти лилии обычно каждую Пасху стояли на пианино, к Рождеству же миссис Хиггинс вырезала шестиугольные звездочки и другие образчики разных переменчивых форм снежного кристалла. Удивительно, сколько всего можно сотворить с помощью «сборных селянок»! Ее близорукие глаза за толстыми стеклами очков тщательно следили за движениями ножниц, ее широкое лицо было покрыто тысячей микроскопических морщинок, аккуратно распределенных, словно на гофрированной бумаге. В июне ей должно исполниться семьдесят восемь лет.
Миссис Моррис давно заметила: чтобы помешать креслу качаться, требуется известное внимание, ибо малейшее движение пускает его в ход. Она быстро освоилась, но всякий раз, вставая с этого благословенного кресла-качалки, чувствовала, как одеревенели ее ноги от сдерживаемого напряжения. Иногда она задумывалась, ощущают ли то же самое другие постояльцы…
Выходя из вестибюля, обычно мисс Фрей говорила всем: «Привет! Солнце светит снова!» Она произносила это каждое утро, но сегодня, устав, выговорила эти слова чуть более резко. Крайне неосторожно, будто влекомая демонами, двинулась она напрямик к миссис Рубинстайн. Она подошла к ней совсем близко и тоном, которым обычно разговаривают то ли с совсем крохотными собачонками, то ли с чужими детьми сказала:
– Письмецо! Вам – маленькое письмецо по почте!
Громадная черноглазая женщина, медленно повернувшись на пол-оборота в своем кресле, вперила взор в мисс Фрей, в ее размалеванное, измученное лицо под париком. Затем столь же медленно опустила глаза и, не беря письма в руки, стала разглядывать его. Все знали, что сейчас она снова поведет себя неподобающе непристойно.
Рука мисс Фрей начала дрожать, и наконец миссис Рубинстайн заговорила, с уничтожающей любезностью заявив:
– Моя дорогая мисс Фрей! Ваше собственное маленькое письмецо вместе с вашей собственной маленькой брошюркой, которую вы всем предлагаете, можно использовать как туалетную бумагу… Лишь моя скромность, мисс Фрей, лишь моя застенчивость запрещают мне говорить о том, что вы можете сделать с этим письмом.
И она издала краткий хриплый смешок, явственно намекавший на то, каким именно образом мисс Фрей может употребить это письмо. Томпсон, приподнявшись в своем кресле, спросил:
– Что она сказала? Опять что-то неприличное?
– Ничего серьезного, – ответила миссис Моррис.
Мисс Фрей покраснела и, игриво хлопнув миссис Рубинстайн по плечу, воскликнула:
– Фи, до чего грубо! – и, уронив почту на пол, удалилась.
– Что она сказала? – повторил Томпсон.
Сквозь стекла затемненных очков миссис Моррис лужайка стала синей, пустота улицы – отдаленной, словно на Луне, а синий Томпсон приобрел необычайно болезненный вид. И она успокаивающе произнесла:
– Ничего серьезного. Миссис Рубинстайн пыталась позабавиться.
– Но что она сказала, что сказала?! – упорствовал Томпсон.
Приподнявшись снова, он выбрался из кресла, придвинул свое маленькое, перекошенное личико прямо к ней и заорал, что вот так всегда и бывает со всеми, со всеми женщинами, никогда ничего интересного и забавного не узнаешь! Хоть умри! Хоть возьми и умри, кто б ты ни был!
Он продолжал, уже стоя, ждать, положив руку за ухо; на веранде все безмолвствовали.
Миссис Моррис сняла очки: поскольку Томпон не казался ей больше синеватым, он теперь выглядел мало-мальски нормально. Она холодно ответила, что миссис Рубинстайн, по всей вероятности, намекала: мисс Фрей-де может использовать это письмо как туалетную бумагу. Томпсон внимательно выслушал и снова уселся в кресло-качалку.
– Очень забавно! – сказал он и устремил взгляд на улицу. – Мои милые дамы, – продолжил он, – вы необычайно веселы!
«Вероятно, расположение кресел-качалок параллельно друг другу – единственная с практической точки зрения возможность. Пожалуй, – думала миссис Моррис, – трудно расположить их группками, качающимися, стало быть, друг против друга, это требует большего пространства, да и вскоре станет страшно утомительным. В сущности, самая трезвая идея – одно кресло, которое качается в комнате, во всем остальном статичной».
– Мне надо идти, – сказала мисс Пибоди, – у меня постирушка в комнате.
Расплакавшись, она, всхлипывая, спешно покинула веранду. Миссис Хиггинс заметила, что она, эта маленькая бедняжка, верна самой себе. А миссис Рубинстайн закурила новую сигарету и ответила, что во все времена все на свете Пибоди, сохраняя верность самим себе, убегают в свои комнаты. Они необычайно сострадательны, и их самих постоянно надо утешать. Развернув газету, она принялась читать о том, что происходит в мире, читать презрительно, со знанием дела. Это ее четвертая сигарета до ланча. Ребекке Рубинстайн был восемьдесят один год. Ее волосы напоминали белую тиару, а щеки под опущенными веками, отягощенные ровными складками, все еще походили по своему насыщенному цвету на какой-то перезрелый фрукт.
«С таким же успехом можно быть мертвым!» – думала Элизабет Моррис, притворяясь спящей под своими очками. Томпсон пустил в ход свой главный козырь. Игра не была честной, но ведь старому черту необходимо чем-то позабавиться. «Я не верю, – серьезно подумала она, – не верю, что и у меня остается так уж много существенных представлений о страхе, о том, как пугать людей. Разве что Небраска и доверие, кое-какая музыка, но никак не смерть. Во всяком случае, не о том, как можно произвести впечатление, и не о смерти».
Она забыла упомянуть страх перед комнатой, которую забыли запереть, но это мелкое упущение. Такие приметы и свойства старости надо скрывать, все эти неэстетические мелочи, которые забываешь, всю эту конструкцию, которая поддерживает твою беспомощность, такую неприметную и такую явную. Сама миссис Моррис старательно скрывала все это, она пыталась восстановить понятие о ценности вещей и передумала все возможности того, каким бы образом каждый день предоставлять Линде пустую безликую комнату. Когда миссис Моррис, уже одетая, покидала свою комнату, она чувствовала себя усталой, но никогда не осмеливалась заснуть на веранде. Можно захрапеть, у тебя может открыться рот… со вставными зубами.
Пылесос Линды гудел, разъезжая взад-вперед в вестибюле, иногда он ударялся о стены и снова продолжал гудеть. Миссис Моррис спокойно засыпала, голова ее клонилась в сторону, и она беззвучно спала…
На другом конце веранды обе фрёкен Пихалга, одновременно поднявшись, забрав свои книги, медленно побрели вниз к морю. Если сестры Пихалга погружались в чтение, они абсолютно отрешались от всего происходившего вокруг. А читали они почти всегда.
Когда Эвелин Пибоди, делая один шажок за другим, медленно поднималась вверх по лестнице, она несла с собой свое великое сострадание, которое лишь набухало и становилось все тяжелее и все неудобнее с каждым разом, когда она не осмеливалась защитить то, что любила.
Слово з слово и шаг за шагом перебирала она ту недостойную, да и вовсе ненужную недавнюю беседу на веранде. О, эти люди, что сорят словами, словно кидают камни и выбрасывают мусор!.. Бедный старый мистер Томпсон, который вне всего этого! Что, если бы он в самом деле умер! А она… убежала и снова солгала, ведь никакая постирушка в комнате ее не ждала… Как так получается, что тому, кто любит правду, приходится столь часто лгать, а тому, кто ищет справедливость, так трудно за нее сражаться?! Что, если бы он в самом деле умер! Ужасно! Но он имел право задавать вопросы. Мужчина восьмидесяти лет справлялся с жизнью гораздо дольше, чем следовало бы.
Ей было семьдесят четыре, абсолютно ничтожный возраст для дамы! Конечно, он тоже беден… живет в этом доме из милости, судя по всему, за спиной у него долгая чепуховая жизнь… Так бывает по неосторожности!
Мисс Пибоди твердо решила проявлять доброту к Томпсону и выказывать ему всевозможную симпатию, ей следовало это делать, хотя он – по большому счету – неприятный и злобный старик!
Исключительно правдоподобия ради выполоскала она шейный платок, вытащила свое длинное серое платье и начала переставлять пуговицы на спине. Ведь со временем все больше съеживаешься и худеешь. Да и когда шьешь, мысли успокаиваются. Всю свою жизнь шила Эвелин Пибоди платья, перешивала старые, перелицовывала их, ушивала и выпускала длину. Чтобы скрыть изношенность, неудачный покрой и, наоборот, подчеркнуть то, что красиво, требовалось умение, искусство – да и терпение тоже. Правда, позднее, когда она уже работала в салоне, ткани были новые, но искусство скрывать недостатки и подчеркивать достоинства было необходимо по-прежнему.
Она шила быстро и уверенно. Но теперь глаза ее выдерживали всего лишь полчаса работы, и мисс Пибоди никогда больше не шила никому, кроме себя самой. С молниеносной быстротой прокалывая иголкой ткань и делая без конца один мелкий стежок за другим – длинные ряды стежков, она постоянно думала о дамах, желавших пользоваться подмышниками, дамах, никогда потом не узнававших ее, потому что они смотрели исключительно в зеркало… А надумавшись о них досыта, она мысленно возвращалась к тому сказочному утру, когда она, Эвелин Пибоди, выиграла по лотерейному билету.
Никто из портных в то утро не работал… А мисс Арунделль воскликнула:
– Боже мой, она – единственная из всех людей!.. Поглядите на нее, она аж побледнела от радости!..
Они спрашивали ее:
– Что ты купишь?
А она лишь восклицала:
– Солнечный свет! Солнце! Солнечный свет! Отдельную комнату для себя самой!
Так она отвечала, не тратя ни минуты на раздумье. У нее было маленькое, холодное тельце, она собственноручно выиграла по своему личному лотерейному билету, по собственному лотерейному номеру, и справедливость наконец-то восторжествовала!
Когда Линда вошла к ней со свежими полотенцами, мисс Пибоди встала. Она всегда поднималась, когда к ней входила Линда. Таков был ритуал! Каждый раз ее пленяла столь невыразимо прекрасная, спокойная и ослепительная улыбка девушки, и она, прикрыв рукой губы, улыбалась в ответ. Линда неспешно вошла в ванную. Она всегда была в черном, и черные волосы искрящимся узлом спускались ей на спину. Ее совершенной красоты лицо выглядело бледным. Его осеняли лишь легкие, на удивление спокойные тени печали. Линда – мексиканское имя, оно означает «прелестная», «восхитительная».
На веранде Ханна Хиггинс продолжала вырезать цветы, держа свою «сборную селянку» перед самым носом и выстраивая в ряд у себя на коленях одну лилию за другой. Она рассказывала, что в этом году гибкой металлической проволоки, покрытой желтой шерстью, что служит для прочистки курительных трубок, нет и пестики придется сделать зелеными. По давней привычке миссис Рубинстайн раздумывала, не стоит ли ей ляпнуть какую-нибудь непристойность о пестиках, но, утратив желание говорить, заставила свои тяжелые веки опуститься под грузом снедавшего ее величайшего презрения. Она презирала пасхальные украшения веранды, мягкий климат и вообще все, что только бывает уместно презирать в один прекрасный, ничем не заполненный день в Сент-Питерсберге штата Флорида.
Томпсон спал.
– А скоро, – сказала миссис Хиггинс, – скоро будет весенний бал, и что касается меня, я намереваюсь пойти туда в черном. Это самый подходящий цвет для старых женщин, во всяком случае там, откуда я приехала, и если ты при этом не слишком толстая.
Внезапно она выпустила из рук работу и, откинув голову, засмеялась удивительно звонким и чуть ли не простодушным смехом:
– Томпсон был бы мне неплохим кавлером – одна не видит, а другой не слышит! Ну не забавно ли это?
Миссис Рубинстайн рассеянно слушала, она разглядывала свои красивые старческие руки и украшавшие их перстни. Кольцо, подаренное Абрашей, было самым крупным, и, несмотря на вульгарность этого перстня, она носила его не снимая. Ежемесячное письмо сына запоздало уже на четыре дня. А тут «сборные селянки»! Пасхальные лилии! Хозяйка крестьянского дома в черном!
Она обратила свое массивное лицо с выступающим вперед носом в сторону улицы, к пансионату «Приют дружбы», расположенному напротив. Обитатели этого пансионата уже вернулись с завтрака, и все кресла-качалки были заняты. «Дюжина белых лиц со взглядом, устремленным вперед, дюжина старых задниц – каждая в своем кресле, – думала миссис Рубинстайн. – А скоро они будут изо всех сил вертеть ими на весеннем балу в „Клубе пожилых“».
И добавила тихо и презрительно:
– Gojim Naches, что в переводе с идиш означает «их радости».