Мастер жестокости Леонов Николай
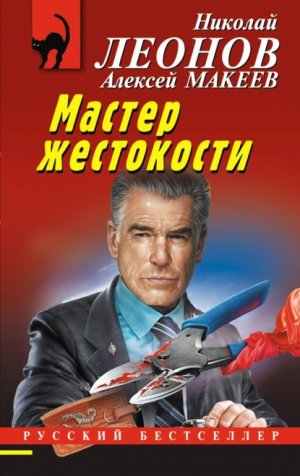
– Лилечка Ивановна, душа моя! Как твои дела?
В ответ прозвучал мощный бас:
– Вашими молитвами. Что, Крячко, по рюмочке чаю?
– Что мелочиться нам, взрослым людям. Сразу по стаканчику.
– Подваливай.
Поскольку до института (теперь уже академии), который окончил Крячко, было недалеко, поэтому загадка личности Лилии разрешилась скоро. Бас, звучавший в трубке, принадлежал миниатюрной и изящной, как китайская статуэтка, женщине, похожей на младшую сестрицу Майи Плисецкой. По факту женщина являлась бессменным секретарем пана Ректора последние лет сто. Крячко, немедленно трансформировавшийся из старого злопамятного ворчуна в галантного рыцаря средних лет, преподнес женщине цветы и припал к ручке.
Царила Лилия Ивановна в приемной Ректора, которая совершенно не выглядела как положено, то есть безлико и официально. Здесь было уютно и даже как-то приветливо, стулья для посетителей, почему-то не стандартного черного, а теплого кофейного цвета, в цвет обивки ректорской двери, так и тянули присесть и поболтать. Два огромных, под потолок, беспрерывно цветущих китайских розана повышали настроение не у одного поколения учащихся. Пахло кофе и почему-то выпечкой.
У секретаря пана Ректора были карие глаза с острым взглядом, черные ломаные брови, явно без жалости и много лет формируемые по определенному шаблону, строгая, ни волоска в сторону, прическа, безупречная фигура без грамма лишнего жира. Интересно, что сама по себе она не производила впечатления доброй, душевной особы, но, по-видимому, под этой неприступного вида оболочкой скрывалось отзывчивое сердце.
Усадив гостей, она открыла специальный шкаф, быстро и со вкусом превратила рабочий стол в чайный, расположив в идеальном порядке стаканы в подстаканниках, угощения, сахарницы и все прочее, что всегда припасено у хорошей хозяйки для всегда желанных, пусть и нежданных, гостей.
– Как всегда, в своем репертуаре, – пророкотала Лилечка Ивановна, разливая чай в стаканы, – хватай тару и излагай свое дело. Станислав Васильевич просто так своей душой не назовет, – со знанием дела пояснила она Гурову ласковое к ней обращение Крячко по телефону.
Станислав, к удивлению коллеги, с огромным удовольствием отхлебнул чаю.
– Лилек, твой чай… спиртного не надо. А теперь расскажи, пожалуйста, откуда у пана Ректора сынок Данилушка.
Лилия Ивановна с кокетливым видом поморщилась:
– Бога ради, не заставляй интеллигентную женщину прямо отвечать на подобные вопросы. И потом, тебе-то что за дело? Метишь на панское наследство?
– Ну что ты, что ты, – сказал Крячко, утирая «чайный» пот со лба.
– Ладно, не хочешь говорить – не надо, дело твое. Потом сам прибежишь и будешь упрашивать, а я еще подумаю, разговаривать ли с тобой.
Лилия Ивановна извлекла из длинного полированного ящичка сигарету необычного цвета и аромата и закурила, пуская дым в табличку «Не курить!». Сразу запахло тропиками и морем.
– Если вкратце, то трудная защита, бурное отмечалово и божественно рыжая соискательница, – сказала она.
– Ишь ты.
– Но, конечно, это было давно и неправда, – немедленно открестилась от своих слов изысканная сплетница. – Даниил ибн Олегович, он как-то сам – фух! – и появился в институте, чтобы смущать студенточек.
– Фото есть? – осведомился Крячко.
– Студенточек? – сострила Лилия Ивановна, открыла своим ключом дверь в кабинет начальства, по-хозяйски вошла и вышла, уже имея при себе фото в рамке.
– У вас что же, от всех замков в учебном заведении ключи имеются? – с немалым удивлением спросил Лев Иванович.
– Конечно, – просто отозвалась секретарь, пожав плечами. – Как же иначе.
Станислав, разглядывая портрет ректорского сына, заметил:
– Мама-то и в самом деле была красавица. И в самом деле рыжая. А кто такая?
Чуть опустив веки, Лилия Ивановна выпустила струйку дыма и скривила губы:
– Помилуй, мне-то откуда знать. Шеф со мной не секретничает, все приходится устанавливать самой. Единственное, что скажу совершенно определенно: в свидетельстве о рождении Даниила Олеговича в соответствующей графе проставлен жирный прочерк.
– Так у вас и доступ ко всем документам имеется? – снова подивился Гуров.
– Разумеется, – уже несколько колко подтвердила она и затушила в пепельнице окурок. – Для чего еще нужны секретари. Для красоты?
– И для этого тоже, – вставил Крячко. – Эва как, прочерк. Какой нюанс! Ну, у пана Ректора, само собой, алиби железное? Никаких рук-ног в хозяйственных сумках и обводных каналах…
– Фи, неостроумно, – не одобрила шутку секретарь, – и нехорошо.
Станислав сделал вид, что засмущался, и сменил тему:
– Лилек, фото-то явно старое. Поновее нет?
– В личном деле есть кое-что, но и они не из последних.
Лев Иванович уточнил:
– То есть вы считаете, что он сильно изменился? Были предпосылки?
– Были, – подтвердила она, – изменился, полагаю, сильно.
– Ну а если говорить спокойно и беспристрастно, то что в целом вы, Лилия Ивановна, могли бы сказать о Данииле Олеговиче? Хотя бы образца того периода, когда вы с ним общались.
– Я пристрастна, – без малейшего раскаяния покаялась Лилия Ивановна, – поскольку знаю его с детства. Ничего плохого про него не скажу, он всегда был очень милым ребенком. Но если абстрагироваться… – Она задумалась, потом спокойно и методично принялась перечислять: – Скрытен, себе на уме. Сильно зависим от отца, хотя и сам по себе имеет немалый вес в научном мире. Поздний, болящий ребенок…
– В каком смысле? – уточнил Крячко.
Лилия Ивановна скособочилась:
– Позвоночник искривлен, прихрамывает. Последствия легкой формы детского паралича.
– То есть он ограничен в движениях? – спросил Гуров.
– Нет, – возразила Лилия. – Отец потратил массу денег на его реабилитацию. Лечебная физкультура, диета, санатории, в том числе за границей. Прихрамывал, конечно, но некритично. При обострении болезни ходил с тросточкой.
– Но мыслительные способности, надо полагать…
– С ними полный порядок, – твердо заявила секретарь. – Превосходные знания английского, немецкого, итальянского языков, плюс латыни, это не считая отличной учебы. Великолепно рисует. Вот, это его работа, подарок мне на мой день рождения.
Женщина сняла со стены рисунок в овальной металлической рамке, выполненный пером. На первый взгляд на нем была изображена Кармен с папироской в зубах. Со второго взгляда становилось очевидно, что это Лилия Ивановна образца десятилетней давности. Возможно, с оригиналом у копии было много расхождений, но личность узнавалась безошибочно, как если бы художнику удалось показать не столько внешность, сколько внутреннюю сущность.
К тому же, несмотря на отсутствие цвета, одними черно-белыми штрихами изображены были все непременные атрибуты и самой Кармен, как персонажа – страсть, гордость, ветреность, – и даже летящие косы, алые ленты и роза в волосах.
«Еще немного – и послышатся фламенко и кастаньеты, – подумал Лев Иванович, рассматривая рисунок, переданный ему Станиславом. – В самом деле, великолепный рисунок. Лаконично и талантливо».
Лилия Ивановна, подождав некоторое время, деликатно изъяла из рук Гурова рамку с рисунком, снова повесила ее на стену и завершила анамнез:
– В общем, любимый сын Ректора.
– Интрижки? Женщины? – поинтересовался Станислав.
– Вообще ничего, от слова «абсолютно».
– Ты сказала, что он скрытен.
– Разве можно что-то скрыть так, чтобы никто не знал, тем более я? – задала она риторический вопрос. – Вот здесь, – Лилия Ивановна показала на другой шкаф, запертый на ключ, – запротоколирован практически каждый день его жизни. Кто-то бездельничает, кто-то занимается спортом, кто-то увлекается музыкой. Даниил посвятил себя науке. Он все время учился. Не просто на одни «отл.». Сокурсников он опережал в учебе на год, по некоторым дисциплинам – на два. Отец не особо баловал его деньгами – и Даниил подрабатывал репетиторством. Жил по строгому распорядку дня. Подъем в шесть, отбой в одиннадцать. Получил красный диплом, окончил аспирантуру, защитил диссертацию, стал преподавать у нас на кафедре… – Лилия несколько снизила пафос повествования и закончила: – И потом, узнай папаша о посторонних занятиях – последовало бы наказание. Это только со стороны казалось, что отец им не руководит, сынок был под колпаком хлеще мюллеровского.
– Да, интересно, – протянул Лев Иванович.
– Лилечка, теперь давай про пропажу.
Лилия Ивановна с веселыми искорками в глазах прищурилась:
– Ишь ты, сыскарь. Сам не желаешь трудиться?
– Я?! – возмутился Крячко, театрально хватаясь за сердце. – Да я самый трудящийся из всех трудяг, просто…
– А тебе не кажется, Стас Васильич, что это ты лучше меня можешь выяснить необходимые тебе сведения?
Полковник с готовностью заныл:
– Ну, Лилек, покуда мы, убогие, будем выяснять и вникать, что, да как, да почему, это же столько времени пройдет. А ведь ты и так уже все на свете знаешь.
Ничуть не смутившись, секретарь согласилась:
– Да, это факт. Не плачь, так и быть, расскажу. – Лилия Ивановна помолчала, собираясь с мыслями, потом принялась излагать: – Итак. Счастливый-младший пропал порядка шести месяцев назад. Он самовольно покинул клинику…
«Старый лис, а втирал-то про «санатогий», – припомнил Гуров, – врет по любому поводу, даже если это и ни к чему – какая разница, кто где лечился?»
И переспросил:
– Извините, Лилия Ивановна, клинику? Не санаторий?
– Нет, наркологическую клинику.
– Как это – наркологическую? – удивился Крячко.
– Ну да, – нетерпеливо повторила секретарь, изобразив длинными пальцами по столешнице дробь – точь-в-точь кастаньеты, – частную наркологическую клинику.
Сыщики переглянулись. Всезнающая Лилия Ивановна явно не испытывала снисхождения к тем, кто соображал медленнее ее. И с раздражением осведомилась:






