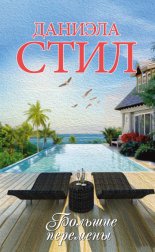Четыре стороны сердца Саган Франсуаза

Francoise Sagan
Les quatre coins du coeur
© Plon, 2019
© И. Я. Волевич, перевод, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020
Издательство Иностранка®
* * *
Предисловие
Многочисленные переиздания книг моей матери, с того момента, как я в 2007 году вступил в права наследства, подарили мне почетную привилегию составлять предисловия к ее текстам, которые я отдавал многочисленным доброжелательным издателям; это «Скорость», «Здравствуй, Нью-Йорк», «Хроники 1954–2003», потом была книга «Моя мать – Саган», а еще позже – повесть «Отрава», которая скоро выйдет отдельной книгой. Похоже, издатели нашли в моем лице легкую добычу – добычу, которая тем не менее радовалась возможности выполнить этот новый литературный долг, хотя могу добавить, что подобная работа – не важно, была ли она связана с творчеством моей матери или нет, – неизменно являлась для меня увлекательнейшим занятием.
Разумеется, все книги, которые я представлял читательской аудитории, были уже многократно изданы и переизданы, а следовательно, читаны-перечитаны и, вероятно, снабжены предисловиями; однако надеюсь, что этот последний оммаж не приведет к тяжким последствиям, а может быть, и вовсе останется незамеченным.
Итак, когда издательство «Plon» сочло нужным поручить мне написание предисловия к роману «Четыре стороны сердца», я уже не слишком удивился оказанному в очередной раз доверию и только вечером, придя домой и слегка успокоившись, осознал весь объем задачи, которую взвалил на себя: она состояла в том, чтобы представить читающей публике ни больше ни меньше неизвестное произведение обожаемого автора – роман, чей выход в свет мог вызвать литературный циклон вкупе с медийным землетрясением.
Признаюсь честно: я даже не помню, каким образом эта рукопись попала ко мне. Кажется, это случилось через два или три года после того, как я вступил в права наследства, так что, когда я взял в руки папку с текстом, это показалось мне истинным чудом, ведь большая часть достояния моей матери была давным-давно захвачена, продана, раздарена или приобретена весьма сомнительными путями.
Рукопись (довольно тонкая пачка листков) была засунута в прозрачный файлик – в таких студенты держат свои рефераты – и состояла из двух частей: первая с заглавием «Четыре стороны сердца», вторая начиналась словами: «Парижский поезд прибыл на вокзал Тура в 16:10…» – и называлась «Убитое сердце» (окончательного названия роман не имел, и сейчас, когда я пишу эти строки, я еще не знаю, которое из названий мы выберем).
Текст представлял собой ксерокопию машинописи, причем явно снятую с последнего экземпляра. Вычеркнутые слова с бледными, расплывчатыми буквами, примечания и исправления, неизвестно кем сделанные и хаотично разбросанные по страницам, и тут же множество других документов и разных архивных справок, так что мне понадобилось некоторое время, прежде чем я понял, что имею дело с единым, цельным произведением.
Итак, в силу счастливого – а может быть, и несчастливого – стечения обстоятельств, я поначалу не очень внимательно отнесся к этой рукописи: мне даже в голову не приходило, что речь идет о неизданном романе. Кроме того, в бумагах, оставшихся после кончины матери, царил полный хаос, и все мои мысли были заняты исключительно решением запутанных наследственных, налоговых и издательских проблем – особенно последних. Вспоминая все это сегодня, я понимаю, что поначалу отнесся к этому тексту с непростительной небрежностью, хотя потом он, даром что незавершенный, поразил меня своей чисто сагановской стилистикой – иногда откровенным бесстыдством, иногда причудливой тональностью и почти фантастической окраской своих перипетий; наверно, я отнесся к нему слишком беззаботно, то есть не придал ему никакого значения, надолго оставив «Четыре стороны сердца» в ящике письменного стола. Открытый финал этого романа так смутил меня, что я счел рискованным показывать рукопись людям, которым не слишком доверял.
Несколькими месяцами раньше я уже имел случай убедиться, что большинство парижских издателей бесцеремонно отказываются от переиздания произведений Франсуазы Саган, и начал опасаться, что ее творчество бесследно канет во мрак XX века. Но затем я познакомился с Жан-Марком Робертсом, человеком-провидцем, который позже стал моим ментором в вопросах издания, касавшихся ее литературного наследия. Он руководил издательством «Сток» и согласился издать разом большую часть из пятнадцати книг моей матери, которые я ему принес однажды апрельским днем на улицу Флерю. Мало того что он стал моим издателем – я скоро начал советоваться с ним как с другом и поэтому именно ему тайком доверил, спустя несколько недель, чтение этого романа, чья форма, настолько несовершенная, все-таки не оставляла сомнений в возможности его публикации. «Четыре стороны сердца» когда-то, независимо от нас, послужили основой для первой экранизации (чем и объясняется тот факт, что с текста сняли несколько ксерокопий), хотя этот проект так и не был осуществлен. Вот почему роман претерпел множество изменений, а вернее, был почти полностью переписан – видимо, чтобы вдохновить какого-нибудь модного сценариста. Но было понятно, что «Четыре стороны света» нельзя публиковать в таком виде, – содержание романа не выдерживало никакой критики и грозило скомпрометировать творческий облик моей матери.
Сначала у нас с Жан-Марком возникла идея отдать роман на переработку какому-нибудь современному писателю, достойному этой задачи. Однако рукопись, в которой порой были опущены некоторые слова, а то и целые абзацы, выглядела настолько несовершенной, что мы очень скоро отказались от этого проекта.
Итак, текст по-прежнему пребывал в безвестности, что не помешало мне в течение последующих месяцев вчитываться в него с возрастающим вниманием. Интуиция подсказывала, что только я один могу переписать эту книгу, что этот роман непременно должен быть издан, каково бы ни было его состояние, ибо он представляет собой пусть и несовершенную, но все же важную часть творческого наследия моей матери. Я считал, что все, кто знал и любил Саган, имеют право познакомиться с ее творчеством в полном объеме. Итак, я взялся за работу и внес в текст необходимую правку, стараясь не нарушать стилистику и тональность романа. Чем дальше, тем больше я убеждался в тех качествах, которые отличали Франсуазу Саган, – в абсолютной раскованности, духе независимости, остром юморе и дерзости, доходящей до сарказма.
Через шестьдесят пять лет после выхода в свет романа «Здравствуй, грусть!» и десять лет беспокойного полусна этой последней, незаконченной книги, «Четыре стороны сердца» наконец увидели свет в своей почти оригинальной, почти нетронутой редакции, на радость читателям Саган.
Дени Вестхофф
1
Терраса Крессонады, с четырьмя платанами по углам и шестью светло-зелеными скамейками, выглядела вполне импозантно. Да и само здание, вероятно, некогда было прелестным старинным провинциальным особняком, который теперь уже не выглядел ни прелестным, ни даже старинным: дом, украшенный более поздними башенками, внешними лестницами и балконами с коваными перилами, соединял в себе два века дорогостоящей безвкусицы, опошлявшей солнце, деревья, серый гравий аллеи и газоны – словом, весь свой антураж. Крыльцо с тремя низкими серыми ступенями и перилами в средневековом стиле завершало этот парад уродства.
Тем не менее двух людей, сидевших на скамье против дома, каждый на своем крае, это, казалось, ничуть не коробило. Часто бывает легче созерцать уродство, чем красоту и гармонию, – эти требуют времени на анализ и восхищение. Во всяком случае, Людовик и его жена Мари-Лор, казалось, были вполне равнодушны к этой архитектурной какофонии. К тому же они вообще не смотрели на свое жилище, игнорируя его; они разглядывали свои туфли. И хотя их красивая обувь вполне заслуживала внимания, в людях, чей взгляд не ищет чье-нибудь лицо или какой-нибудь пейзаж, есть нечто болезненное.
– Тебе не холодно?
Мари-Лор обратила на мужа вопрошающий взгляд. Наделенная прелестным лииком с выразительными сиреневыми глазами, чуточку капризным ртом и очаровательным носиком, она покорила немало мужских сердец, перед тем как выйти замуж, причем довольно поспешно, за бодрого, пышущего здоровьем молодого человека по имени Людовик Крессон – отчасти плейбоя, отчасти лентяя, на которого ввиду его богатства и добродушного нрава охотились все девушки Шестнадцатого округа… Сразу было видно, что из Людовика Крессона, даром что безумно увлекавшегося женщинами, выйдет верный супруг. Увы, все его достоинства, за исключением денег, обернулись в глазах Мари-Лор почти недостатками. Сама она была не слишком образованна и привержена культуре, однако благодаря смеси начитанности в духе времени, обрывков знаний и необходимых табу приобрела полезный лоск и завоевала в своем кругу репутацию женщины острого ума, исключительно современной. Она хотела править своей судьбой – иными словами, судьбой окружающих; хотела, по ее собственному выражению, «жить своей жизнью». Но при этом не знала, что такое жизнь и чего ей хотелось – помимо роскоши. На самом деле она желала, чтобы ее баловали, и была твердо уверена, что сумеет блистать в свете и своими драгоценностями (весьма дорогими), и состоянием отца Людовика – Анри Крессона (прозванного в его родной Турени[1] «пернатым хищником»).
* * *
Излишне объяснять – ибо это вполне ясно, – по какой причине старый завод и стены старого дома получили название Крессонада. Зато гораздо сложнее, да и скучнее, было бы объяснить, каким образом сами Крессоны нажили свое состояние на кресс-салате, горошке и прочей овощной мелочи, которую и доныне экспортировали по всему миру.
Этот неинтересный сюжет потребовал бы – по крайней мере, от автора – больше воображения, чем памяти.
– Ты не замерзла? Хочешь, возьми мой свитер?
Мужской голос, прозвучавший рядом с Мари-Лор, был от природы мягким и приятным, но прозвучал слишком вопросительно и чересчур заботливо для такого пустячного повода. Поэтому молодая женщина недоуменно заморгала и отвернулась, выразив этим нечто вроде легкого пренебрежения к свитеру своего супруга (на который мельком взглянула).
– О нет, спасибо, мне проще пойти домой. Да и тебе тоже – не хватало еще, чтобы ты сейчас вдобавок ко всему подхватил бронхит.
Она встала и спокойно направилась к дому; гравий дорожки поскрипывал под ее модными туфельками. Даже здесь, за городом, даже в полном уединении Мари-Лор демонстрировала неизменную элегантность иup-todate[2], чего бы это ни стоило.
Муж проводил ее восхищенным… и вместе с тем чуточку враждебным взглядом.
* * *
Следует сказать, что Людовик Крессон только-только оправился после пребывания в нескольких лечебницах, куда его привело ДТП – настолько тяжелое, настолько опасное, что ни врачи, ни любящая жена не надеялись, что он выживет.
Подаренный мужем на день рождения маленький спортивный автомобиль, который вела Мари-Лор, врезался в затормозивший грузовик, и со стороны пассажирского сиденья был буквально располосован стальными листами, сложенными в кузове означенного грузовика. Голова Людовика осталась, с точки зрения эстетики, практически невредимой, Мари-Лор вышла из этой катастрофы без единой царапины, что на лице, что ниже, а вот тело Людовика оказалось рассеченным во многих местах. Он впал в кому, и врачи полагали, что через день, от силы через два он покинет сей бренный мир.
Однако все части этого, от природы крепкого тела – легкие, плечи, шея, – отвечающие за внешнее и внутреннее здоровье своего простодушного владельца, оказались гораздо изворотливее и жизнеспособнее, чем можно было ожидать. И пока родные уже планировали похороны и выбирали музыку для этой скорбной церемонии, пока Мари-Лор уже готовила для себя вдовий наряд, в высшей степени элегантный (очень простой и дополненный пластырем на виске – совершенно ненужным), пока Анри Крессон, разъяренный этой нежданной помехой одному из своих планов, пинал ногами мебель и осыпал проклятиями служащих, пока его жена Сандра, мачеха Людовика, демонстрировала всегдашнее, угнетающее достоинство больной, прикованной к постели, – сам Людовик упорно боролся со смертью. И по прошествии недели, к всеобщему изумлению, вышел из комы.
Общеизвестно, что некоторые врачи куда больше доверяют своим диагнозам, чем пациентам. Людовик вызвал сильное раздражение самых знаменитых медицинских светил, по традиции собранных у постели сына Анри Крессоном из Парижа и прочих мест. Легкость, с которой раненый вернулся к жизни, оскорбила этих господ до такой степени, что им оставалось только одно – обнаружить что-нибудь очень опасное у него в мозгах. Этого – вкупе с его молчанием – хватило, чтобы поместить больного сперва под простое наблюдение, затем в более специализированную лечебницу – психиатрическую. Он демонстрировал затуманенное сознание, выглядел неадекватным, а значит, считался душевнобольным, и его несокрушимое физическое здоровье только подкрепляло это убеждение.
Целых два года Людовика, по-прежнему безмолвного и пассивного, переводили из одной психиатрической клиники в другую и даже отправили в Америку на лайнере, буквально связанного по рукам и ногам. Родные каждый месяц летали навестить его, чтобы посмотреть, как он спит, или подбодрить «идиотской», по их выражению, улыбкой, перед тем как быстренько вернуться на родину. «Я не в силах переносить это зрелище!» – стонала Мари-Лор, сидя в такси и выдавливая из себя фальшивую слезу, поскольку никто из ее спутников даже не пытался пролить таковую.
Впрочем, с одним исключением – когда мать Мари-Лор, очаровательнейшая Фанни Кроули (которая незадолго до этого овдовела и искренне оплакивала своего супруга), также отправилась навестить зятя, хотя, вообще-то, никогда его особо не жаловала. Ковбойские замашки и прочный оптимизм Людовика раздражали многих, очень многих мало-мальски чувствительных женщин, притом что он нравился многим, очень многим другим женщинам – что называется, «с огоньком». Итак, Фанни навестила того, кого прозвала «ковбоем»: он полулежал в кресле, с привязанными к нему руками и ногами, ужасно исхудавший, но при этом ужасно помолодевший, и выглядел таким беспомощным, таким уязвимым и абсолютно неспособным отказаться от всех психотропных препаратов, которые ему кололи в вену с утра до ночи, что Фанни Кроули не выдержала и заплакала. Она плакала так горько, что даже заинтриговала Анри Крессона и побудила его согласиться на серьезный приватный разговор с ней.
К счастью, именно тогда Анри Крессон случайно побеседовал с директором клиники – вероятно, самой дорогой во Франции и наверняка самой бесполезной. Этот высокопоставленный эскулап безапелляционно объявил Анри, что его сын никогда, никогда не поправится. Однако эта уверенность вызвала сомнения и ярость Анри Крессона, настолько же гениального в деловой сфере, насколько некомпетентного в сфере чувств (коих он не испытывал или, вернее, испытывал лишь в отношении своей первой жены, матери Людовика, умершей в родах). И вдруг он с испугом увидел, как эта красивая, элегантная моложавая дама, до сих пор не утешившаяся, как он знал, после смерти мужа, плачет над зятем, которого она не любила; ее слезы убедили его, что пора покончить с этой пыткой. Он вернулся к директору клиники и обошелся с ним так круто, что этот господин передумал – даже при своих сумасшедших ценах на лечение – удерживать у себя пациента, чья семья отнеслась к нему с таким презрением.
Месяц спустя Людовик вернулся в Крессонаду, где повел себя совершенно нормально после того, как выбросил все пузырьки с лекарствами, один за другим, в мусорную корзину. Он выглядел приветливым, чуточку отстраненным, чуточку беспокойным – и много бегал. Именно так: он проводил большую часть дня, бегая в огромном парке, точно ребенок, которому вернули подвижность, иными словами – пытаясь хоть как-то вновь приобщиться к миру взрослых. Разумеется, не было и речи – впрочем, такой вопрос никогда не вставал и ранее – о том, чтобы он начал работать на заводе, принадлежавшем отцу, чьего богатства с лихвой хватило бы на всех, даже если бы Людовик не подыскал себе какое-нибудь скромное занятие, чтобы зарабатывать на жизнь в любом месте Европы (вариант, который Мари-Лор на самом деле давно мечтала осуществить – с мужем или без него).
Его возвращение стало для нее подлинной катастрофой. Она очаровательно выглядела в роли вдовы, но оказаться «женой дебила» – как она это охотно называла в беседах с близкими друзьями (теми, кто вел весьма свободную светскую жизнь) – совсем другое дело. И Мари-Лор начала ненавидеть этого молодого человека, которого доселе кое-как терпела и даже питала к нему что-то похожее на любовь.
Тем не менее душевные порывы, любовь и страсть Людовика очень скоро начали ее раздражать. Ибо Людовик страстно любил женщин и романтически любил любовь – быть может, единственное искусство, которое практиковал с подлинным мастерством и вниманием к предмету своих чувств. Пылкий и ласковый, он был поистине очарователен, и все парижские жрицы любви (весьма многочисленные), знавшие его прежде, до сих пор нежно любили его.
* * *
Итак, Людовик быстро восстанавливался под наблюдением единственного врача – деревенского доктора, практиковавшего во владениях Анри Крессона. Этот врач, даром что не светило, сразу же после несчастного случая заявил, что его пациент, пусть и переломанный, израненный и беспомощный, тем не менее никакой не сумасшедший. И верно: никто не мог уловить в его поведении ни малейших признаков нервозности, функционального или психологического расстройства. Он просто не проявлял никакого внимания или интереса к будущему и, казалось, чего-то ждал – с некоторым страхом. Но чего именно? Или кого? Увы, никто из окружающих не задавался этим вопросом всерьез, ибо никто в этом доме не проявлял заботы ни о ком, кроме самого себя.
* * *
Дойдя до нелепого низкого крыльца, Мари-Лор устало положила руку на перила, но ей тут же пришлось почти вспрыгнуть на три ступеньки вверх, чтобы спастись от гравия, брызнувшего фонтаном из-под колес машины, которая с визгом затормозила прямо у ее ног; она бы содрогнулась или завопила, не будь за рулем ее свекр. Анри Крессон решил, что его шофер стареет и пора ему самому научиться водить автомобиль, – подлинная катастрофа и для животных, и для знакомых водителя, когда те попадались ему по дороге.
– Господи боже, это вы, отец, а где же ваш шофер? – холодно спросила Мари-Лор.
– Аппендицит, – весело ответил Анри Крессон, выбираясь из машины, – приступ аппендицита… прописан отдых.
– По-моему, за нынешний год это уже четвертый…
– Да, но он этим очень доволен. Выплаты по страховке и так далее, плюс зарплата; этот тип наслаждается бездельем и ложится в постель, как только его прихватывает, – он ужасно боится «скорой помощи», страховщиков и еще бог знает чего.
– Это вам следовало бы бояться.
– Бояться? Чего? Проходите, дорогая невестка, проходите, прошу вас.
Она терпеть не могла, когда он величал ее «невесткой», а он не лишал себя этого удовольствия, невзирая на упреки своей половины, величественной Сандры, которой удалось выбраться на крыльцо, дабы любезно встретить супруга, тогда как обычно она сидела у себя в спальне.
У Сандры Крессон, урожденной Лебаль, была одна, главная забота в жизни – супружеский долг. Давняя соседка Анри Крессона, не уступавшая ему ни по количеству гектаров своих владений, ни по богатству, она вышла замуж за этого вдовца, которого считали скорбящим, просто из страха одиночества. Ей казалось, что она вступает в брак с промышленником, человеком мирного нрава, – увы, она столкнулась с бешеным быком, которого, на ее беду, ничуть не интересовала светская жизнь. И напрасно она надеялась принимать гостей в просторных залах Крессонады – чаще всего ей приходилось избегать молниеносных появлений и исчезновений своего супруга в его уродливой гостиной. И это после того, как другие обитательницы дома успели – еще до Сандры – утвердить здесь свое превосходство.