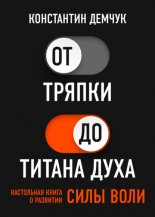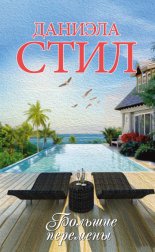Убийственное лето Жапризо Себастьян
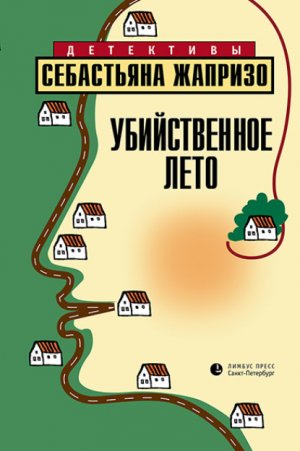
Он говорит:
– Она здесь останется.
Занавес. Бу-Бу быстро смотрит на меня и продолжает завтракать. Микки говорит:
– Нам уходить через пять минут.
Тетка мне улыбается, словно я пришла в гости, она совсем сбрендила. Пинг-Понг делает мне тост с конфитюром. Он говорит:
– Я пойду к ее родителям и попрошу разрешения.
Четверть часа спустя он стоит перед моей матерью на пороге дома, она уже умылась и оделась. Он переступает с ноги на ногу и говорит:
– Мадам Девинь, не знаю, как вам лучше объяснить…
Будто бедняжке нужны его объяснения. Я говорю и для него, и для нее:
– Я буду жить у Монтеччари. Заберу свои вещи. Идем, Робер.
Мы все втроем поднимаемся наверх. Он помогает мне выдернуть кнопки, которыми прикреплены к стене фотографии и плакат с Мэрилин. Моя комната белого цвета, ее полностью обставила мать. Он говорит:
– В нашем доме у тебя такой не будет.
Я складываю платья и белье в два чемодана. Мать не находит себе места, но не произносит ни слова.
Когда мы выходим из дома, я говорю:
– Черт! Моя ванна.
И иду за ней в чулан. Говорю Пинг-Понгу:
– Тебе все не унести.
Он отвечает:
– Скажешь тоже.
И вот он идет – цинковая лохань на голове, внутри мои чемоданы. Я говорю матери:
– Я люблю тебя больше всех на свете.
Она отвечает:
– Вот и нет. Это я люблю тебя больше всех на свете. Прощаю тех, кто причинил нам зло, раз ты есть, и благодарю Бога за то, что люблю тебя больше всех на свете.
Я ей говорю, вся на нервах, и протягиваю к ней руки:
– Я же буду здесь, в конце деревни. Ты же знаешь, где меня найти?
Но она качает головой и говорит мне «нет».
Когда мы с Пинг-Понгом идем по улице, это просто кино. Все, буквально все высыпали из домов с заспанными рожами, якобы подышать воздухом. Пинг-Понг шагает впереди, придерживая лохань на голове, а в ней – мои чемоданы. Я иду следом, в метре от него, несу своего мишку, фотографии, книгу и скатанный в трубку и стянутый резинкой плакат с Мэрилин. Когда мы проходим мимо Пако, говорю довольно громко, чтобы услышали:
– Представляешь, что у них там стряслось, если они вскочили в такую рань!
В мастерской шеф Пинг-Понга стоит у бензоколонки и говорит:
– Возьми пикап, справишься быстрее.
Но Пинг-Понг говорит:
– Все нормально. Приду через четверть часа.
Его Жюльетта, само собой, торчит у окна, но только запахивает халат, откуда вываливается ее внушительная грудь, и провожает меня недобрым взглядом. Не исключаю, что Пинг-Понг с ней разок переспал. А может, это она как раз думает, что ее муженек переспал со мной, поди разбери… Меня подмывает остановиться и сказать ей, что до этого почти что дошло как-то одним зимним вечером, но Генрих Четвертый – славный малый, а она его тогда со свету сживет.
Но самый большой кретин – это Брошар. И жена его – такая же кретинка. Он спрашивает Пинг-Понга:
– Что, переезжаем?
Пинг-Понг отвечает:
– Как видишь.
В эту минуту она выходит из кафе и спрашивает Пинг-Понга:
– Что, переезжаем?
Пинг-Понг отвечает:
– Спросите у мужа.
И эта дура набитая поворачивается к мужу и говорит мерзким тоном:
– Почему у мужа? Ты вообще тут при чем?
Клянусь, если захочешь послушать, как порют чушь, то в этой деревне даже телик включать не нужно.
В доме Монтеччари мамаша бесится от злости, но все как воды в рот набрали. Поднимаемся наверх, и Пинг-Понг скидывает оба чемодана на кровать, а лохань ставит в углу комнаты. На стенах убогие обои, мебель допотопная, но чисто. Я закрываю за собой дверь, чтобы показать мамаше, которая идет за нами по коридору, что отныне ей сюда вход воспрещен. Пинг-Понг говорит:
– Давай, устраивайся, а мне пора на работу.
Я спрашиваю:
– Можно, я повешу на стены фотографии и плакат?
Я так мило спрашиваю, совсем без акцента, с мишкой в руках, что он смеется, поднимает юбку, чтобы пощупать мне попку. И говорит:
– Делай все, что хочешь. Ты у себя дома.
Я чувствую, что ему надо уходить, но он топчется на месте, явно что-то хочет сказать, но потом, после телевизионной паузы, решается и выдает:
– Хочу сказать, что, когда мы вдвоем, мне нравится, что ты не носишь трусы, но когда ты так ходишь без них по деревне, мне это неприятно – никогда ведь не знаешь, а вдруг кто-то заметит.
Я говорю, что просто не успела надеть чистые. Он стоит как столп, с дурацким видом. Я говорю:
– Хорошо, прямо сейчас и надену.
Он счастлив, улыбается, а когда улыбается, то выглядит моложе своих тридцати, он меня возбуждает, и мне жаль, что он сын своего мерзавца-отца. Тогда я тут же начинаю себя ненавидеть и думаю: «Подожди-ка, если его это задевает, выходит, он сам балдеет, когда я хожу с голым задом».
Но я все равно улыбаюсь ему ангельской улыбкой и изо всех сил прижимаю к себе плюшевого мишку.
Все утро я прикалываю к стене свои фотографии, освобождаю один ящик комода и половину зеркального шкафа, чтобы разместить свои вещи. Ни в белье Пинг-Понга, ни среди других вещей не нахожу золотого зажима для денег. Читаю дурацкие письма. От приятелей по армии. От девушек. Особенно от одной по имени Марта, учительницы в Изере. Он с ней спал, и она описывает длиннющими фразами свои ощущения. Чтобы он понял, что она себя трогает, когда думает о нем, она несет какой-то бред про всю систему национального образования, причем раза четыре кряду, потому что конверт дико толстый, должно быть, Пинг-Понгу пришлось доплачивать за перевес. В одном письме она говорит, что всякое терпение имеет границы и больше она ему писать не будет. А потом – целая лавина писем. У меня уже не хватило духу развязать вторую пачку. Ставлю свой кубок «Мисс Кемпинг» на комод и спускаюсь вниз.
На кухне мамаша и тетка лущат горох. Я говорю:
– Мне нужна горячая вода для ванны.
Молчание. Я приготовилась услышать от мамаши, что все в доме моются над раковиной даже в дни свадьбы и первого причастия, но ничуть не бывало. Она, не пикнув, встает со стула, не глядя на меня, берет таз и дает мне. Потом говорит:
– Разбирайся сама.
Грею воду на плите. Мне тяжело поднимать полный таз. Она понимает, даже не повернув головы, и говорит:
– Не надоест ходить вверх-вниз, пока наполнишь свою лохань?
Я говорю, что дома принимаю ванну на кухне, но здесь не хочу им мешать. Она пожимает плечами. Стою, не двигаясь, до второго пришествия. Тогда она говорит:
– Еще не хватало, чтобы ты залила мне весь пол наверху. Тогда прости-прощай мой паркет.
Ну, я стаскиваю вниз свою лохань, задевая о стены, потому что лестница очень узкая, и наполняю водой, поставив у плиты. Когда в этом доме открываешь кран, дрожат все стены. Я наливаю четвертый таз, и старая карга говорит:
– Хорошо еще, что за воду не нужно платить.
И при этом не поворачивает головы, продолжая выковыривать свой горох.
Потом я раздеваюсь, и тут глухопомешанная тетка, словно с луны свалившись:
– Боже правый, она что, будет мыться прямо здесь?
И передвигает стул, чтобы меня не видеть. Мамаша, наоборот, изучает меня с ног до головы, когда я разделась. Пожимает плечами и возвращается к своим овощам, правда, замечает:
– Да, тут уж ничего не скажешь, хороша чертовка.
И больше ни гу-гу.
Она выходит отнести стручки на корм кроликам и закрывает дверь кухни – то ли по привычке, то ли чтобы я не простудилась, поди разбери. Возвращается, поднимается наверх и выносит мне махровое полотенце. Я говорю:
– У меня есть свое, в комнате.
Она отвечает:
– Неважно, стирать здесь, похоже, все равно придется мне.
И пока я вытираюсь, стоя в своей лохани, слышу:
– Мать у тебя славная женщина. Но тебя к труду не приучила. Достаточно взглянуть на твои руки.
Она глядит на меня в упор, вокруг глаз у нее сетка морщинок, но смотрит не зло, а так, холодно.
Я говорю:
– Мама воспитала меня, как смогла. Но ей бы не понравилось, что вы постоянно говорите со мной в таком тоне. Она бы вам сказала, что если вы не хотите, чтобы я у вас жила, то не стоило вашему сыну приезжать за мной.
Она не отвечает битый час, пока я вылезаю из лохани и вытираю ноги. А потом говорит:
– Ничего, это ненадолго.
Она берет таз, вычерпывает им воду и сливает в раковину. Я сдерживаюсь, чтобы ей не ответить, собираю свои вещички и иду в комнату. Всю оставшуюся жизнь валяюсь на кровати, пялюсь в потолок и про себя называю ее старой каргой. Все, решено – прежде чем она сумеет от меня избавиться, она заплатит за мое подвенечное платье. Немыслимое, все в кружевах. И выстирает его в собственных слезах. Уж я постараюсь.
Днем около пяти выхожу из дома, сажусь возле родника, листаю какой-то допотопный номер «Мари-Клэр»[30] и ем хлеб с шоколадной пастой. Старая карга уходит в своем черном пальто. Кричит мне издали:
– Отнесу яиц твоей матери! Передать ей что-то?
Я мотаю головой. Жду минут пять, чтобы убедиться, что она точно ушла, и возвращаюсь в дом. Мать наверняка угостит ее кофе, будет как сумасшедшая совать ей деньги за яйца, попросит взять какую-нибудь ерунду, которую я забыла, носовые платки или кружку с надписью «Эль», или медаль, выданную мне при крещении, поди разбери. Во всяком случае, госпожа Командирша вернется не сразу. В кухне дремлет тетка – глаза открыты, руки сложены на животе. Я поднимаюсь наверх.
Открываю дверь в первую комнату, это как раз спальня мадам Зануды с огромной кроватью, покрытой периной. Сверзишься с нее – расшибешься насмерть. На стене в овальной рамке портрет покойного. Он стоит на пороге кухни – длинные висячие усы, ружье через плечо. Крепкий, красивый мужчина, но без возраста. Мне хочется плюнуть ему в рожу. Я по очереди открываю все ящики, стараясь ничего не сдвинуть. Она не хранит одежду покойного мужа. Золотого зажима нет нигде. Есть документы, фотографии всего семейства в большой коробке на шкафу, но в этот раз я не смогу посмотреть все как следует.
Потом иду в комнату тетки, где порядка поменьше. Тоже ничего не нахожу, разве что тут стоит старая изразцовая печка, и я лезу взглянуть, что внутри. Между задней стенкой и заслонкой, точно там же, в таком же тайнике, как и у нас, я нащупываю какую-то бумагу. Это не похоже на конверт, в котором моя мать хранит деньги и на котором все расписано: даже час, число, месяц, год, когда она взяла три франка на шариковую ручку, которой и пишет. Это голубая папка, дети мастерят такие из картонных коробок из-под сахара. Я никогда не видела сразу столько денег. Внутри восемь тысяч франков в купюрах по пятьсот, и все новенькие. Кладу их на место. Потом иду в комнату Микки, потом в клетушку в конце коридора, где спит Бу-Бу. У них тоже нет этого золотого зажима, разве что один из них носит его при себе. В одном из ящиков у Бу-Бу нашла свою фотографию, вырезанную из газеты, когда я выиграла конкурс красоты в Сент-Этьен-де-Тине. Я ее целую и кладу на место.
Когда я спускаюсь, тетка смотрит на меня и говорит:
– Ты хорошая девочка.
Не знаю, с чего бы это. Спрашивает меня:
– Ты только что ела шоколад? Тебе его дала моя сестра?
Я киваю.
Она говорит:
– Я знала, что ты воровать не будешь.
И снова засыпает.
Потом иду в погреб, просто так, для очистки совести. Воняет прокисшим вином, слышу, как разбегаются какие-то твари. Смотреть нечего. Когда возвращается моя будущая свекровь, я, как паинька, сижу за кухонным столом, подперев голову руками, и смотрю по телику местные новости. Она ставит передо мной мою кружку с надписью «Эль», коробку с ампулами «Активарола»[31], который я должна принимать перед едой, ну и, конечно же, кладет очки, которые я вообще не ношу. Говорит:
– А я-то не могла понять, почему, когда ты на что-то смотришь, у тебя такой вид, будто принюхиваешься?
Она ничего не рассказывает об их разговоре с матерью, но мне плевать. Я совершенно спокойна, знаю, что мама никогда не скажет обо мне ничего плохого посторонним.
Потом наступает первое воскресенье, второе, третье, проходит целая вечность. Июнь. В воскресенье, священный день, Пинг-Понг уезжает с братьями. Утром я спускаюсь вниз в розовом бикини, с махровой простыней, на которой вышито «Эль», укладываюсь на солнце неподалеку от родника со стопкой допотопных журналов, найденных в сарае, флаконом крема для загара и ментоловыми сигаретами. Вообще-то я не курю, разве только чтобы кого-то позлить, и знаю, что мамашу Каргу это злит. Она волочит корзину с выстиранным бельем – развесить на просушку – и говорит мне:
– Ты что, воображаешь себя на пляже отеля «Негреско»?[32] Ты хоть для начала кровать свою убрала?
Когда она на меня не смотрит, я снимаю лифчик. Но не исключено, что она все время за мной наблюдает, поди разбери. Не то чтобы меня это как-то смущало, просто сейчас не время ей делиться своими впечатлениями с Пинг-Понгом.
К часу дня он возвращается наскоро перекусить, поговорить нам некогда. И я слоняюсь без дела весь оставшийся день. Раскладываю пасьянс на нашей кровати. Три раза переодеваю платья и смотрюсь в зеркало в шкафу. Приклеиваю накладные ногти и покрываю их лаком. Вспоминаю людей, с которыми была знакома. Мадемуазель Дье, школьная учительница из Брюске, деревни чуть выше Арама. Она говорила, что девочки, которые грызут ногти, обязательно трогают свои срамные места в постели. Это она хотела пристыдить меня перед всем классом. Я ей ответила, что с такой рожей, как у нее, она должна заниматься этим постоянно. Бац! Затрещина. Она ненавидела меня, вот в чем дело. Я была самая красивая в классе. Все это говорили. В четырнадцать лет и даже раньше у меня было все, что полагается, честно, я не вру. Трудно даже представить, что она как-то раз со мной сотворила. Оставила меня в наказание после уроков, а сама стала на коленях умолять, чтобы я хорошо себя вела. А что сделала я в ответ? Облила ее чернилами «Ватерман» – лицо, платье, всю ее с ног до головы – ужас. У меня одной в классе были чернила. Отец подарил мне авторучку, чтобы я лучше училась. Полный кретин. В результате я потащилась к ней домой как-то вечером, якобы чтобы вернуть книги после того, как меня исключили – такую, как я, не могли больше держать в школе. Она вся тряслась. Ей было лет двадцать шесть, а жизненного опыта, наверное, меньше, чем у самой подлой маленькой мерзавки из числа ее учениц. Да, задала я ей жару. Просто цирк! И если бы я тогда велела ей ползти на брюхе, она бы поползла и еще бы меня потом благодарила.
Или еще, конечно, вспоминаю другого придурка. Из-за ручки и вообще из-за всего. Застываю и целый час вообще не шевелюсь. Например, когда мы с ним гуляли по лугу, я была совсем маленькая, и он держал меня за руку. Лет пять мне было. Ничего не помню ни про этот день, ни про другие, которые мы с ним провели, только помню, как идем по лугу, мне весело, и повсюду желтые цветы. Когда час спустя наконец прихожу в себя – перед зеркалом у нас в комнате со щеткой для волос в руке, я говорю себе, нужно проветриться, с меня довольно. Иногда я забегаю к Мартине Брошар, и мы вдвоем спускаемся к реке и загораем нагишом. Или тащусь через всю деревню к нашему дому, но туда не захожу. Просто смотрю и думаю: интересно, дома ли моя безмозглая мамаша, что она сейчас делает, а потом иду обратно.
Бывает, останавливаюсь возле мастерской и стою на пороге. Пинг-Понг работает на пару с Генрихом Четвертым – собирают разобранный на куски трактор. Оба они потные и перепачканы маслом. Генрих Четвертый поворачивается, чтобы взглянуть, кто пришел, а я говорю:
– Хотела бы поговорить с Робером.
Он спокойно отвечает, даже не здороваясь:
– А кто здесь Робер?
Я указываю на Пинг-Понга, вообще-то он не Робер. Я вычитала в его письмах, что он Флоримон, и мамаша при мне так же его называет. Генрих Четвертый вздыхает и склоняется над мотором. Говорит:
– Ладно, на этот раз – так и быть, но не забудь, что час работы твоего Робера обходится мне недешево.
Пинг-Понг выходит ко мне на улицу и говорит:
– А что, он прав. Не ходи сюда в рабочее время.
Я стою, уставившись в пол, словно пытаюсь сдержать слезы, нежная, как цветок. Он говорит:
– Ну ладно, выкладывай, что там стряслось?
Я отвечаю, не поднимая глаз:
– Я хотела написать записку и оставить, чтобы тебе не мешать. Но я пишу с ошибками, боялась, что будешь надо мной смеяться.
Стоим до скончания века, потом он говорит:
– Я тоже делаю ошибки. А что ты хотела мне написать?
Совсем не волнуется, даже наоборот. Как обидно, что он сын своего папаши-подонка, а папаша этот явился на свет, чтобы я страдала, ну а я явилась на свет, чтобы теперь все они, как один, страдали еще сильнее. Я отвечаю:
– Твоя мать сказала, что ты меня долго не вытерпишь. Все так думают. А еще здесь, в деревне, плохо говорят о моих родителях, будто я стала бог знает кем. Вот так.
Он кладет руки в карманы, немного думает, потом говорит:
– Черт возьми!
А потом спрашивает:
– А кто конкретно плохо говорит о твоих родителях? Мало ему не покажется.
Я отвечаю:
– Да так, люди.
Вижу, он весь кипит из-за того, что я расстроена, но боится меня коснуться, потому что у него руки в масле. Он говорит:
– Послушай, я вовсе не такой, как твои бывшие.
Теперь слезы сами выступают у меня на глазах. Я отвечаю:
– Вот именно.
Разворачиваюсь, иду по обочине, а он меня догоняет. Не обращая внимания на масло, хватает меня за руку и говорит:
– Не уходи так!
Я останавливаюсь.
Он говорит:
– Не знаю еще, как у нас дальше будет. Но мне с тобой хорошо, и пошли они все подальше.
Я смотрю ему прямо в глаза, потом целую в щеку, так, чмокаю по-детски. Киваю, что верю ему, и ухожу. Слышу, как он говорит мне вслед:
– Я вернусь пораньше.
По крайней мере, я знаю, что меня ждет – точно такой же вечер, как предыдущие.
Когда по вечерам он приходит домой, ему хочется только одного – побыстрее оказаться со мной в комнате. Первое время мне приходилось пялиться в потолок перед ужином, после ужина и еще раз утром – до работы. И весь день в своей зачуханной мастерской – это он сам говорит – он только и думает, как бы меня заставить снова этим заняться. Комната его мамаши рядом с нашей, и ночью, когда я кричу, она стучит в стенку. Один раз Микки вышел в коридор, стал колотить нам в дверь с воплями:
– Сил никаких нет, совсем спать не даете!
Пинг-Понг зажимает мне рот рукой, когда у меня подступает, хотя чувствует, что меня душит, но, всяко, сам заводится, когда я ору. Больше всего Пинг-Понг мне нравится – и я даже почти готова его полюбить, – когда он во мне, кончает и умирает. А еще когда я раздеваюсь, а ему не терпится, он хватает меня за все места, словно боится, что двух рук для этого мало.
Я прекрасно помню все, что сказала мне старая грымза. Я знаю, что все это ненадолго, что пройдет какое-то время, он успокоится, как всегда, бывает, но пока я его держу именно этим. Я ложусь на спину, на живот, встаю на четвереньки. Наша соседка колотит в стенку как заводная. А потом наступает мой час, и в атаку иду я, так, из любопытства. Вот, например: субботний вечер, третий с тех пор, как я у них живу. Иду в город, в кинотеатр «Руаяль», с Микки, его Жоржеттой, Бу-Бу и одной отдыхающей, по-моему, жуткой уродиной, а сам Пинг-Понг стоит на посту в глубине зала во время первой половины сеанса в своей пожарной куртке и каске. В антракте я подхожу к нему и говорю:
– Запомни, это последний раз, что я здесь, а ты корчишь из себя этого клоуна. Мне вот хочется, чтобы ты сидел рядом во время фильма и трогал меня, когда на меня найдет.
Казалось, у него глаза вылезут из орбит. Он, как кретин, оглядывается по сторонам, не слышал ли кто, а я говорю:
– Мне что, погромче повторить, чтобы всем было слышно?
Он мотает головой, мол, пожалуйста, не надо, и отваливает на дикой скорости, держа в руках свою мерзкую каску.
Дома в комнате он мне говорит:
– Ты должна меня понять.
Все мужики-подонки хотят, чтобы их понимали.
– Я служу людям. Когда бывает пожар или несчастный случай, я вовсе не строю из себя клоуна, а выполняю свой служебный долг. И вообще-то не задаром, я получаю полные четыре сотни.
Я даже не отвечаю. Он заставляет меня сесть рядом с ним на кровать. Говорит:
– Проси, что угодно, только не это. Я не могу отказаться от своего дела. Не могу.
Я его мариную до скончания века, а потом говорю, отойдя в сторону:
– Я просто имела в виду, чтобы ты с кем-то поменялся на вечер субботы и был со мной, только и всего. Или я могу заменить тебя кем-то другим.
Я вижу его отражение в зеркальном шкафу, и он меня видит. Он опускает голову и шепчет:
– Хорошо.
Я подхожу к нему, он зажимает мои ноги коленями. Я расстегиваю платье сверху, чтобы он целовал меня так, как любит Эль. Потом он трахает ее на кровати энергичнее, чем обычно по ночам, и начинается такой стук в стенку, что впору разбудить глухую тетку.
Кажется, на следующий день, в третье воскресенье июня, мне надоело, что из меня выжимают соки всю неделю, и я поняла, что не выдержу. И пока Пинг-Понг еще спит, я спускаюсь во двор в своем халате. У ворот какие-то молодые люди что-что-то обсуждаютс Матерью Скорбящих. Я слышу, как она отвечает – орет так, будто говорит по телефону:
– Спрошу у сына, он у нас глава семьи!
Их четверо на белом «фольксвагене», разукрашенном всякими наклейками, плюс каноэ на крыше. Скоро они уезжают. Мамаша говорит мне:
– Туристы.
Когда она уходит на кухню, я пытаюсь наладить душ, который они установили между родником и сараем, и неожиданно меня окатывает холодной водой – волосы и халат – всю насквозь. Бу-Бу и Микки наблюдают за мной из окна. Микки ржет. Я знаю, что сейчас Вот-та должна была бы сделать, я прекрасно знаю. Но пока еще слишком рано. Или мне мешает что-то другое. Может, мое фото, вырезанное из газеты, поди разбери. Меня охватывает тоска, я все бросаю и иду наверх. Пока я одеваюсь, Пинг-Понг просыпается и говорит:
– Ты куда?
Я отвечаю:
– Иду навестить мать.
Он говорит:
– Мы же у нее обедаем сегодня?
Я говорю:
– Ладно, придешь попозже, а я пойду прямо сейчас.
Мчусь домой на всех парах, сердце колотится.
Она наверху с придурком, должна то ли побрить его, то ли переодеть, и я кричу в потолок:
– Ты спустишься или как? Мне нужно с тобой поговорить!
Она тут же спускается. Я стою и плачу, прижавшись к стене лбом и опираясь о нее руками. Он в своей комнате орет как помешанный. Она осторожно берет меня за плечи и ведет в погреб, как раньше, когда хотела спокойно со мной поговорить. Я говорю, рыдая: