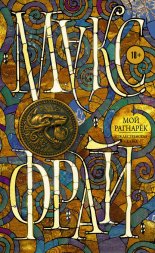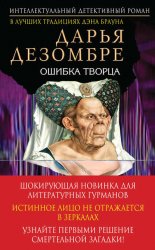Соотношение сил Дашкова Полина

© Дашкова П.В.
© ООО «Издательство АСТ»
Глава первая
Высокие кованые двери открылись, Маша очутилась в полутемном коридоре, сквозь панический стук сердца услышала, как мужской голос объявил:
– Танец Жанны из балета «Пламя Парижа». Музыка Асафьева, сценография Дмитриева, исполняет солистка балета Государственного Большого театра Мария Крылова.
Маша выбежала на сцену. Хрустальный свет огромных люстр ослепил. Все сверкало и переливалось, словно она попала в центр гигантского бело-золотого фейерверка. Самый длинный стол стоял прямо перед сценой, дальше множество столов, белые скатерти, зеленые бутылки, пестрота снеди, смутные пятна лиц.
Натертый паркет оказался слишком скользким, но испугаться она не успела. Знакомые аккорды фортепиано подхватили ее, как живые невидимые руки, завертели, вскинули в первом, высоком и долгом прыжке. Приземлившись, Маша заметила, что за главным столом зрители сидят спиной к сцене.
На каждом витке фуэте она ловила мгновенную, как вспышка, картинку. Розовый ломоть семги дрожит на вилке. Кусок хлеба застыл в толстых пальцах, с него сползает на белую скатерть горка черной икры. Полная до краев рюмка. Судя по цвету, коньяк. Следующий виток – рюмка пуста.
Центральная фигура за главным столом сидела вполоборота. Маша успевала разглядеть только детали. Покатые узкие плечи. Щетинистый валик между затылком и воротником френча. Вялая крапчатая щека. Кончик уса, нос, глаз, бровь.
«Все-таки иногда поглядывает, – отметила про себя Маша, – поглядывает с интересом, но продолжает жевать».
Квадратная голова Молотова была обращена к сцене затылком. Дедуля Калинин сидел боком, жевал, шевеля бородкой. Берия, индюк в пенсне, развернулся, глазел, ковыряя в зубах спичкой. Ворошилов сгорбился, голову вжал, пил рюмку за рюмкой.
Маша знала, почему славный маршал такой пришибленный. Он обещал победить белофиннов к 21 декабря, к шестидесятилетию товарища Сталина, сегодня 22 декабря, а победой пока не пахнет.
Центральная фигура стукнула стулом, рядом мгновенно выросли молодые люди в штатском, бережно развернули стул вместе с фигурой и сразу исчезли. Товарищ Сталин перестал жевать, внимательно смотрел на сцену.
Ритм танца нарастал. В диком аллегро крутилась алая юбка, трепетал белый батист пышных рукавов. «Прыжки басков», повороты в воздухе, скачки «субресо», с долгим отлетом вперед, тело выгибается в воздухе крутой дугой, затылок почти касается сжатых пяток, пируэты, пробежки на пуантах, дробь, с пятки на носок, с носка на пятку, большое фуэте, тридцать два оборота без остановки.
На очередном витке она заметила, что теперь все за главным столом развернулись и смотрят, как здорово отплясывает солистка Крылова.
Маша исполнила свой коронный кабриоль, высокий прыжок, несколько быстрых ударов ногой о ногу. Почти не приземляясь, зависая невероятно высоко и долго, она кроила ногами воздух Георгиевского зала, летала над скользкой сценой и наконец застыла в арабеске. Последняя пара прыжков была импровизацией, музыка стихла. Арабеска совпала с мгновением тишины. Под шквал аплодисментов Маша сделала реверанс, потом отвесила красивый русский поклон в пояс, а когда распрямилась, сумела, наконец, разглядеть лицо центральной фигуры.
Она часто видела его издали, со сцены, в полумраке правительственной ложи, но еще ни разу так близко, при ярком свете.
Тусклые сощуренные глаза, толстый нос, мятые рябые щеки. Виски аккуратно выбриты. Неприятная диспропорция: лоб и вся голова слишком малы, а лицо большое, тяжелое, отечное. Шевелюра густая, тщательно уложенная на косой пробор, зрительно увеличивает объем черепа, но все равно маловат гениальный череп. И вообще, не похож этот пожилой нездоровый кавказец на свои бесчисленные парадные изображения.
Маленькие, почти женские, кисти товарища Сталина двигались, смыкались, размыкались. Сквозь шум аплодисментов огромного зала Маша отчетливо различала отдельный, особенный звук этих медленных, мягких хлопков, и счастливо, широко улыбалась.
Зал продолжал аплодировать, а товарищ Сталин перестал. Рука его протягивала бокал в сторону сцены. Усы вздернулись в ответной улыбке. Он смотрел прямо в глаза солистке, слегка покачивался и даже как будто подмигивал.
Маша застыла, не понимая, что ей делать. Специальные люди вдалбливали всем участникам концерта: сразу уходить, не задерживаться, в зал не спускаться!
«Как же уйти, когда он угощает? – думала Маша. – Надо спуститься! Или не угощает, а сам будет пить из этого бокала?»
Но тут фортепиано опять заиграло. Аплодисменты смолкли. Маша повторила кабриоль, прокрутила короткое фуэте и после быстрого поклона умчалась прочь, не оглядываясь.
В коридоре, пробегая вдоль рядов охраны, она налетела на знаменитого баса Максима Дормидонтовича Михайлова. Хотела извиниться, но не смогла произнести ни слова, во рту пересохло, язык прилип к нёбу. Михайлов мимоходом похлопал ее по плечу и прошествовал дальше, к сцене. Прежде чем проскользнуть назад, в проем между литыми высоченными створками, она услышала раскаты мощного баса Михайлова:
- Степь, да степь кругом,
- Путь далек лежит…
Остаток пути она прошла медленно, словно утопая до пояса в снегу и замерзая, как тот ямщик в глухой степи.
Оказавшись наконец в маленькой душной комнате, она бессильно опустилась на вытертый коврик, уткнулась лбом в колени, выдохнула:
– Все…
Маша до последнего момента не верила, что ей придется выступить в Георгиевском зале, на концерте, посвященном шестидесятилетию товарища Сталина. Балет «Пламя Парижа» очень ему нравился, партия Жанны обязана была войти в программу, и непременно в исполнении его любимой балерины Ольги Лепешинской. Но Лепешинская упала на репетиции и повредила голеностоп. Другая прима Большого, Марина Семенова, была вдовой врага народа, недавно расстрелянного Карахана, и допустить ее к участию в юбилейном концерте не могли.
Маша уже год танцевала Жанну во втором составе. В чью-то административную голову пришла идея – не менять утвержденную дюжиной инстанций программу, а поставить другую исполнительницу. В Большом зале консерватории, где проходили репетиции концерта, Маша трижды станцевала перед комиссией. Комиссия одобрила. В тот же день ее вызвали в зловещую комнату возле канцелярии, в кабинет главного кадровика Большого театра.
Суетливый толстяк с бледным плоским лицом и неуловимым взглядом не поздоровался, не предложил сесть, спросил сурово, осознает ли она всю степень ответственности? Понимает ли, какая величайшая честь ей оказана? Готова ли оправдать доверие партийной организации, коллектива, всего советского народа? На «советском народе» кадровик глухо закашлялся, глотнул воды, расплескав из стакана несколько капель на стол, и вместо просто «Крылова», обратился к Маше «товарищ Крылова», перешел на «вы», поднялся, повернулся лицом к портрету на стене, поднял руку, сложил пальцы в щепоть. Маше показалось, что кадровик сейчас перекрестится. Он держал руку поднятой минуты две, пока произносил, вернее, пел остаток речи. Маша подумала, что с таким сладким тенором он сам бы мог участвовать в концерте.
Исполнив свою партию, тенор уронил руку, сел на место и уже другим, не концертным голосом, отрывисто и деловито пролаял:
– Завтра в двенадцать часов машина заберет вас из театра. Вы должны быть полностью готовы. При себе никаких вещей. Только документы.
– А костюм? – изумленно спросила Маша.
– Сказано: полностью готовы. Переоденетесь заранее, в театре.
– Мороз тридцать градусов, я окоченею…
– Вы ж не по улице пойдете. Сказано: машина заберет.
– А грим?
– Тоже заранее.
– Обязательно перед выходом надо поправить грим, и потом, расческа, запасные шпильки, канифоль…
– Что-о? – прошептал кадровик, бледнея, словно речь шла о холодном оружии и взрывчатом веществе.
– Шпильки для волос, канифолью натирают подошвы балетных туфель, чтобы не скользили, – объяснила Маша.
После долгих пререканий ей дозволено было взять с собой только туфли и грим.
Маша давно привыкла к проверкам и досмотрам. Когда в театр приезжали члены Политбюро, он весь наполнялся охраной, в форме и в штатском, но тут, на территории Кремля, творилось нечто особенное.
От Спасских ворот до Большого Кремлевского дворца красноармейцы стояли в два ряда, между рядами гуськом шли участники концерта к артистическому входу. Охрана дважды рылась в сумке, сначала у ворот, потом на входе во дворец. Прощупали стельки балетных туфель, потребовали выложить на стол содержимое карманов шубы, заставили снять вязаную кофту, которую Маша накинула на костюм, размотать оренбургский платок. Все протрясли и прощупали. Фамилию на спецпропуске без конца сверяли со списком, с фамилией в паспорте, лицо – с паспортной фотографией. Десятки глаз впивались, просвечивали насквозь, отслеживали каждое движение.
Машу вначале отправили в большую артистическую, где разместился ансамбль песни и пляски Александрова. Там было тесно, танцовщики по очереди разогревались, Маше не хватило стула. Пока она искала, где приткнуться, прошел слух: концерт отменяется. Рядом зашептали, что из-за плохих дел на Финском фронте товарищ Сталин раздумал праздновать свой юбилей. Кто-то возразил, что концерт состоится, но поздно ночью, когда закончится заседание. Все это были только слухи, точно никто ничего не знал. Вдруг Маша услышала свою фамилию, испугалась, что прямо сейчас позовут на сцену, но нет, двое красноармейцев, как под конвоем, повели в отдельную артистическую. По дороге она решилась спросить, правда ли, что концерт отменят, но ответа не получила. Спросила, есть ли тут уборная. Ответили: в конце коридора, правая дверь.
В крошечной комнатке, наедине с облезлым канцелярским столом, стулом и мутным зеркалом пришлось провести почти шесть часов. На столе стоял графин, накрытый стаканом. Маша использовала спинку стула в качестве станка, разогревалась, разминалась, пила мелкими глотками кипяченую воду, причесывалась, поправляла грим. Время тянулось страшно медленно, в какой-то момент стало казаться, что она сидит тут уже несколько суток. Дважды без стука распахивалась дверь, на пороге возникали фигуры в форме. На робкое «здрасти» никто не отвечал. Молча смотрели и уходили.
Когда ее вызвали, она не поверила своим ушам, дико занервничала, заметалась, хватая то расческу, то банку румян, в последний момент заметила, что оборка юбки держится на соплях и может оторваться во время танца. Проклиная себя, что не закрепила заранее эту несчастную оборку, захлебываясь стуком сердца, Маша просеменила по коридору и через минуту оказалась на скользкой сцене Георгиевского зала.
Никогда она не танцевала партию Жанны с таким азартом. Унижение, страх, злость переполнили ее, и танец получился как взрыв. Она ни разу не поскользнулась при сложных приземлениях, оборка не оторвалась. Товарищу Сталину понравились высокие прыжки, долгие фуэте, незапланированный кабриоль. Завтра в «Правде» появится сообщение ТАСС о концерте, в списке участников будет ее фамилия. Но ни радости, ни облегчения она не чувствовала, боялась взглянуть в зеркало, сидела на вытертом коврике у стола, обняв дрожащие колени, тихо повторяла:
– Все, все, все…
* * *
Сотрудникам Особого сектора присутствовать на кремлевских банкетах и концертах не полагалось. Особый сектор был теневым кабинетом, личным секретариатом Сталина. Двенадцать спецреферентов, составлявших для Хозяина аналитические сводки по всем областям государственной жизни, держались даже не в тени, а практически в небытии. Об их существовании знали только члены Политбюро, высшие чины НКВД, некоторые наркомы и узкий круг кремлевской обслуги. Для остального мира внутри и снаружи СССР товарищ Сталин самостоятельно, без чьей-либо помощи, ежедневно переваривал мегатонны информации, прочитывал тысячи страниц документов, газет, журналов, писем трудящихся, никогда не спал, все успевал, все знал.
Илья Петрович Крылов, сотрудник Особого сектора, спец-референт по Германии, ждал жену в артистическом подъезде. Его удостоверение позволяло ему войти куда угодно на территории Кремля, но сегодня в Большой Кремлевский дворец пускали только по спецпропускам, с подписью Власика, начальника сталинской охраны. Чтобы получить такую бумажку, Илья Петрович должен был обратиться с просьбой к самому Хозяину. Ни Власик, ни Берия не решились бы нарушить неписаный закон и позволить спецреференту явиться на юбилейный концерт. Разумеется, Хозяин знал, что солистка балета Мария Крылова, которая сегодня танцует вместо Лепешинской, – жена товарища Крылова. Два года назад он лично поздравил их по телефону с законным браком и прислал букет роз, выращенных собственноручно в теплице. Но с тех пор ни разу не поинтересовался семейной жизнью своего спецреферента. Бог миловал. Никогда ничего хорошего такой интерес не сулил. Илья давно твердо усвоил: если есть возможность не напоминать Хозяину о себе и о своих близких, то не стоит этого делать.
О времени Машиного выхода Илья узнал от Поскребышева, личного секретаря Хозяина и своего непосредственного начальника, и ждал ее в артистическом подъезде у поста охраны.
Когда он вошел в подъезд и показал удостоверение, его ни о чем не спросили. Рядовые охранники вытянулись в струнку. Но появился один из адъютантов Власика, пришлось еще раз показать книжечку и объяснить, что он тут ждет жену, артистку балета.
– Крылова? – уточнил адъютант. – «Пламя Парижа»?
Илья кивнул.
– Закончила уже выступать, сейчас выйдет. – Адъютант неожиданно улыбнулся. – Здорово пляшет супруга ваша, товарищ Крылов.
– Спасибо. – Илья улыбнулся в ответ и увидел Машу.
В ярком электрическом свете лицо ее казалось неживым, кукольным, наверное, из-за грима. Она шла в накинутой на плечи поверх сценического костюма шубе. Оренбургский платок свисал из рукава и волочился по малиновой ковровой дорожке. Вблизи Илья заметил, что глаза у нее воспаленные, мокрые.
– Ой, Илюша, ой-ой-ой, – бормотала она, пока он помогал ей одеваться.
По дороге от Спасских ворот к Васильевскому спуску, где Илья оставил свой «Бьюик», она не произнесла ни слова, тихо жалобно поскуливала. Когда сели в машину, Илья спросил:
– Домой?
– Нет, давай немножко покатаемся.
Пока он заводил мотор, она сидела, уткнувшись лбом ему в плечо, не шевелилась.
– Ну, ты чего? Мне сказали, ты танцевала здорово. Да я и не сомневался.
– Не знаю…
– Ты ела что-нибудь?
Она молча помотала головой.
– Поужинаем в «Национале»?
– Не хочу… Интересно, кто это придумал – сажать правительство спиной к сцене? Они так всегда сидят или только в честь его юбилея?
– Всегда. Они смотрели на тебя? Он смотрел?
– Сначала косился, шею выворачивал, потом стул под ним развернули. Ему понравилось, он хлопал и улыбался… Георгиевский зал очень красивый, бело-золотой, торжественный, только сцена ужасно скользкая, хорошо, у ансамбля Александрова был ящичек с канифолью, я успела подошвы натереть, а то бы непременно грохнулась.
Голос ее звучал уныло, Илья вел машину и видел краем глаза заострившийся профиль. Прядь выбилась из-под платка, ресницы дрожали.
– Что тебя мучает, Манечка?
– Ничего. Просто очень устала. Тяжело танцевать, когда они так близко и свет яркий… Может, поэтому их спиной к сцене и сажают, чтобы артистов не смущать?
– Интересная мысль.
– Мг-м… Останови, пожалуйста, давай подышим.
– Холодно, поедем домой.
– Капельку погуляем.
Илья остановился в Лебяжьем переулке, они вышли на набережную. Мороз немного ослаб, ветра не было, небо заволокло светлой кисеей облаков, мелкий редкий снег сверкал под фонарями и казался звездной пылью.
– А в Ленинграде затемнение. – Маша поймала варежкой снежинку.
– Ну, прифронтовой город.
– Бедный, бедный Май. За что ему такой ужас?
«Вот в чем дело», – подумал Илья.
Он ждал, что рано или поздно она заговорит об этом. Еще до начала Финской войны, в октябре, призвали в армию ее давнего друга и партнера Мая Суздальцева.
Май был ленинградец, в Москву переехал к бабушке, после того как его родителей посадили. Бабушка умерла, он остался один, жил в общежитии. Солиста из него не вышло. Пару лет назад он вполне удачно исполнил партию Злого петуха в балете «Аистенок», получил еще несколько второстепенных партий, но после смерти бабушки и замужества Маши, в которую он был влюблен, что-то в нем надломилось. Май танцевал все хуже, пропускал репетиции.
Неделю назад в Москву из Ленинграда приехала Агриппина Яковлевна Ваганова, лучший в СССР педагог-репетитор. Она приезжала два-три раза в году, давала индивидуальные уроки солистам Большого.
Май когда-то учился в Мариинке у Вагановой.
Однажды после занятий Агриппина отозвала Машу в сторонку и передала письмо от Мая, сопроводив его скупым комментарием, что мальчик в госпитале, пулевых ранений нет, но отморожены ноги. Она потребовала, чтобы письмо Маша прочитала при ней и сразу вернула.
Маша рассказала об этом Илье только вчера вечером, шепотом, в ванной, при включенной воде.
– Одну ногу ему ампутировали, вторую удалось спасти. Агриппина хлопочет, чтобы после выписки оставить его в Ленинграде, устроить в Кировский, в реквизитные мастерские. Знаешь, там, в госпитале, почти все обмороженные. После ампутаций москвичей и ленинградцев высылают подальше, ну, чтобы не портили своим видом красоту главных советских городов. Говорят, специальный приказ Ворошилова…
Ночью в ванной Илья слушал ее и не задавал вопросов. Он знал, что такой приказ действительно есть.
Утром он сказал ей:
– У тебя сегодня день очень ответственный. Будь, пожалуйста, внимательной, разумной и осторожной. Ничего не бойся, ни о чем постороннем не думай.
Очень ответственный день кончился. Маша, усталая, слабенькая, опять стала думать о постороннем.
– Как ему жить без ноги? Что с ним будет?
– Может, денег ему послать?
– Это само собой. – Она кивнула. – Я собрала для него семьсот рублей, зарплату свою и кое-что от концертов, хотела съездить в Ленинград, навестить…
– Съездить в Ленинград? – удивленно переспросил Илья. – Ты ничего не говорила.
– Да, меня все равно не отпустили, тут еще этот юбилей…
– Передала бы деньги Агриппине.
– Она не взяла. Сказала, чтобы я сама к нему съездила, навестила. Господи, ведь его практически убили…
– Перестань! Он жив, голова и руки целы, привыкнет к протезу, освоит какую-нибудь новую профессию, и ты его обязательно навестишь. Ну, что же делать? Война…
– Война? Они там даже не успевают воевать, рвутся на минах и замерзают. Обмундирование летнее, на ногах кирза, на головах буденновки, при сорока градусах мороза. Зачем? Кому это понадобилось? Ну, скажи, финны напали на нас?
– Ты неправильно ставишь вопрос. На Карельском перешейке граница проходит слишком близко от Ленинграда, для безопасности ее нужно отодвинуть.
– Ты мне будешь «Правду» цитировать? Политинформацию решил провести? – Маша подкинула носком сапога ком снега. – Не надо, не трудись, про границу я уже наизусть знаю, и про то, что белофинская военщина развязала против нас агрессию, а финские трудящиеся бедняки с нетерпением ждут доблестную Красную армию, чтобы освободила их от гнета помещиков-капиталистов.
– Это не совсем так…
– А как?
– Ну, видишь ли, на самом деле границу от Ленинграда лучше отодвинуть, для безопасности…
– И поэтому финны на нас напали? – она резко остановилась, взяла его за плечи и слегка потрясла. – Илюша, тебя от вранья не тошнит?
– Будешь меня трясти, затошнит от качки. – Он поправил ее сбившийся платок. – Это не вранье, Манечка, это называется генеральная линия партии.
– Хорошая линия, правильная, посылать мальчишек необученных в летнем обмундировании в сорокаградусный мороз на минные поля. – Маша развернулась и быстро пошла вперед.
Илья догнал ее, пошел рядом, заговорил мягко, тихо:
– Я много раз объяснял: обсуждать такие вещи бессмысленно. Если я скажу: финны не собирались на нас нападать, напали мы, а они защищают свою страну, – от моих слов что-то изменится? Будет заключен мир? Погибшие оживут, а у твоего Мая вырастет новая нога?
– Нет, Илюша, погибшие не оживут, и Май останется калекой. Но изменится многое, для нас с тобой, потому что ты перестанешь мне врать.
В последнее время подобные разговоры случались все чаще. В тридцать седьмом, когда они только поженились и стали жить вместе в его казенной квартире на Грановского, Маша строго соблюдала табу, не касалась опасных тем, она привыкла к этому с детства. Могла прошептать, что кого-то взяли, или тихонько рассказать, какой бред нес партийный секретарь на собрании. Но все это быстро забывалось, она танцевала много и успешно, радовалась, когда давали роль в новой постановке или получался очередной сложный прыжок. Если прыжок не получался, она отрабатывала его часами, сутками, до изнеможения, пока не добивалась своего. Если роль давали другой танцовщице, Маша огорчалась, злилась, но не слишком. Ворчала, что у той, другой, руки совсем невыразительные, корпус вялый, что распределением ролей теперь ведает партком, вручает, как премии за активную общественною работу.
Впрочем, пожаловаться на недостаток ролей Маша не могла, и заниматься для этого общественной работой ей пока не приходилось. Да и вообще, все у нее было хорошо. Родители живы-здоровы, папа, инженер-авиаконструктор, проскочил тридцать седьмой, когда в авиационной промышленности брали каждого третьего, и тридцать восьмой, когда брали каждого пятого из уцелевших. Сейчас, в конце тридцать девятого, страх отпустил. Некоторых арестованных выпускали. Люди приходили в себя, дышали свободней, охотно верили, что во всем виноват Ежов, так же как до него – Ягода. Теперь виновные разоблачены, сурово наказаны, наконец справедливость восстановлена. И Маша верила.
Илья изо всех сил поддерживал ее веру, внушал, что бред образца тридцать седьмого никогда больше не вернется. Простая возможность спать ночами, не вздрагивая от каждого звука под окнами и за дверью, удивительно преобразила Машу, она как будто выздоровела после долгой болезни, расцвела, похорошела.
Илья любил смотреть, как она просыпается по утрам. Он всегда уходил на час-полтора раньше и будил ее перед самым уходом. Она обнимала его за шею, сквозь сладкий зевок бормотала:
– Поцелуй…
Он целовал ее в глаза, и только тогда она разжимала веки, потягивалась, ежилась, осторожно вытянутым мыском касалась пола и вдруг вскакивала с кровати, встряхивала волосами, всплескивала руками, принимала каждый новый день благодарно и радостно, как драгоценный подарок.
Однажды она сказала:
– Знаешь, в тридцать седьмом я постоянно чувствовала, как у меня все внутри сгорает. Был привкус пепла во рту, я зубы чистила три раза в день, не помогало. Даже любовь сгорала, ничего от нее не оставалось, кроме страха потери. Если бы это продлилось еще немного, я бы умерла.
– Ну, не надо, не преувеличивай.
Он хотел, чтобы она забыла, старался свести для нее пережитый ужас к недоразумению, к чему-то вроде несчастного случая, выпадающего из ясной и здоровой логики жизни. Он пытался объяснить необъяснимое, выстраивал словесные конструкции, изредка удачные, а в основном неуклюжие.
Маша ездила с концертами в провинцию. Рязань, Воронеж, Псков, Вологда, колхозы Нечерноземья с волшебными названиями: «Залог пятилетки», «Путь к сознанию», «Мечты Ильича». Возвращаясь, рассказывала, как ужасно люди одеты, везде грязь, вши, нищета, и очереди, бесконечные, неистребимые, за хлебом, за мылом, в магазинах ничего, кроме ржавой селедки. Ну ведь огромная, богатая страна, люди работают, работают, куда же все девается?
Илья бормотал про гигантские стройки пятилеток, тяжелую промышленность, индустриализацию, домны, самолеты, танки, ледоколы.
– Люди жрать хотят! Какие домны? Дети босые ходят до холодов, одежка латаная-перелатаная!
Илья думал: ну ведь умудряются другие не замечать всего этого, а видят изобилие, тяжелую промышленность, домны-ледоколы, спортивные рекорды, счастливых румяных пионеров и комсомольцев.
Об очередях за хлебом, о вшивости, о босых детях, латаной-перелатаной одежке сообщали в секретных сводках сотрудники областных НКВД. Им по должности полагалось видеть и сообщать.
Илья знал, что Маша никогда ни с кем, кроме него, своими впечатлениями делиться не будет, осторожность в разговорах с чужими давно стала инстинктом, но осторожно думать и чувствовать она не могла. Приучать ее к этому было все равно что бить по-живому, втаптывать назад, в тридцать седьмой.
Словесные конструкции рушились, он ускользал от разговора, менял тему, обнимал, целовал, вытаскивал, как фокусник, из рукава купленную в распределителе шелковую блузку, флакон духов, хватал Машу в охапку, кружил по комнате, зажимал ей рот губами.
И сейчас, чтобы прекратить разговор о бедном Мае, о Финской войне, он обнял ее, стал целовать.
– Пожалуйста, не ври мне, – попросила Маша, увернувшись от его губ, – не можешь ответить – так и скажи: не знаю, или просто промолчи, только не повторяй передовицы «Правды».
– Хорошо, я попробую. – Илья взял ее под руку, они пошли дальше по набережной.
Слева, за Москвой-рекой, высилась гигантское мрачное сооружение, жилой дом Советов ЦИК и СНК. Справа был черный провал, мертвая зона, огороженная деревянным забором, на заборе масляной краской намалевано: «Строительство Дворца Советов». Маша замедлила шаг, провела варежкой по забору и сказала:
– Я помню, как взрывали. Сначала сбили кресты, ободрали купола, как будто живое существо обглодали до костей, а потом грохот, черный дым.
– Ты же маленькая была.
– Большая, в тридцать первом мне было тринадцать. Мы с Катей иногда после уроков шли гулять от училища, от Неглинки, мимо Большого, через Театральную площадь, через Красную, по Александровскому саду, к Волхонке. Вот послушай:
- Город мой такой большой,
- в нем театр живет Большой,
- есть трамваи и мосты,
- милицейские посты,
- есть домишки и домищи,
- в них умишки и умищи.
- На Волхонке красота:
- храм Спасителя Христа.
Маша иногда сочиняла короткие стишки, не записывала их и никому, кроме Ильи, не читала. Илья пытался запоминать, понимал, что нельзя такое записывать, но сохранить хотелось.
– Хорошее стихотворение, я его раньше не слышал. Ты когда написала?
– Очень давно, лет в десять, пока храм еще стоял. Зачем взорвали? Сколько красоты погубили! Там были скульптуры Клодта, фрески Крамского, Сурикова, Верещагина. Зачем?
– Ладно, поедем домой.
– Поедем… А все-таки интересно, кому помешал Христос Спаситель? Вот вам яма вместо храма…
Пока шли к машине, она шептала что-то в ритме шагов, Илья прислушался и разобрал слова:
- Вот вам яма вместо храма,
- ну-ка, дружно славьте хама,
- жуйте ложь, месите грязь,
- славьте хама, не стыдясь.
Маша охнула, испуганно взглянула на Илью.
– Оно само сложилось, только что, сию минуту, вырвалось нечаянно, я не виновата.
* * *
Вера Игнатьевна Акимова проснулась в десять вечера. После суточного дежурства она возвращалась рано утром, за первую половину дня успевала кое-что сделать по дому, часам к четырем глаза слипались, все валилось из рук, она ложилась, обещала себе, что подремлет совсем недолго, заводила будильник, но, когда он звенел, выключала его на ощупь, не открывая глаз, и спала дальше.
Накинув халат, Вера Игнатьевна заглянула в смежную комнату, там горела настольная лампа, сын, сгорбившись, сидел за столом. Перед ним лежала открытая тетрадь, несколько книг. В круге света было видно, что тетрадь исписана длинными формулами. Четырнадцатилетний Вася в последнее время увлекся физикой, собирал приборы из лампочек, проводков, вязальных спиц и консервных банок, пропадал в кружке «Юный физик», в библиотеке, приносил домой журналы и книги, в которых было формул больше, чем слов, сидел над ними до глубокой ночи.
Вера Игнатьевна подошла к сыну, шлепнула по спине:
– Не горбись. Маша звонила?
– Мг-м.
Спину он выпрямил, но не обернулся, стал быстро писать что-то в тетради.
– Как она выступила?
– Нормально.
– Ты с ней говорил или папа? Кстати, где он?
Обычно, когда Вася углублялся в свою физику, Вера Игнатьевна старалась не беспокоить его, ограничивалась одним-двумя вопросами, и короткое мычание в ответ ее не обижало. Но сегодня был вовсе не обычный вечер. Маша, старшая дочь, танцевала в Кремле на банкете перед Сталиным, и Вера Игнатьевна считала, что ради этого можно отвлечься от формул на пару минут.
Вася так не считал, он ответил только на последний вопрос:
– Папа у Карла Рихардовича, – послюнявил чернильный карандаш и продолжил писать.
Вера Игнатьевна хотела сказать ему: «Вася, так нельзя, твоя сестра танцевала перед Сталиным в день его рождения, а тебе все равно, тебя совершенно ничего не волнует, кроме приборов и формул, ты становишься холодным эгоистом». Но она решила, что скажет это в другой раз, и, завязав потуже поясок халата, сунув ноги в тапочки, отправилась через коридор, в комнату соседа.
– Ну что, Петя, как? Ты говорил с ней? – спросила она, едва переступив порог, и, спохватившись, добавила: – Добрый вечер, Карл Рихардович.
Муж и сосед сидели за маленьким журнальным столом и, судя по выражению их лиц, были настолько увлечены беседой, что не поняли ее вопроса.
– Вера Игнатьевна, заходите, присаживайтесь. Налить вам чаю? – любезно предложил сосед.
– Веруша, ты проснулась. – Муж растянул губы в дурацкой улыбке.
– Нет, Петя, я еще сплю. – Вера Игнатьевна нахмурилась.
– Я все-таки налью вам чаю, – сказал сосед.
– Спасибо, не нужно, я на минуту, я только хочу узнать: Маша звонила?
Оба одновременно взглянули на часы и ответили хором:
– Нет.
От обиды у Веры Игнатьевны задрожали губы. Получалось, что Вася промычал свое «мг-м» и «нормально» просто так, лишь бы она отстала. А Петя, кажется, вообще забыл, какой сегодня день.
– Веруша, ну что ты? – Муж поднялся, подошел, обнял ее. – Можно подумать, у Мани первый в жизни сольный выход. Партию Жанны она танцевала сто раз, это всего лишь сцена…
– Всего лишь! – Вера Игнатьевна передернула плечами, скидывая его руку. – А нервное напряжение? Они сидят не в правительственной ложе, а в зале, прямо перед ними танцевать, совсем близко… Малейшая ошибочка, неправильное выражение лица… Господи, подумать жутко! Да одно то, что она танцует вместо его любимой Лепешинской, может вызвать раздражение!
– Веруша, сидят они за банкетным столом, едят, пьют, разговаривают, на сцену почти не смотрят. Ну, помнишь, Володя Нестеров рассказывал, он был в Георгиевском зале в декабре тридцать шестого как передовик-рационализатор…
– Петя! – жалобно вскрикнула Вера Игнатьевна. – Что ты говоришь? Володю взяли через три месяца после того банкета!
– Вера, у тебя спросонья каша в голове, после не значит вследствие, то есть, я хочу сказать, Володю взяли не потому, что он был на банкете…
– А почему?!
– Ладно, прости, я не прав, действительно, не стоило сейчас вспоминать Володю, но я хочу сказать… – Петр Николаевич совсем запутался и растерялся.
– Особенная любовь к Лепешинской, возможно, миф, – осторожно заметил Карл Рихардович, – Маша танцует лучше…
Он не успел договорить, зазвонил телефон. Вера Игнатьевна помчалась в коридор и услышала спокойный голос зятя:
– Все хорошо, она сразу уснула, очень устала, танцевала великолепно.
– Ты видел?
– Нет.
– Разве ты не был в зале?
– Нет.
– Почему?
Последовала короткая пауза, Илья кашлянул и продолжил так, словно не услышал вопроса:
– Вера Игнатьевна, не волнуйтесь, завтра после спектакля Маша зайдет и все вам подробно расскажет.
– Завтра я дежурю.
– Тогда послезавтра. Она позвонит вам в любом случае.
Вера Игнатьевна пожелала зятю спокойной ночи, заглянула к соседу, сказала, что все в порядке, вернулась к себе, улеглась на диван, раскрыла на заложенной странице свежий номер журнала «Хирургия», но строчки прыгали перед глазами. В голове крутился разговор, и, как заноза, цеплял собственный идиотский вопрос: «Почему?» Неслучайно Илья оставил его без ответа, и сразу изменилась интонация.
«Ерунда, я просто перенервничала, это вполне естественно, к тому же я очень скучаю по Манечке, давно ее не видела. А без нее в этом доме и поговорить не с кем… Ладно, пора привыкнуть. Девочка выросла, вышла замуж за умного, доброго, надежного человека, по большой взаимной любви. Отдельная квартира, всем обеспечены… У него должность…»
На слове «должность» внутренний монолог оборвался. Это была болевая точка. Мысль о том, где служит ее зять, прошибала током, пульс частил, руки дрожали, и каждый разговор с Ильей или с Машей по телефону вызывал рефлекторный ужас, как у лабораторного животного.
Телефон в квартире на Грановского прослушивался, вся их жизнь прослушивалась, прощупывалась, просвечивалась рентгеном. Ей часто снился один и тот же кошмар: Маша мечется в прозрачной клетке, а вокруг, за стеклами, темные тени, смотрят, тянут ледяные пальцы.
Вера Игнатьевна работала хирургом в кремлевской больнице, отлично знала, что такое высокая должность и близость к власти.
«Есть вещи, о которых думать нельзя». Она повторяла эту фразу про себя и вслух. Заклинание помогало, но не всегда.
В смежной комнате за перегородкой грохнул стул. Фанерная дверь открылась. Вася, как всегда, забыв тапки под столом, почесывая сморщенный нос и бормоча что-то, подошел к буфету, взял из вазочки горсть карамели, хотел вернуться к себе, но Вера Игнатьевна окликнула его:
– Посиди со мной, пожалуйста.
Он развернул конфету, кинул в рот, промычал свое «мг-м», но все-таки присел на диван. Вера Игнатьевна обняла его, уткнулась лицом ему в спину.
– Мам, ты чего?