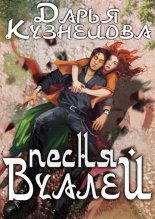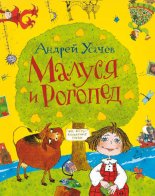Сестрины колокола Миттинг Ларс

Lars Mytting
SШSTERKLOKKENE
© 2018 Lars Mytting
Originally published in Norwegian by Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo
Published by agreement with agentur literatur gudrun hebel, Berlin
© Ливанова А., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2023
Повесть первая. Внутренние территории
Две девочки в одной коже
Роды оказались трудными. Может, самыми трудными на свете, и это в селе, где роженицам и всегда-то приходилось несладко. Живот был большой, но о том, что мать носила двойню, догадались только на третий день с начала схваток. Как прошло разрешение от бремени, как долго меж бревенчатых стен отдавались эхом крики и каким образом суетившимся вокруг женщинам удалось извлечь детей – все это забылось. Такое и рассказывать неприятно, и вспоминать жутко. Мать порвалась и истекла кровью, и предание не сохранило ее имени. Зато навсегда запомнился изъян у близнецов: с одного бока они срослись от бедер до ступней.
Но и все. А так – дышали, кричали, и с головой у них было все в порядке.
Родители их были с хутора Хекне, так что девочек окрестили Халфрид и Гунхильд Хекне. Росли они дружными, много смеялись – словом, одна радость, а не огорчения. Радость отцу, братьям и сестрам, односельчанам. Сестер Хекне сызмальства научили ткать, и они просиживали у станка дни напролет. Четыре ручонки согласно сновали между нитями основы и утка, да так споро, что и не уследишь, чья рука продела пряжу в нужное место на полотне. Узоры у них выходили удивительно красивыми, часто загадочными, и работы их выменивали за серебро или домашний скот. В те времена и не думали как-то помечать рукоделие, так что позже многие готовы были дорого платить за хекнеское ткачество, даже не будучи уверенными, что это не подделка. На самом известном полотне сестер Хекне изображена была Скреженощь – так местные жители представляли себе Судный день, унаследовав от предков и переиначив Рагнарок, древние северные пророчества о гибели богов. Мол, море огня превратит ночь в день, и на рассвете, когда все сгорит дотла и снова воцарится тьма, живые и мертвые вереницей потянутся по оголенной, ободранной до скального основания земле на суд. Полотно отдали в церковь, где оно и висело на памяти нескольких поколений, пока не пропало как-то ночью при запертых дверях.
Сестры редко покидали хутор, хотя передвигаться им было совсем не так трудно, как можно было подумать. Они ходили как бы на три счета, будто вместе несли ведро, до краев наполненное водой. Чего им не удавалось преодолеть, так это подъема на пути к дому. Хекне стоял на крутой горе, и зимняя гололедица была для сестер смертельно опасна. Но хутор располагался на солнечной стороне, земля рано появлялась из-под снега, часто уже в марте, и сестры выходили во двор в одно время с весенним солнышком.
Хутор Хекне отстроили в этих краях одним из первых, а потому он оказался и одним из лучших. Семье принадлежали два летних пастбища в горах, а на Большом выпасе пощипывало сочную травку стадо упитанных коров. От хутора было всего ничего ходу до богатого рыбой озера Нижнего ущелья, где стоял лодочный сарай, сложенный из девятидюймовых бревен. Но истинной мерой зажиточности было в Гудбрандсдале серебро. Это был своеобразный банковский счет крестьянина, его наглядный и подручный резерв. Хутор и зваться хутором был недостоин, если у владельцев не было серебряных приборов на восемнадцать персон. Торговля же ткаными коврами принесла Хекне серебра на тридцать комплектов.
Когда близняшки из Хекне стали подрастать, одна из них заболела. Мысль о том, чем это может кончиться – что выжившая будет таскать на себе тело сестры, – была нестерпима их отцу, Эйрику Хекне, и он отправился в церковь молить о ниспослании им смерти одновременно.
Его услышал пастор, и, вероятно, Бог тоже. Смерть пришла к девочкам в один и тот же день, и, предчувствуя кончину, они потребовали оставить их наедине. Отец и остальные дети ждали за дверью. Им слышно было, что девочки обсуждают, как лучше завершить какое-то важное дело. В этот день они закончили ткать Скреженощь. Начинали они эту работу вместе, и Гунхильд собиралась все доделать, когда Халфрид умрет и от ее рук помощи уже не будет. Отец не беспокоил их во время работы, потому как сестер окутывала аура некой значительности, коей ни ему, ни другим, жившим вровень с камнями и водой, было не дано понять. Ближе к ночи из-за двери послышался кашель, а потом стук упавшего на пол бёрдо.
Хуторяне вошли в светелку и увидели, что Гунхильд вот-вот умрет. Сама она, похоже, их не заметила; прижалась лицом к сестре и сказала:
– Ты снуешь широко, я сную близенько; когда коврик соткан удет, обе мы вернемся в люди.
Затем притянула руки Халфрид к себе, зажав ее пальцы в своих, приникла к сестре, и так они и лежали со сплетенными пальцами подобно тому, как сплетаются голоса в единой молитве.
Новые поколения расходились во мнении о том, что имела в виду Гунхильд. Ее слова, прозвучавшие на диалекте, толковали по-разному. Сновать – значит и продевать пряжу в основу, и быстро двигаться. Когда их рукоделие отнесли в церковь, пастор записал последние слова Гунхильд с оборотной стороны рамы, на которой закрепили ткань. Но письменный язык не мог объять широты диалекта, и фраза получилась какой-то убогой: ты пойдешь далеко, я пойду рядом, и когда мы доткем ткань, обе вернемся назад.
Похоронили девочек под полом в церкви, и в благодарность за то, что им даровано было умереть вместе, Эйрик Хекне заказал отлить два колокола для церкви. Их стали называть Сестриными колоколами, и звук у них был бесподобно мощный и глубокий. Звон разносился далеко от деревянной церкви, заполняя всю долину, двигался ввысь по горам и отражался от крутых уступов. Когда озеро Лёснес, рядом с которым стояла церковь, сковывало льдом, колокола слышно было в трех ближайших селах – они звучали как слабый перезвон с колоколами их собственных церквей, а некоторые утверждали, что иногда ветер доносил раскаты колокольного звона и до горных пастбищ.
Первый звонарь оглох, отзвонив три службы. Пришлось сколотить помост в самом низу колокольни, там он и становился, залепив уши пчелиным воском и замотав голову и уши полоской кожи.
В звуках Сестриных колоколов не было ничего мрачного или пугающего. Каждый удар исходил из самой сердцевины обещанием несущей лучшую жизнь весны и долго раскатывался мелодичными перезвонами. Эти звуки проникали глубоко в сердце, навевая светлые образы, задевая потаенные струны огрубевших душ. В руках умелого звонаря колокола обращали сомневающихся в примерных прихожан. Объясняли же могущество звона Сестриных колоколов тем, что отлиты они из звонкого металла. В те времена этими словами обозначали серебро, которое по дорого обходившемуся обычаю бросали в расплавленный для отливки колоколов металл. Чем больше серебра, тем красивее звон.
Хитроумные литейные формы, да и вся бронза, уже стоили Эйрику Хекне целого состояния; он отдал за них больше, чем его дочери выручили за свои тканые картины. В беспамятстве горя он подошел к литейному чану и бросил туда все серебряные приборы, а потом, опустошив карманы, швырнул в кипящий сплав две пригоршни серебряных далеров, и они удивительно долго расплывались по поверхности литья, пока не ушли на дно, расплавившись, а на их месте показались пузыри.
Впервые о том, что Сестрины колокола предвещают беду, заговорили во время постигшего долину гигантского паводка. Снег стаял внезапно и угрожающе, по-летнему черное небо давило и мучило головной болью, и в ночь, когда река вышла из берегов, сельчан разбудил звон церковных колоколов. Зарядил дождь, и хуторяне едва успели покинуть свои дома до того, как их унесло водой. Кряжистые рубленые строения переворачивало вверх тормашками, бушующий поток швырял как прутики бревна из срубов. По озеру Лёснес плыли тяжелые белые комы, глубоко сидевшие в воде, – овцы. Только потом, когда люди прямо под дождем принялись пересчитывать друг друга и всю семью звонаря тоже посчитали, выяснилось, что звонарь к церкви даже не приближался. Пастор пошел проверить, что там такое, и оказалось, что дверь в церковь все время оставалась запертой.
Эйрика к тому времени давно не было в живых. Никому не ведомо, пожалел ли он когда-нибудь о том, что расплавил серебро, но так много этого добра ушло на Сестрины колокола, что хутор не раз оказывался на грани продажи за долги. Была бы возможность разделить Хекне на Верхний и Ближний хутора, так бы и поступили, но участки тогда оказались бы слишком маленькими, к тому же один из них располагался на слишком крутом склоне. В последующие годы два мелких хозяйства в Нижнем ущелье, сдававшиеся в аренду, и Большой выпас забрал в казну судебный пристав, так что за расточительность Эйрика Хекне заплатили его потомки. Кое-что семье все же удалось сохранить; у наследников подрастали свои наследники, и у каждого было собственное мнение об основателе рода. Мало кто считал церковные колокола лучшим вложением серебра: уж лучше бы оно пошло на нужды полей и скотных дворов. Как бы то ни было, эта история служила напоминанием о том, что тяжелый труд сносить легче, чем горе. Каждое воскресенье до хутора доносился утоляющий печали звон колоколов, которые Эйрик по праву называл Дочерними; это название умерло вместе с ним.
Деревянная церковь
Сестрины колокола исправно звенели над селом. Они звонили для живых, для умирающих и умерших, оповещали о венчаниях, крестинах и конфирмациях, о рождественской службе, а когда и о лесном пожаре, наводнении или оползне. В селе редко появлялись новые жители, редко кто покидал его; уехавшие никогда не возвращались, и, будучи детьми, многие думали, что все церковные колокола звучат так же, как Сестрины; так люди, живущие с видом на величественный пейзаж, не замечают в нем ничего особенного.
Колокола висели себе на колокольне, пока в 1880 году вместе со всем селом не были по произволу амбиций ввергнуты в водоворот резких перемен. Одному из колоколов суждено было оказаться под водой, а потом быть поднятым из нее, и оказалось, что единственным человеком, сумевшим повлиять на судьбу колоколов, была юная девушка из рода Хекне. Принесенная ею жертва была не меньшей, чем жертва родителей сестер Хекне, но она принесла ее втайне, и долгое время только один человек помнил о ее поступке. Ведь чтобы сохранить о ней память, требовалось понять, что ею двигало, а для этого нужно было знать предысторию деревянной церкви, прихожанкой которой была девушка, и самого села.
Жители Хекне ходили на службы в церковь села Бутанген, расположенного в узкой пади между Фовангом и Треттеном. В те времена село состояло примерно из сорока хуторов и насчитывало около тысячи душ вместе с арендаторами. Название села истолковывали каким-то запутанным образом, но рассказывать об этом доводилось нечасто, поскольку до этих краев добирались немногие. Между ведущей дальше в горы грунтовой дорогой и селом располагалось узкое, но длинное и глубокое озеро Лёснес с крутыми скалистыми берегами, поросшими лесом. Бутанген, то есть «жилая коса», получил такое название, поскольку являлся единственным местом на озере, где берег был достаточно ровным, чтобы можно было хоть что-нибудь построить. Постоянно здесь никто не жил, но раз уж тут располагался сарай для лодок и пристани и оттуда же зимой осуществлялись перевозки по льду, то и все село назвали так же. Саму церковь возвели выше по склону, отчасти ради того, чтобы ее было видно издали, но еще и потому, что после несчастья в Фованге люди знали, каких дел сильный паводок может натворить с церковным кладбищем.
Крестьянские семьи крепко держались за те клочки земли на склонах долины, которые их предки объявили своими. Некоторые хутора стояли на таких крутых и каменистых откосах, что за три поколения члены семьи едва успевали расчистить три небольших участка под посадки. Зато каменные изгороди возводили настолько высокими, что в Бутангене волкам не досталось ни единой овечки.
Изменения происходили исподволь. Село лет на двадцать отставало от соседних, которые, в свою очередь, лет на тридцать отставали от городских поселков Норвегии, отставшей от остальной Европы еще на пятьдесят. Одной из причин была почти непроходимая местность. Любознательным, если таковые объявлялись, требовалось выбрать тот берег реки Лауген, вдоль которого шел путь на север, а добравшись до фовангской церкви, если им удавалось ее найти и если у них еще не пропадало желание увидеть Бутанген, нужно было подняться по склону долины и двинуться по тропинке на дне расселины до хутора Уксхоль. Дальше тропинка шла по каменной осыпи и была практически невидима глазу. Большинство забирали там влево и оказывались в долине Уксхольдал, где никакого жилья не было. Только если свернешь вправо в определенном месте, перед тобой откроется вид на Бутанген, с церковью на склоне и лежащими окрест хуторами. Но прежде глаз путников обозревал глубокое-преглубокое озеро Лёснес и коварные Лёснесские болота. На этом месте почти все поворачивали назад, а немногочисленные смельчаки сдавались позже, не отыскав тропы и оказавшись ближе к ночи по колено в трясине и настолько облепленными комарьем, что кожа походила на шерсть.
Единицам удалось обогнуть озеро Лёснес или посчастливилось встретить расставляющего снасти неразговорчивого сельчанина и уговорить его перевезти их на лодке. Добравшиеся до места или женились, или погибали от ножа. Но это, конечно, преувеличение: на самом деле жилось в Бутангене хорошо. В речку Брейю, проточившую эту долину, впадало множество ручейков, снабжавших хутора водой. Река и все ее бесконечные разветвляющиеся рукава, протекающие между солнечными, покрытыми пышной растительностью или скрытыми в таинственной тени берегами, сообщали местности какую-то неброскую прелесть. За последней резкой излучиной река мощным потоком вливалась в озеро Лёснес. Пусть склоны этой небольшой долины и были круты и недоступны, зато они защищали ее жителей от ветра и при этом не застили солнца. Если же ехать по ней дальше, можно пообщаться с жителями Бреккома и Имсдала, чаще всего кивнув им издали или приветственно помахав рукой.
К тому же отсюда легко и быстро добираться куда потребуется зимой. Когда озеро Лёснес сковывало льдом, по замерзшей реке и болотам можно катить вниз, к Фовангу. Жизнь сельчан шла в такт с полугодиями. Зимой ездили в гости, договаривались о свадьбах, заготавливали лемехи и порох. Кого-то тянуло в дальние края, но побывавшие в этих дальних краях сказывали, что и там у людей схожие заботы, только, может, справляются с ними чуть иначе, а ради этого стоит ли уезжать. Как ни крути, везде надо вкалывать, а вкалывать можно и дома, где помогут родные и знакомые.
Так уж повелось в этих местах, что чужакам не доводилось влить свои легковесные гены в скрытный характер жителей Гудбрандсдала. Здесь не то что у побережья, где неспешность натуры разбавляли потерпевшие крушение моряки из Средиземноморья. В принявших их портах они на прощание оставляли в животах девчонок подарки – подарки, покидавшие эти животы в образе резвых детишек с угольно-черными волосами. Жители долины продолжали вести скрытую за каменными изгородями жизнь в неспешном ритме смены времен года. Каждый хутор обеспечивал собственные потребности, как отдельное государство, а склоны долины служили неприступной преградой, защищавшей от внешнего мира. Надежный барьер из строевых сосен укреплял веру в то, что лучше по старинке собирать мох, пока не упадешь замертво, чем менять что-то в своей жизни. Им было нипочем ходить по горам, преодолевая распутицу в дождь и слякоть; им нравилось разгребать снег, потому что это много легче, чем копать землю. Богатые хозяева не мешались с мелкой сошкой: в роду поколение за поколением держались за свой хутор. Время не играло никакой роли: начатую умершим членом семьи работу продолжали живые, зная, что потом за нее возьмется кто-нибудь из еще не рожденных. Насыпи из камней, которые начали складывать далекие предки, росли все выше, и потомки использовали те же приемы работы, а то и ту же тачку. Все это выкристаллизовалось в особую манеру говорить, держаться и даже воспринимать и чувствовать.
Во времена христианизации Норвегии жители Бутангена возвели из ядровой сосны изумительное творение – искусно отделанную замысловатой резьбой деревянную церковь с головами драконов и высоко вознесшимися шпилями. Еды хватало, о времени никто и не думал, так что кропотливой работе по дереву и камню посвящали месяцы и годы. Церковь была достроена в правление Магнуса V, и на лежене вырезали год: 1170. Угловые сваи и вертикальные стойки вырубали из гигантских сосен, которые росли тогда в Гудбрандсдале, и по норвежскому обычаю того времени церковь Бутангена богато украсили изображениями сцен из древних языческих сказаний. Получилось нечто вроде замаскированной под христианство обители вождя времен викингов. Резчики по дереву трудились лето за летом, украшая церковь морскими драконами и другими привычными для древней Скандинавии орнаментами. Наружная стена паперти во всю высоту была декорирована фигурами длинношеих львов, а вокруг полотна входной двери обвился громадный резной змей. По обеим сторонам алтаря стояли деревянные колонны с изображением бородатых ликов древних богов с широко распахнутыми глазами без зрачков. Все это было призвано служить защитой от злых сил, с которыми норвежцы сражались на протяжении столетий. Столяры старались ублажить всех богов сразу на тот случай, если Один и Тор все еще не утратили могущества.
В последующие столетия церковь не перестроили и не разорили. Как нрав селян избежал влияния чужеродцев, так и спрятанное в глуши средневековое строение спаслось от новомодных переделок. Красочный декор не смыли в Реформацию, лишая храмы души; и не наложил свою лапу на церковную утварь пиетизм. Восемь драконов задрали ощеренные пасти к небу, а наружная галерея и внешние стены благоухали смолой и дегтем, которыми их любовно пропитывали столетия напролет.
За пределами села история о церковных колоколах и сестрах Хекне была мало известна. Как-то в начале XIX века в село занесло художника, рисовавшего церковь, но этим он и ограничился. Зато сразу после этого другой человек, не входивший в число спутников художника, с какими-то тайными, по-видимому, намерениями расспрашивал да разузнавал про историю Сестриных колоколов, но и о нем потом больше ничего не было слышно, и вскоре народ засомневался, был ли такой человек вообще. К тому времени деньги на содержание церкви присылать давно прекратили. Приходилось довольствоваться тем, что удавалось наскрести прихожанам, так что по состоянию храмов можно было судить, хорошие ли или тяжелые стоят времена. В этот век долина Гудбрандсдал обнищала, истощенная перенаселением, наводнениями, сухой гнилью, пьянством и вымерзанием посевов. Рамы стеклянных оконцев, отбрасывавших красивый отсвет на церковные скамьи, расшатались, во время службы в них проникал северный ветер. Дранка крыши расползлась, в неразличимые глазом щелки просачивалась дождевая вода. Погода не могла совладать только с церковными колоколами. Вокруг же царила разруха. Вода находила все новые пути внутрь, в сложные конструкции каркаса, в которых мало кто разбирался; из-за трещин, возникавших от лопающегося на морозе льда, стены так рассохлись, что в щели задувал снег. За несколько десятилетий порывы ветра и ливневые шквалы обломали драконам головы: одна за другой они упали на землю и бессильно раскатились между могилами. Да и сама церковь как-то осела без этих драконов, словно в мрачном ожидании беспросветного будущего.
Серебряный звон
Начало этой истории возвестили Сестрины колокола, призывая на службу в первый день нового, 1880 года. Их звон долетел до конюшни в Хекне и вызвал перепалку между двумя из восьми отпрысков семейства.
– Освальд, – сказала Астрид, – подвез бы ты нас!
Брат отвечал, что поздновато она спохватилась.
– Что ты вредничаешь? – не отступала она. – Хватит пререкаться, запрягай сани!
Освальд протянул руку и показал порванную супонь и шлею без застежки:
– Я б и подвез, чего там, кабы Эморт вчерась признался, что попортил сбрую.
– Чать не последняя шлея-то. Поехали!
Из конюшни слышалось фырканье Блистера, лошади долинной породы, на которой они ездили в церковь охотнее всего. Астрид отряхнула солому с нарядной юбки. Освальд пробурчал что-то себе под нос.
– Что ты там зудишь? – сказала она. – Без конца долдонишь про все, чего нам не хватает, чтобы «заново встать на ноги», а сам даже сани запрячь не могёшь!
– Дак рваное все, чё я сделаю-то.
– Ну и ладно, я и пёхом дойду! – сказала Астрид, развернувшись к калитке. – И Клару с собой возьму.
Освальд бросил сбрую на пол.
– Я и пёхом дойду, – повторила Астрид. – А тебе перед отцом отвечать придется. Это ж о нем языком чесать будут, если я на службу не на лошади приеду.
Она заспешила вон. Под ногами поскрипывал снег, Астрид поплотнее обмоталась платком. Едва отворив утром дверь, она поняла, что на дворе не просто холод, а лютая стужа. Крепкие морозы – дело обычное под Новый год. Ветер бил ей в лицо наотмашь словно хворостиной, разреженный воздух больно резал легкие. На самом деле она страшилась идти в церковь: на рождественской заутрене она замерзла там так, что пальцы ног как огнем горели дня три-четыре после этого. Но идти придется из-за того, что древняя старуха Клара Миттинг, приживалка, жаждала послушать службу, но одна, без поддержки, не дошла бы по скользкой дороге.
Между рублеными домами продолжал разноситься мощный звон Сестриных колоколов. Первая серия ударов напоминала прихожанам, что от Хекне до церкви недалеко, но церковка маленькая, припозднившимся трудно будет найти свободное место. Вообще-то у Астрид как старшей дочери на большом хуторе Хекне не было необходимости тащиться по морозу, чтобы помочь такой, как Клара. Но в церковь ходят не только ради псалмов и молитв, бывают и другие причины, и тогда, может статься, лучше сидеть в первых рядах.
Быстро пройдя мимо амбара, она двинулась по расчищенной от снега узенькой тропке к скотному двору, где вместе с коровами жила Клара и кое-кто из работников. Снегу той зимой намело горы, и она услышала, как на сеновале дерутся хуторские коты. Им ведь теперь, когда их владения засыпаны снегом, только и остается пробираться у самых стен. Коты скучали и досаждали друг другу.
Колокола на время замолчали. Еще будучи маленькой, Астрид заметила, что, когда снега выпадет очень много, колокола звучат иначе. Меньше отзвуков давали сельские домишки, приглушеннее звучало эхо, отражавшееся от горных склонов и поверхности озера Лёснес; Астрид словно тянуло ближе к колоколам, прямо в трепещущую сердцевину серебряного звона. Она хорошо знала историю о риксдалерах, брошенных в плавильный чан и подтолкнувших хутор на грань разорения, из-за чего теперь ее отец и братья с досадой поглядывали на лодочные сараи по берегам Нижнего ущелья, отправляясь в долину Имсдал, где рыбачить было вольготнее, но куда путь занимал целый день, а улов никогда не бывал таким богатым, как в ущелье. Двадцатилетняя Астрид была одной из немногих в роду, кто гордился безумным бескорыстием своего предка, но не в ее характере было топтаться на кладбище, беседуя с мертвыми. Думами она всегда уносилась далеко, мысли будто бежали вперед, не успевала она еще их уловить. Бабушка Астрид была против того, чтобы та ходила в воскресную школу, потому что полученные там знания только разожгли бы у нее тягу к новым знаниям, а всем известно, что молодой сельской девушке такая тяга совсем ни к чему.
Никто не мог тягаться с Астрид Хекне, когда она девочкой сновала повсюду и совала нос во все дела, расспрашивала, почему что-то делается так, а не иначе. Перелезет, бывало, через ограду и несется прочь так, что только камешки летят из-под ног, – возмутительная, дурная манера, – а она бежит себе, лишь кусочки мха разлетаются в стороны; бежит туда, где заканчивается полоса возделанной земли и за оградой берег резко спускается прямо к реке. Оттуда видать уже озеро Лёснес, а сквозь расселину в скалах можно, приглядевшись, угадать очертания Фованга и Лосны.
Ей нравилось смотреть в сторону Лосны, ведь она знала, что по пути туда увидишь. В те годы оттуда нет-нет да и поднимется облачко пара и угольной пыли – результат непомерных усилий трудяг, укладывавших на участке, ведущем в недоступную даль, аршин за аршином узкие рельсы, не шире ее руки ниже локтя. Люди говаривали, что железная дорога тянется до самой Кристиании и оттуда в Швецию, а потом еще дальше на юг.
Когда Астрид была маленькой, ей казалось непостижимым, что существуют в мире тягловые животные, которым не требуется к вечеру отдохнуть. Она пыталась представить, будто едет на этом поезде, и не могла избавиться от мысли, что настоящая жизнь проходит где-то в другом месте; что каждый день, проведенный здесь, только оттягивает начало этой жизни. Но где такое место, она не знала; эти мечты были всего лишь лестницей, ведущей вверх и заканчивающейся в пустоте. Мысли день ото дня летали в разных направлениях; единственное, что она точно знала, – это что она ищет что-то, а здесь, в их селе, этого не найти. Каждый день, клонящийся к вечеру, знаменовал для нее крушение надежд, ведь ничего нового никогда не происходило. Перед сном в ее душе появлялся еще один грамм горя, и она знала, что накопившиеся за годы граммы сделают ее такой же, как и других девушек, неповоротливой и рано состарившейся.
Повзрослев, Астрид отказала двум завидным женихам, одному из Нордрума, другому из Нижнего Лёснеса. Теперь уж к ней давно никто не сватался, что люди объясняли ее непоседливостью и острым языком. Эти качества были малопривлекательными для неженатых парней с ближайших хуторов, типичных гудбрандсдальцев – высоких, выносливых трудяг, которые лучше промолчат, чем промолвят слово. Да и внешность у нее была необычной. Хотя нужно быть совсем уж уродиной, чтобы в этих местах остаться в девках, – в жены здесь предпочитали брать плотных бабенок с широким задом и сильной спиной, желательно пышногрудых. Астрид же была длинноногая и голенастая, с четко вылепленным лицом и темными курчавыми волосами; где-то еще ее назвали бы хорошенькой. Глядишь, нашелся бы мужичок, что счел бы ее красивой и оценил необычный изгиб бровей, манеру вздергивать подбородок, быстро золотящуюся на солнце кожу. Но после двух отказов общее мнение о старшей девке Хекне сводилось к тому, что она непокорна и своевольна, а всем известно, что жениться надо на привычных к любой работе девушках, которые без лишних слов наточат косу, не пикнув, нарожают детишек и, не успеет после родов остыть послед, прямиком пойдут на скотный двор.
Помогая Кларе выйти со скотного двора, Астрид обратила внимание на то, что старая одета лучше обычного: одолжила у кого-то башмаки и юбку. Укутанные в сермяжный полушалок и платок, они двинулись навстречу северному ветру. То и дело их обгоняли конные сани, но Астрид смотрела прямо перед собой. Клара, казалось, не замечала холода; без устали ковыляя вперед, она поминутно дергала Астрид за рукав и спрашивала – слишком громко, – кто это промчался мимо. Астрид не успевала отвечать. Детей в семьях рожали так много, что не всем хватало места в санях, не поместившиеся семенили следом на своих двоих. Поди разгляди, кто из них кто, когда лицо замотано платком или куском ткани, а нос и брови заиндевели. До церкви еще идти и идти, а мочки ушей уже сильно покалывало, и Астрид уже страшилась того, как больно будет, когда по возвращении домой обмороженная кожа начнет отходить.
Из обрывков разговоров Астрид уловила, что температура теперь градусов сорок ниже нуля. У них дома градусника не было; старый лопнул, когда они забыли на ночь занести его в дом. И она понимала, что, значит, в ту ночь было холоднее минус тридцати девяти, поскольку ртуть замерзает при этой температуре.
От холода им было не спрятаться. Хотя издали Хекне выглядел вполне достойно, жизнь хутора определялась временем года. Амбар огроменный, но редко полон запасов еды. Годный на дрова лес сильно повырублен, и зимой они могли позволить себе отапливать только один этаж. Темнело рано, и каждый вечер семья сидела, сгрудившись перед очагом, где было тепло и светло. Мужики строгали мелкие инструменты и кухонную утварь, время от времени поднимаясь, чтобы подмести стружку и бросить ее в мгновенно вспыхивающий огонь. Малыши шумно ссорились из-за шкур, в которые они кутались, толкаясь, пихаясь, кашляя и передавая друг другу всякую летучую заразу. Астрид больше всего страдала из-за того, что деться было некуда. Ее ругали, если она порывалась уйти, прихватив с собой сальную свечу: нечего расходовать такой дорогой товар на себя одну. С приходом зимы на село опускалась кромешная тьма, в которой мерещились всяческие ужасы и привидения. Поэтому Астрид ежевечерне сидела у огня в колышущейся массе людей, в окружении тихо подпукивающих младших братишек и сестренок, слушая бесконечно повторяющиеся рассказы стариков, тихое пение престарелой тетушки и трогие окрики матери, призывающей прекратить наконец возню.
Нет, часто думалось ей, хуже всего, что нет простора. И света нет.
Снова зазвонили колокола – напомнить людям, что пора поторопиться. Мощный звон поднимался над снежными сугробами, миновав их, разносился до самых гор, возвращаясь эхом, сплетавшимся с новыми ударами.
– Да, вот старый звонарь, тот был хороший, – пробормотала Клара, когда снова стало тихо и они могли расслышать друг друга.
– Хороший, говоришь? А чё в нем такого хорошего было?
– А он людям святой налет раздавал. Ага, правда. Испросит, бывало, у колокольного духа позволения, соскребет налету да и раздаст болезным.
Клара была родом с хутора Миттинг, еще более захудалого, чем Хекне, и ее с младшей сестрой пристроили в приживалки. Была она совсем уж лядащая, не помнила даже, в каком году родилась, но ясно, что глубокая старуха, ведь даже сестра ее дожила до шестидесяти двух. Всю свою жизнь была Клара доброй и тщедушной малоежкой, от которой в хозяйстве толку мало: ходила по воду да сидела в уголке, вязала, коли прострел не донимал. Еще страдала она малокровием, вечно с голубоватыми кругами округ глаз.
– Не пойму, о чем это ты? – спросила Астрид, поправив на ходу платок. – Как ты сказала-то?
– А вот, святой налет. Ага. Он изнутри на церковных колоколах проступал.
– Так это ж купорос. Вроде ржавчины.
– Ржавчина? Ну нет. В нем такие силы благие. Звонарь, он чашу подставит и соскребает его туда, а потом, когда в чашу на свету-то глянешь, там такое сухое крошево вроде. Добрые силы в этом крошеве, добрые. И могучие. Да уж. В старые времена люди его мешали с жиром. Раны им смазывали. А некоторые так даже и ели. Все одно польза от него была. А ты, Астрид, попроси-ка у нового звонаря, а? Может, поднимется туда да принесет мне святого налету. Чтобы прострел вылечить. Попроси.
– Ну ладно, посмотрим, – сказала Астрид.
– Колокол бьет, вечность грядет, – произнесла Клара.
Астрид поежилась и прекратила расспросы. «Новый звонарь» был звонарем уж лет тридцать, не меньше. По сути, Клара исповедовала ту же самую старую веру, что и дед Астрид, но в голове у нее все смешалось, и не поймешь, то ли ей что-то сей момент втемяшилось, то ли это старинное поверье. Целыми днями она крестилась над молочными бидонами да отначивала кашу для гномов ради того, чтобы задобрить потусторонние силы. Хоть она и была не вполне в себе, обращались с ней хорошо, поскольку многие в Бутангене, и особенно дедушка Астрид, были уверены, что всем людям от рождения даровано способностей поровну, просто проявляются они по-разному и некоторые бывает непросто обнаружить и понять. Дети, которым плохо давалась речь, могли стать непревзойденными музыкантами или резчиками по дереву, слепые умели заговаривать лошадей, а чудаки вроде Клары общались с высшими силами, сердить которые не стоило.
Клара унялась наконец, и они подошли к церкви с ее таким узнаваемым красным шпилем. Стены, обращенные на запад, почернели от смолы, зато стенам, на которые попадало солнце, летний зной придал золотистое сияние. Сверху на эту цветовую гамму лег слой белой изморози, а из отводных труб, выступавших из стен, струился дымок.
«В церкви ли он уже? – спросила себя Астрид. – Так же ли ему холодно, как ей?»
Церковь она изучила хорошо, и того лучше пасторскую усадьбу. Два года она отбыла там служанкой. Один из немногих постов, подобающих старшей дочери со знатного хутора Хекне, хутора, на котором в лучшие времена нашли бы возможность позволить старшей дочери жить в праздности. Два года шитья, мытья и ухода за мебелью. А с прошлой весны все сильнее стало биться сердце за шитьем, мытьем и уходом за мебелью. Пока поздней осенью с ней спешно не рассчитались и не пришлось ей вернуться на хутор Хекне, к сельским трудам.
Теперь же Астрид с Кларой потопали ногами, отряхивая снег, и зашли на паперть, но, когда переступали порог, Клара низко присела и пробормотала что-то о Вратном змее. Астрид, поддерживавшей Клару под локоток, показалось сначала, что та падает, и Астрид пыталась удержать ее.
– А чё ж, ты рази не поклонишься Мидтстрандской невесте? – спросила Клара, ковыляя внутрь со странно подогнутыми коленями.
Оглядев собравшихся, Астрид никого с хутора Мидтстранд не увидела.
– Поднимайся, – прошипела Астрид. – Люди же смотрят!
– К ней с уважением надобно, к Мидтстрандской невесте, – сказала Клара. – Непременно ее привечать. А то осердится на тебя, знаешь.
– Тсс!
– Вратного змея нету, а все едино он тута, – пробормотала Клара.
Астрид тянула Клару за собой. Ей непонятно было, Мидтстрандская невеста и Вратный змей – это одно существо или нет, но спрашивать не хотелось. Клара любила присочинить что-нибудь на ходу, стыдно будет, если она не прекратит бубнить.
Оказалось, что церковь полна.
Постоянного места у хуторян из Хекне больше не было. Пришлось им отказаться от своей скамьи в тот год, когда они затянули с уплатой обувного сбора. Табличку с названием их хутора, прикрепленную к дверце скамьи, закрасили, рядом прикрутили другую. Справа, в мужских рядах, были свободные места, но женщинам следовало садиться слева, а там место оставалось только у самой стены, где всего холоднее. Астрид с извинениями пробиралась туда, волоча за собой Клару; глядя в потолок, люди подбирали ноги под себя.
– Ну ты чё, неужто мне тута сидеть?
– Клара! Давай садись, – тихонько шепнула Астрид, почти не разжимая губ, – ты ж видишь, других свободных мест нет!
– Ну как, а вона впереди-то? – громко сказала Клара, показывая на более удобное место, которое они прозевали; теперь там усаживались две девушки с хутора Ближний Румсос.
Астрид протолкнула Клару к холодной стене, собиралась поменяться с ней местами, но старушка уже устроилась там, бормоча что-то и кивая своим словам.
Заглушая бормотание Клары, зазвонили колокола, и тут ввалилось припозднившееся семейство в восемь душ; в проходе они разделились, и две девчонки нагло уселись с краю, потеснив весь ряд, так что Астрид с Кларой прижали к стенке вплотную. Астрид даже через одежду почувствовала, насколько Клара исхудала, как выпирают кости бедра и плеча.
Люди тряслись от холода, изо рта валил белый пар. Центральный проход едва освещался мерцающими сальными свечами, слышно было только, как тихонько переговаривались прихожане да шуршала сермяга. Только зажиточные сидели более или менее спокойно, завернувшись в меховые полости.
Астрид нравилось в деревянной церкви, но только в теплое время года. Само по себе христианство ее не увлекало, но, когда ей было тепло, она представляла себе, что могли видеть эти стены, отыскивала взглядом не замеченные раньше узоры в резных украшениях и красочном декоре, любовалась всей этой красотой, от которой в общем-то пользы никакой не было; и ей нравилось разбирать написанные замысловатыми закорючками эпитафии.
Дверь на паперть затворили. Церковный служка явно старался раскочегарить высокие чугунные печки-этажерки еще с пяти утра, но стены не держали тепла.
Ну что ж, придется терпеть холод. И холод, и напоминание о несбывшейся мечте, которое вот-вот предстанет перед глазами. Придется терпеть это так же, как придется терпеть остаток жизни. Такая уж ей выпала судьба, что толку жаловаться. По-другому не вышло. Вот и сидит она в этот самый холодный день года в доме, который, должно быть, самый холодный у Бога. Ей бы хотелось надеть что-то потеплее, но такой теплой одежды у нее не было; ей бы хотелось любимого, но она сомневалась, что он ей достанется. И еще ей хотелось лета. Лета в конце концов дождешься, в отличие от любимых и одежды. Вообще-то лето вполне заменит и то, и другое. Жаркое солнце, шелест осиновой листвы; намыться до блеска, вольно бродить босиком где захочется.
Послышались раскаты звона к молебну. Трижды по три удара перед началом богослужения. Старый пастор был датчанин, поэтому звонарь следовал датскому обычаю перед началом службы бить в колокол девять раз. После этого до появления пастора воцарялась тишина.
Но Астрид предчувствовала, что в этой тишине к ней посватается старый знакомый. Прижметсяк ней и проберется под одежду.
Мороз.
Ага, вот он, невидимый, жестокосердный, как стальное лезвие. Она пробовала съежиться, чтобы кожа не касалась одежды, но из щелей в полу тянуло холодом, пробиравшим до колен, до коченеющих пальцев рук и ног.
Астрид знала, что ее ожидает. Холодина, проникающий сквозь кожу и мышцы, до самого мозга костей. Да что там, промерзает и сам этот мозг, похожий на тот, что они высасывали из вареных овечьих костей после забоя. И стоит холоду там обосноваться, так и засядет во всех косточках; они одеревенеют намертво, потом несколько дней будет не разогнуться.
Вот и он идет наконец. Не идет, а является из потайной каморки и ступает мимо алтаря. Выжидающе. Словно с самого рассвета был в церкви. Облачение, Библия и внимательный взгляд.
Кай Швейгорд.
Он откашлялся и начал богослужение. Астрид почти сразу заметила, что сегодня у него на сердце особенно неспокойно. Вообще же единственным недостатком, который можно вменить новому пастору, как его наверняка будут называть еще долгие годы, были нескончаемые обедни. Говорил Швейгорд четко и ясно, употребляя высокопарные обороты. При нем службы пошли совсем иначе, чем при прежнем пасторе, чьи проповеди нагоняли сон. Тот старозаветный сухарь, так и не отделавшийся от неразборчивого датского выговора, в проповедях талдычил исключительно о долге христианина и карах, что ожидают верующих недостаточно истово.
Нет, Каю Швейгорду задора было не занимать, задор бил ключом, как рождественское пиво из бутылки. На солнце его лицо быстро загорало, а он любил и рукава рубашки закатать, так что руки тоже легонько бронзовели; он ежедневно брился опасной бритвой, двигался легко и стремительно, мысли выражал понятно и четко, а когда приходилось крестить беспокойных детишек, не боялся, что его забрызжет вода из купели. Он держался иначе, чем другие священники, но не возникало никакого сомнения в том, что он пастор. В соответствии с саном он возглавлял комитет вспомоществования бедным и не гнушался навещать самых неимущих сельчан, а такие, бывало, вдесятером теснились в одной комнате.
Такая о нем шла молва.
Астрид повернула голову, чтобы видеть его лучше. В селе он появился в мае; слуги рядком выстроились перед пасторским домом, встречая его, и она в своем переднике тоже там стояла. Они знали, что он не стар, но и не слишком молод, и ожидали, что он привезет с собой огромный воз вещей, расфуфыренную супругу и выводок детишек, но из повозки легко выскочил веселый мужчина в черном с двумя чемоданами в руках, а больше он с собой почти ничего не привез.
Маргит Брессум тут же рассудила, что это ее великий шанс. Это была голосистая самоуверенная вдова с обвислыми грудями, игравшая совершенно незначительную роль в хозяйстве. Старый пастор лучших слуг забрал с собой, и по прибытии Швейгорда Брессум встала так, чтобы поздороваться с ним первой, прикинулась очень занятой и знающей и назвалась старшей горничной Брессум.
Так на Пасторке, как пасторскую усадьбу окрестили местные, было положено начало новой эпохе. Брессум с важным видом известила, что присмотрела для жилой комнаты новые занавески, спросила нового пастора, желает ли он печенку с кровяной колбасой на ужин, да и вообще, какие у него будут для них пожелания. В семье прежнего пастора было шесть человек, и несколько дней ушло у Швейгорда на то, чтобы убедить старшую горничную Брессум не заводить ради него одного канитель с рождественским поросенком и марципанами. Новоявленный духовный пастырь поведал, что не женат, посмотрел на собравшуюся супругу предшественника и, слегка помедлив, добавил:
– Пока.
Потом оказалось, что такие мелкие обмолвки у него частенько проскакивают. Он мог сказануть что-нибудь вовсе безобидное, но, поскольку при разговоре постоянно окидывал взглядом окружающих, да и во время проповедей тоже, его словам нередко приписывали вредоносную подоплеку. Как бы то ни было, светскую жизнь он вести не собирался, предпочитая «бережливое хозяйствование по средствам». Единственное, чего он пожелал для себя, – это чтобы ему по новомодному обычаю подавали на завтрак куриное яйцо. На скотном дворе отвели угол для птицы, в остальном все шло своим чередом. Надежды Маргит Брессум на то, что ей доведется третировать целую ораву служанок, постепенно угасли, а бурная деятельность свелась к обеспечению пастора тремя ежедневными трапезами. Как она ни раздувала важность этой миссии, продолжая величать себя старшей горничной, руководить ей парой-тройкой девушек, не больше.
Астрид продолжала делать то же, что и всегда: шила, мыла и следила за мебелью в парадных покоях, сажала и пропалывала цветы на клумбах в саду – расторопно и не церемонясь. Иной раз взглянет издали на нового пастора исподтишка, а тот лишь слегка кивнет – и с глаз долой, только фалды развеваются. Так продолжалось до того дня, когда она на отполированном до блеска комоде в прихожей не увидела номер «Моргенбладет». Раз в неделю Швейгорду привозили плотный сверток газет. Он прочитывал их по одной в день, как бы ни хотелось ему узнать, что происходит в мире, и на сколько бы дней ни припозднилась почта.
Итак, на комоде лежала газета. Сложенная вчетверо, полная буковок, сбегавших вниз пятью узкими колонками; Астрид подошла поближе и принюхалась. Типографская краска еще не просохла, и бумага распространяла легкий аромат, напоминавший запах свежих грибов. Астрид торопливо огляделась и развернула газету. «Моргенбладет» состояла из двух больших листов. Первая страница была плотно заполнена тем же готическим шрифтом, что и книга для чтения в летней школе. На другой странице Астрид увидела прямоугольнички, внутри которых текст был набран на языке, который она сначала приняла за иностранный, но быстро сообразила, что это новые буквы – учитель называл их латинскими и характеризовал как «простецкие и кричащие».
Астрид они не показались ни «простецкими», ни «кричащими». Вовсе нет. Прямоугольники, заполнявшие всю газетную страницу, были, должно быть, объявлениями. Большой газетный лист напоминал здание со множеством распахнутых оконцев, из которых долетал то свежий воздух, то загадочные звуки. В Кристиании проводили розыгрыши произведений живописи, устраивали балы и концерты, торговали апельсинами из Валенсии и можно было даже купить яйца английских уток для выведения утят. Продавали скрипичные струны из свежих поросячьих кишок, декоративные растения в горшках, не садящееся при стирке нижнее белье и еще новые французские корсеты: о значении этого слова Астрид только догадывалась.
Она прочитала, что в семь часов можно послушать лекцию об экспедициях к Северному полюсу, и в этот момент напольные часы пробили семь. На лестнице послышались шаги; Астрид сложила газету и вернула ее на комод, но, выходя, столкнулась в дверях с новым пастором; дуновение воздуха из открывшейся двери всколыхнуло уголок тонкой газетной бумаги, и их взгляды встретились.
До этого момента они приветствовали друг друга лишь кивками, теперь же Швейгорд стал без лишних слов и не чинясь отдавать прочитанные газеты Астрид. Заодно он расспрашивая ее о жизни села. О названиях хуторов, об их хозяевах, интересовался, много ли у них детей; задавал вопросы об отношениях между людьми, поскольку он, по всей видимости, никак не мог в них разобраться. Странный у них получался обмен: он хотел получить представление о мелких хитросплетениях местной жизни, а за это дарил Астрид знания о большом мире. Об этом мире она читала с упоением, тянулась к нему обеими руками, а когда газета бывала прочитана и следовало вновь браться за иглу, она все сильнее ощущала себя чужой в этом месте и в этом веке, а позже и в своей одинокой постели.
По воскресеньям она не сводила со Швейгорда глаз. В конце службы он всегда оставлял время для того, чтобы немного поведать о большом мире, коротко пересказывая заметки о событиях в Кристиании и за границей. Но поскольку Астрид прочитывала газеты, она знала, о чем он будет рассказывать, и всю неделю предвкушала эти минуты, словно у них с пастором была общая тайна.
Маргит Брессум сообразила, видимо, что общие интересы могут повлечь за собой нечто более серьезное. Хотя ничего еще не произошло, никто не пытался ничего изменить, ничего лишнего не было сказано.
А все же вряд ли много времени прошло бы, пока что-нибудь не было бы сказано или изменено. Маргит Брессум заявила Астрид, что «больше работы для нее нет», поскольку пастор живет один и запросы у него скромные.
– Вот супруга евонная приедет, тогда посмотрим, – сказала она.
У Астрид дернулись губы, и старшая горничная повернула нож в ране:
– Он, вишь, помолвлен.
Вот тогда-то Астрид и смекнула, что если где-то есть тупик, то должен быть и выход из тупика.
Наконец подошло время торжественного псалма. Астрид подпихнула Клару, и та с трудом поднялась на ноги. Пришлось помочь ей найти нужную страницу в Псалтыри. Ошибаются те, кто обычай вставать в храме связывает с желанием прославить Господа, подумала Астрид. Встают, промерзнув до костей, чтобы размять ноги и хоть чуточку разогнать кровь.
Клара дышала носом, и от выдыхаемого пара волоски у нее в носу покрылись белым инеем. Хотя она и не умела читать, ей нравилось держать в руках Псалтырь. Служба шла своим чередом, и к следующему псалму зубы у всех стучали так, что слов не разобрать. Пол промерз настолько, что Астрид казалось, будто она босая. А когда она попробовала пошевелить пальцами ног, то вообще ничего не почувствовала.
Началось крещение детей. Крестить под Новый год считалось благом, и своей очереди ожидало девять младенцев. В начале богослужения детишки орали и вопили, но от холода примолкли. Поднесли первого малыша, но церемония все не начиналась.
От купели донеслись приглушенные голоса.
Астрид вытянула шею и увидела, что Швейгорд переложил малыша в другую руку. Костяшками пальцев он разбил лед, образовавшийся на поверхности воды в купели; все услышали, как разнесся хруст ледышек. Потом пастор окрестил мальчика и сказал, что отныне тот воспринят в ряды рабов Господних. Поднесли следующего ребенка; дрожа от холода, произнесли неверными голосами его имена. Церемония не затягивалась, и некоторые, похоже, называли даже не все имена, которые собирались дать ребенку. Последнюю малышку привезли из Трумснеса, и Астрид знала, что ее собирались наречь Юханной в честь бабушки, но отец девочки так озяб, что первый слог не сумел выговорить, и Швейгорд окрестил ее Анной Трумснес.
Церковь накрыл холодный шквал, и прихожане совсем закоченели. Печи уже выгорели, а церковный служитель не смел возиться с дровами, боясь помешать службе. От сильного порыва ветра заскрипели стены, ледяной воздух ворвался внутрь помещения и едва не загасил свечи на алтаре.
Швейгорда это не остановило. Казалось, он не замечал холода. Наоборот, холод будто придал ему новых сил. Астрид вспомнилось, как они вместе складывали длинную парадную скатерть и его лицо постепенно приближалось, с каждой следующей складкой в нем оставалось все меньше пасторского и появлялось все больше мужского; под их трепещущими пальцами полотно вздымалось и опадало, выставляя напоказ их возбуждение: так с плеском встречаются волна с волной.
Астрид огляделась. Селяне изо всех сил старались не ерзать на скамьях. Они привыкли терпеть. Жизненные невзгоды поджидали их всюду: приходилось переносить и зубную боль, и прострел, и костоед в коленях. Так что они сидели на своих скамьях и терпели. Терпели, хотя щеки сначала побелели, а потом посинели. Ребятишки отсутствующим взором смотрели прямо перед собой, постепенно теряя власть над телом и начиная непроизвольно раскачиваться из стороны в сторону, словно на корабле, подбрасываемом волнами. Когда пришло время петь «Скрылся Старый год в волнах» – один из новых псалмов, слова которого никто еще не выучил наизусть, пальцы у органиста закоченели так, что выводимую им на фисгармонии мелодию многие не узнали и вместо этого псалма пели следующий номер из указанных на табличке.
Один только охотник-медвежатник Халлстейн Хюсе не дрожал от холода: он закутался в шубу, а четверых сыновей накрыл огромной полостью. Клара Миттинг не сумела подняться для пения, и Астрид в полутьме не стала ее тормошить.
С воем налетел новый порыв ветра, сильнее прежнего.
– Скреженощь, – шепнула Клара. – Скоро ужо.
Астрид только кивнула. Старуха съежилась, прислонила голову к стене.
И тут в церковь начал заметать снег. Кристально-белые зернышки оседали на головы собравшихся, на распятие и запрестольный образ, на Библию в руках Швейгорда, и в кои-то веки он прервал чтение.
Люди подняли головы к сводам церкви, откуда опускался снег, и быстро смекнули, что это не снег, а иней. Должно быть, шквал так тряхнул церковный чердак, что изморозь смело и осыпало вниз рыхлой массой.
На пол планировали последние снежинки, некоторые опускались на сальные свечи. Они начинали угасать, шипя и брызгаясь, но вспыхивали вновь.
Кай Швейгорд окинул собравшихся взглядом. Развел руками и громко произнес:
– Воздадим хвалу испытанию, которое нам ниспослано, и выстоим вместе! Это знамение от Господа Бога; примем его, как принимал Божьи знамения Моисей, а я обещаю: к следующей зиме мы будем собираться в лучших условиях. Уже этой весной ожидаются события, которые избавят нас от нищеты.
Потом он неровным голосом продолжил чтение. Астрид пыталась угадать, что он имел в виду. Пару раз она уже видела его таким воодушевленным и разгоряченным, когда он ожидал с визитом главу местной управы или других мужчин в дорогих костюмах.
Она осмотрела продрогших от холода прихожан. Их волосы и плечи покрылись инеем. У многих уже не было сил слушать, а те, что слушали, наверное, сразу же забывали сказанное пастором.
Швейгорд замешкался на кафедре. Они исполнили едва ли половину из объявленных на табличке номеров, но снова налетел ветер, пастору пришлось опять сдувать с Библии снег, и он начал понемногу сворачивать службу, сбив с толку органиста; пришлось сказать ему открытым текстом, что четыре псалма они пропустят.
Последняя четверть часа превратилась в демонстрацию способности Кая Швейгорда черпать новые силы из преодоления трудностей. Слово Господне звонко разносилось между колоннами, явив союз воли и веры. Под конец он под мерцание восковых свечек запел в одиночку.
Когда наконец зазвонили Сестрины колокола, народ повалил вон, стараясь двигаться быстрее, если позволяли закоченевшие колени. То же сделала и Астрид, подталкивая людей вперед и крутя туда-сюда ногами и бедрами, чтобы разошлись, разогрелись мышцы. Ощущение было, будто сама церковная скамья примерзла к попе, а годовые кольца деревянного сиденья впечатались в кожу. Добравшись до прохода, Астрид обнаружила, что Клара за ней не идет. Астрид заторопилась назад и потянула старую за рукав.
В это мгновение жизнь Астрид перевернулась, ибо тот грамм, что еженощно утяжелял ее дух, окрасился с этой секунды в голубоватый оттенок уныния. Одновременно в ее памяти навеки запечатлелась отчетливая картина того, что произошло, когда она сильнее потянула Клару за руку. Тело старушки завалилось вперед и зависло на щеке, примерзшей к церковной стене. Должно быть, в последние мгновения жизни ее дыхание попадало прямо на доски. Тело повисело так немножко, а потом голова с хрустом отделилась от стены и ударилась о скамью впереди.
Услышав вопль Астрид, к ней подбежал церковный служитель, а следом за ним и Кай Швейгорд. Звонарь ничего не заметил и продолжал бить в Сестрины колокола. За всем этим звоном Астрид расслышала лишь обрывки того, что говорил пастор.
– Когда наступит весна, – сказал Кай Швейгорд, приобняв ее за плечо, – и ты, Астрид, и все мы будем освобождены, избавлены от таких страданий.
Утлая лодчонка в бурном море
Церковный служка и третьего, и четвертого января силился подготовить могилу для Клары Миттинг, но земля промерзла так глубоко, что не помогли даже костры, горевшие двое суток подряд. На голову и плечи служки, стоявшего в облаке пара над дымившимися головешками и мерно долбившего киркой землю, падал снег. Зрелище было ужасное – казалось, прямо под церковью разверзся ад. Увидев это, Кай Швейгорд отправил служку прочь, дабы не превращать подготовку к похоронам в потеху для народа.
– Придется повременить с ее похоронами до весны, – сказал Швейгорд.
В очередной раз он столкнулся с дилеммой, которую находил самой мучительной для священнослужителя: когда духовное вынуждено было отступить перед материальным, перед действительностью. В своем служении он ежедневно сталкивался и с тем и с другим, и если одно с другим было не совместить, верх неизменно одерживали силы природы: исполняя победную пляску на крышке гроба, они отбрасывали длинные колеблющиеся тени. Ему хотелось, чтобы было иначе, чтобы смерть была более красивой, более смиренной. Чтобы душа сохранялась в чистоте, чтобы мертвая оболочка не марала ее.
– Как пастор пожелают, – кивнул церковный служка, опершись на кирку. – Но как-то сумнительно, что люди будут столько времени ждать, чтобы умереть.
– Над смертью и холодом ни ты, ни я не властны, – сказал Швейгорд. – Нам как служителям Господа придется все похороны отложить до весны.
Подобное решение далось ему тяжело. Это, пожалуй, было его первой крупной неудачей в Бутангене. Но он чурался выражений вроде «тогда поступим как прежде» или «придется, наверное, вернуться к старому обычаю». Кай Швейгорд ни за что не сказал бы такого. Он был посвящен в сан годом раньше, одним из ста сорока восьми молодых людей.
Сами они не могли выбирать место служения, так что нерадивых и отстающих отправляли в убогие захолустные приходы, в которых огонек веры едва теплился: там они либо должны были стать на путь истинный и направить тем же путем прихожан, либо могли пасть жертвой пьянства и одиночества. Умников и романтиков, слишком добрых или слишком неуступчивых, назначали на посты, где они пообтесались бы под непомерным грузом работы. Кое-кому из выпуска – так называемым поэтам, умильным неженкам или обладателям красивого певческого голоса, эдаким светочам благочестия, – выпадало поступить под начало городского пастора. Середнячки становились капелланами, некоторые вырастали до высоких чинов, остальные перебивались как могли, не оставляя по себе памяти.
И были немногие избранные. Заметные, усердные, но непредсказуемые. Такие часто казались зрелыми не по летам, что-то в них постоянно скрыто бурлило, и пусть даже правописание хромало, но такие были рождены каждый со своим особым дарованием, с разнообразными талантами. Эти не оставались незамеченными и непризнанными, и легкий кивок показывал, что они выделены из общей массы. Такие отчеканены из твердейшего вещества, а края у них острые, и если они за что берутся, то всерьез, – это настоящий сгусток силы воли. Если у таких и находился какой-то изъян, то с возрастом он только помогал формированию неповторимой личности. Этих особенных сразу же ставили приходскими священниками в не слишком большие селения, где процветало пьянство и косность, где царила нужда, а часто и суеверие. Именно туда направляли епископы свои самые отточенные и всепроникающие орудия; таким орудием был и Кай Швейгорд.
В Бутанген его послал хамарский епископ Фолкестад, и они оба понимали почему.
Если он справится со своим служением здесь, то его ждет скорое продвижение по службе. Ибо кто-то из подобных молодых людей – хотя сразу по окончании обучения трудно было предсказать, кто именно, – обязательно дослужится до епископа.
При старом пасторе, да, очевидно, и при всех его предшественниках, середь зимы никого в Бутангене не хоронили. Но Швейгорд ошарашил всех в ноябре, в первую же зиму своего служения здесь, требованием использовать церковные запасы просушенного швырка на оттаивание кладбищенской земли. Местные тут же поведали ему, что в незапамятные времена на хуторах всю зиму хранили своих окоченелых покойников дома, в гробах; даже малые дети и мертворожденные младенцы лежали так месяцами, а рядом шла своим чередом жизнь. К тому же старого пастора похороны, похоже, вообще мало интересовали. Как большинство пасторов своего поколения, на ночное бдение он ездил только к зажиточным крестьянам. Поминальную речь произносил исключительно за плату, а заупокойная служба в церкви стоила и того дороже. Люди старались сделать все своими силами. Сами сбивали гроб, сами дома читали ночами молитвы, сами отпевали покойного, сами провожали его в последний путь на кладбище и сами копали могилу – на свободном, надеялись они, месте. Старый пастор только иногда сонно выглядывал из-за занавески и довольствовался тем, что при следующей воскресной службе символически бросал на могилу пригоршню земли. Гроб к тому времени уже покоился глубоко в земле; пастор, бывало, и имена путал, а поправить его то ли не решались, то ли считали, что теперь уж все равно.
Последствия такого отношения Швейгорд ощутил уже в первую неделю своего пасторского служения, когда ему то и дело приходилось срываться с места на похороны, о которых его никто не известил, и люди уже вовсю орудовали лопатой и киркой. Земля на кладбище была неровная и корявая, будто на недавней лесной вырубке, а поскольку мало у кого были средства на памятник солиднее, чем простой крест или деревянная доска, то немногие помнили, кто и где похоронен. Швейгорд тотчас же строго наказал извещать его об умерших и велел церковному служителю позаботиться о том, чтобы могилы рыли заранее. Как только гроб опускали в могилу, Швейгорд являлся на кладбище и сам бросал горсть земли на крышку гроба, пока он еще не был засыпан. Швейгорд почувствовал, что сельчанам изменения в заведенном порядке не по нраву, а еще больше им не нравится появление незваного представителя власти. Но с приближением зимы выразительное молчание и мрачные взгляды стали менее ощутимы. Люди согласно кивали, когда он говорил, и видно было, что родные покойного ценят его слова утешения и рукопожатие.
Но вот выпал снег, и хотя Швейгорд убеждал себя, что следует соблюдать закон, согласно которому умершие должны быть преданы земле не позже девятого дня, расход дров возрос колоссально, а церковному служке приходилось работать гораздо больше обычного. И вот теперь, оказавшись с телом Клары Миттинг на руках, они вынуждены были признать, что святочные морозы одержали верх над благими намерениями.
Служка ногами раскидал дрова по зашипевшему снегу, собрал обугленные поленья в дерюжный мешок и, пробубнив «ну-ну», принялся счищать сажу с лопаты и кирки.
– Копать зимой больше не будем, – сказал Швейгорд, – но нужно бы построить в селе покойницкую. – Уперев руки в боки, он огляделся будто в поисках подходящего участка. – Сколько же можно мучиться.
Церковный служка как-то сник и постарался поскорее распрощаться.
Швейгорд остался в одиночестве перед зияющей раной в снегу, осыпанной пеплом и торфом. Из нее тоненьким ручейком сочилась талая вода и тут же застывала. К счастью, снова посыпал снежок и накрыл изувеченную землю белой пеленой.
Зима, подумал пастор. Лихая зима. И смерть.
Новогоднее богослужение мало того что не удалось во всех отношениях, так еще и завершилось смертью прихожанки прямо в храме. Ближайшие месяцы тоже дадутся людям тяжело. Нескончаемая череда темных дней, когда не случается ничего хорошего и человека, найдя его слабое место, терзает холод. Горечь утраты, голод, лютая стужа.
Дa, сказал себе пастор. Нужна покойницкая. Эту проблему нужно решить, и решается она просто. Покойники не должны оставаться в жилье. Но прежде всего необходимо заняться этой внушающей ужас церковью. Перед вступлением в должность у него был долгий разговор с епископом Фолкестадом, и пастор был готов к тому, что церковь ветхая – это не страшно, но он не ожидал, что она стоит, как стояла во времена Средневековья. В первый же день его ужаснули чудовищные резные украшения, отражавшие дикие религиозные представления древних скандинавов, и фисгармония, мехи которой постоянно рвались, из-за чего хоралы порой замирали на задушенной ноте. Эта церковь ни на что не годилась; осуществлению его планов она не могла поспособствовать. Страну ожидали неспокойные времена и серьезные перемены. Газеты наперебой сообщали о новых изобретениях, о смене политического курса; сам дух времени радикально менялся на глазах. Новые времена требовали четкого руководства, твердости и душевного здоровья. А эта странная церковь походила на утлую лодчонку, которую треплет волнами в бурном море.
Пастор взглянул на церковь и почувствовал, что весь дрожит. Вчера он отпер дверь и зашел в темную мерзлую пустоту, сел на скамью, где умерла Клара Миттинг, и долго молился за приход и за себя самого. Теперь его снова тянуло туда, на ту же скамью, – читать другую молитву, молить, чтобы Господь придал ему сил.
– Нет, Кай Швейгорд, – негромко произнес он и выпрямился. – Разнюнился, как баба, а время идет. Оружие Господне следует оттачивать ежевечерне, надо дело делать. Найти новое задание для служки. Не опускать рук, осуществляя свой план.
План
Пастор чуть не проболтался о нем, когда во время новогодней службы на Библию посыпался иней, но вовремя спохватился. Так вышло потому, что он готовился произнести эти слова в будущем, и ничего странного в этом не было, поскольку он предвкушал, и очень радостно, как оповестит прихожан о том, что их ожидает. Но время для этого еще не настало: недоставало подписи важного лица, оставалась пара спорных моментов, но это мелочи, и он надеялся, что все разрешится в ожидаемом им ответном письме из Дрездена.
К счастью, пастор был не одинок. Он не раз съездил в Волебрюа побеседовать с главой управы, а управляющий торгово-сберегательного товарищества полностью поддерживал его в том, что действовать необходимо. Но денег в приходе не водилось.
Тогда-то у него и созрел этот план.
Швейгорд поежился и двинулся к усадьбе. Он тщательно взвесил, что в ней оставить как было, а что нет. Жилой дом слишком велик, стар, из подпола дует; ему же, собственно говоря, требуется только кабинет, спальня да библиотека. Он уже дал старшей горничной поручение избавиться от части служанок и работников, однако опешил, когда первой отослали домой лучшую и самую толковую – Астрид Хекне.
Арендатору приусадебного хозяйства он предоставил вести дела как раньше. У того в семье было шестеро человек, да еще несколько батраков. Все они ухаживали за посевами и животными, ходили в горы, а иногда промышляли рыбалкой. Им Кай Швейгорд поручил только обеспечивать ему, когда потребуется, лошадей и возницу да поставку продуктов к столу.
Какая бессмыслица, думал он. Двадцать душ, чтобы обеспечивать жизнедеятельность одного пастора! Все пустующие спальни второго этажа служили постоянным напоминанием, что от него ждут: следовало обзавестись супругой и детьми. Но он не имеет возможности заключить брак; нет, не сейчас, не здесь! Конечно, его помолвка с Идой Калмейер сохраняла силу, но ей приехать, оторвавшись от своих вышивок и язвительных приятельниц, сюда, в глушь? Да она здесь истает и погибнет.
Кай Швейгорд продолжал путь, раздраженный тем, что приходится отказаться от другого хорошего плана. Он никому не говорил об этом, но похороны бедной Клары Миттинг явились бы лучшим поводом перейти к отвечающему современным требованиям обряду погребения, перед которым все были бы равны. Хорошо бы Астрид Хекне оказалась рядом, чтобы расспросить ее о том, как люди могут отнестись к этому. С ней единственной он действительно мог разговаривать, она очень помогала ему разобраться в том, как устроена бутангенская жизнь. Другие служанки разлетались легкими перышками, стоило ему войти в комнату. А старшая горничная, сонная и грузная, гоняла их вовсю своим рявканьем, тяжело топая по всему дому.
С Астрид Хекне все иначе.
Она была не из тех, что смотрят в пол, когда сидят, или не поднимают взгляда от земли, когда стоят; нет, от ее взора ничто не скроется. За собой он скоро заметил, что приходит в отличное расположение духа, доставив ей даже малейшую радость. Одолжи ей почитать старую газетенку – она воссияет как солнышко. Сначала он считал, что занимается просвещением девушки из народа, поставляя пищу скудному уму. Но вскоре обнаружил, что этот ум вовсе не скуден. Совсем наоборот. Она была любознательна, схватывала все на лету и бесстрашно стояла за справедливость. Ему все сильнее хотелось продлить их короткие встречи. Ее улыбка никогда не бывала подобострастной, а казалась чуть недоверчивой, и ему подумалось, что, наверное, не только он учит ее любить ближнего; похоже, ему самому было чему поучиться у нее.
Да, теперь он смотрел на нее другими глазами, и не только как пастор.
Поначалу их разговоры касались только обыденных дел, потом, стараясь понять, что движет местными жителями, он начал расспрашивать ее о жителях Бутангена, об их семейных отношениях. Ей, наверное, стало ясно, что пасторское служение в Бутангене едва ли считается завидным постом. Ему особенно запомнился их разговор после проповеди, в которой он резко обличал людей, в воскресенье работающих на земле. Она без обиняков возразила, что так бывает только в разгар страды или если речь идет о сохранении урожая, чтобы не голодать зимой.
– Чаще всего работать приходится бедным арендаторам, – сказала она. – Особенно если у них нет собственной лошади. Всю неделю они работают на хозяйских землях, а может, только в воскресенье будет вёдро, чтобы можно было поработать на своем участке.
– Что за вёдро? – спросил он.
– Ну, такая погода, когда можно трудиться на воздухе.
Кай Швейгорд возразил, что работа в воскресенье предосудительна и возмутительна, и тогда она заявила:
– Да ну, надо просто перестать возмущаться, и у господина пастора будет одной заботой меньше!
Он опешил. Почесал в затылке. Она так это произнесла, что было вовсе не обидно. Показала, что власть в его руках и он единственный, кто может этой властью распорядиться. Но дала понять, что и она тоже личность и имеет право высказать свое мнение.
– Вообще-то теперь, когда мы исповедуем протестантизм, – ответил он, – церковных праздников не так уж и много. А знаешь ли ты, почему норвежцы когда-то противились христианству?
– Так, наверное, было до того, как приехали вы, – сказала она.
Он не понял, что она имела в виду.
– Я говорю о времени Олафа Святого. Когда вводили христианство. Ведь крестьяне сопротивлялись не только потому, что не хотели отказаться от Одина. Видишь ли, в то время христианская вера была католической. Духовенство намеревалось ввести тридцать семь обязательных церковных праздников.
– Окромя воскресеньев? – спросила Астрид.
– Ну конечно. Тридцать семь в дополнение к ним!
– Так много? Это ж чуть не девяносто дней выходит.
– Вот именно! Четвертую часть года люди не имели права работать! Возможно, в теплых странах, где вести хозяйство не так тяжело, этот запрет приняли как должное. Но у нас на севере такое не годилось.
Она кивнула, со звяканьем убирая на серебряный поднос обеденную тарелку и приборы пастора.