Моя бабушка – Лермонтов Трауб Маша
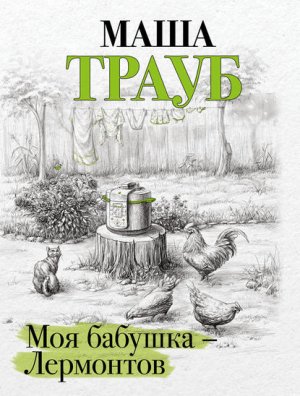
Не знаю, что чувствовал этот мужчина после женитьбы на моей бабушке. И зачем ему вообще этот брак понадобился – не знаю. И мама не знает. Наверняка он знал, на что шел. Если раньше к нему приходили «за вениками», то теперь сначала звали мою бабушку и у нее просили разрешения обратиться к ее мужу. Дом был не ее, но хозяйкой считалась она. Я помню, что бабушка жаловалась Варжетхан, что муж переживает.
– Конечно, переживает! – смеялась знахарка. – Где его мужское достоинство? Ты его себе все забрала! А что он хотел? Женился на Лермонтове – пусть терпит!
Иногда случались и казусы. Поскольку бабушкина редакция следовала за ней, где бы она ни находилась, то люди к ней приходили и в редакцию, и на Ленина, и на Энгельса. Многие сразу шли в дом, не заходя в редакцию. В доме было проще рассказать о случившейся беде, попросить о помощи. Бабушка никогда не отказывала таким «ходокам», всех принимала и выслушивала. В любое время суток. У нее не было выходных дней. Все дни считались рабочими.
Люди стучали в ворота на Энгельса, бабушка открывала калитку и провожала гостей во двор, где специально для таких встреч мама поставила стол, скамейку, несколько стульев. Бабушка предлагала присесть, выпить вина, которое регулярно поставляла ей Альбина. Брала блокнот, карандаш и садилась напротив, в свое кресло.
– Рассказывайте, что случилось.
Гости молчали, что бабушку совершенно не удивляло. Очень сложно начать говорить о проблеме.
– Так, давайте начнем с начала. Откуда вы, из какого села? Как ваша фамилия? Дети есть? Сколько? Где учатся? Как здоровье старших? Чем болеют? Родственники где живут?
Постепенно в ходе такого интервью вскрывались проблемы. Или нужно было помочь с больницей, или вернуть дом, который хотели отобрать родственники. Или восстановить документы прадеду. Бабушка была убеждена, что только такие посетители приносят настоящий материал. Только они расскажут «настоящую историю». Такие посетители рассказывали о проблемах, о которых бабушка и подумать не могла.
Однажды пришли две женщины – свекровь и невестка. И бабушка устроила им обычное интервью – откуда, как, что случилось. Женщины никак не могли раскрепоститься и начать говорить свободно, несмотря на вино Альбины. Бабушка чувствовала приближение сенсации. Она уже дошла до прадедов и уточняла, отчего умерли прабабки. Женщины отвечали четко, разумно, но с некоторым недоумением. Бабушка злилась – она, лучший интервьюер, никак не могла раскрыть настоящую «проблему», которая привела к ней этих двух женщин. Она заходила то с одной стороны, то с другой, и все никак. Уже и про детей спросила, и про огород, и про виды на урожай – без толку. Женщины отвечали складно и равнодушно. Бабушка уже готова была поставить на себе крест – с ее-то опытом не почувствовать скрытой проблемы, не узнать, что по-настоящему волнует женщин!
Спустя почти час невестка не выдержала:
– Почему вы у нас это спрашиваете? Разве вам нужно знать, как родился мой младший сын?
– Конечно, нужно! – с энтузиазмом ответила бабушка.
– Разве веникам не все равно? – уточнила невестка.
– Каким веникам? – не поняла бабушка.
– Обычным веникам, – настаивала невестка, хотя свекровь ее одергивала, – мы за вениками пришли.
Бабушка бросила ручку и блокнот.
– Почему вы сразу не сказали? – возмутилась она.
Женщины не знали, как ответить. Они решили, что для веников очень важно знать, во сколько лет вышла замуж двоюродная тетя невестки и от чего умерла родная тетка свекрови.
– Тьфу ты, – сказала бабушка, – вам туда, в сарай.
Бабушка указала направление. Женщины посовещались шепотом, извинились и ушли. Они не стали заказывать веники.
После этого случая бабушка решила, что женщины знают этот дом по имени мастера веников, и сразу отправляла гостей в сарай, где ее муж показывал образцы, развешанные под потолком. Вот этот для паутины, этот для двора, этот и для угля подойдет, а этот – пусть не такой маленький, но для кладбища – самое оно. Женщины смотрели на веники, слушали лекцию, как их надо вязать, и… заказ не делали.
– Почему вы без веников? – спрашивала бабушка.
– Зачем нам веники? Мы пришли о проблеме рассказать. Если надо веник купить, чтобы объявление сделать, то нам не надо.
Женщины уходили обиженные.
Бабушка не знала, как совместить свою работу с работой мужа. Она спрашивала совета у Варжетхан, но та пожимала плечами.
– Не переживай. Просто спрашивай сразу, кого хотят посетители – Марию или веники.
– Звучит странно, но, боюсь, это единственный способ.
Очень скоро по селу и окрестностям прошел слух, что Мария не любит, когда к ней приходят за вениками, а любит, когда приходят как в редакцию. Бабушкин муж лишился заказов. Веники в селе вязали многие, а Лермонтов был один. Бабушкин муж продолжал вязать свои веники, вывозил на рынок на продажу, но и там к нему подходили, брали веник в руки и спрашивали, когда можно застать Марию дома. Бабушкин муж перестал появляться на рынке. Он вязал веники для дома, которыми бабушка никогда не пользовалась. Мама привезла ей в подарок пылесос. Бабушка включала агрегат, возила по половику и думала. Под звук пылесоса ей хорошо думалось. Потом она вытаскивала пылесос во двор, снимала насадку и сдувала листья куда придется. Сейчас такой системой пользуются во всех парках, а тогда бабушку считали сумасшедшей. Веники для пыли бабушкиного мужа были покрыты слоем пыли. Венички для кладбища стояли нетронутыми – у бабушки не было близких, похороненных в селе. Веники для двора разной жесткости с отполированными ручками стояли для красоты на видном месте у забора, как предмет интерьера. Бабушка ими так и не воспользовалась.
Меня иногда наказывали «подметанием двора», но из этого ничего хорошего не выходило. Я сметала листья и мусор в одну кучу, разбрасывая все по двору. Тетя Бэлла пыталась научить меня подметать – делать несколько кучек, а потом собирать все в совок. Но я упрямо стремилась сделать одну кучу. Листья летали по всему двору.
В основном доме был чердак с крошечной дверкой. Однажды я туда залезла. И нашла там вещи. Я прекрасно помнила про запрет бабушки прикасаться к чужим вещам, но любопытство оказалось сильнее. В старом чемодане лежали женские платья. В еще одном чемодане – детские. В коробке – игрушки. Я рассматривала чужие платья, кукол, мишек, деревянное ружье и гадала, кому они могли принадлежать. Умершей жене? Ее детям? Или внукам? Почему их не выбросили бабушка или мама?
Спросить об этом у меня не получилось. Когда я вылезала с чердака, напоролась рукой на осиное гнездо. Да еще и с лестницы свалилась. Бабушка вместо того, чтобы меня пожалеть, отлупила полотенцем – зачем полезла на чердак? А если бы шею сломала? Так что про находки я решила молчать, чтобы не досталось еще больше. Но я часто думала – кто жил в этом доме до меня? Кто играл в эти игрушки? Девочка или мальчик? И где они сейчас? А они считаются нашими родственниками? А если они приедут, то мы с бабушкой должны будем уехать на Ленина или в другое место? Я часто бегала на Ленина. Скучала по своему двору, по ударам мяча по асфальту, по водопроводной колонке. Бабушка мне не запрещала.
Наверное, тогда я поняла, что дома нет и не бывает. Нет такого места. Сегодня дом есть, а завтра его нет. Да, будет другой дом, но это тоже будет не дом, а очередной адрес. Потому что всегда может прийти кто-то и прогнать. Я тогда стала плаксивой – бабушка поила меня травами и списывала мое состояние на падение с лестницы и ос.
Бабушка тоже стала другой. Мама всегда была серьезной, сосредоточенной. У нее появилась глубокая складка между бровями, будто она всегда сердится. Но я знала, что она не сердится, а думает. Бабушка же была смешливой, легкой, с гладким лицом, которое я считала самым красивым на свете.
Бабушка ходила хмурая, подолгу сидела у меня в комнате над своим секретером. Я засыпала под скрип ее пера по бумаге и стук о баночку с чернилами.
– Бабушка, ты чего? – спрашивала я.
– Не пишется, – отвечала она. – Не могу работать. Совершенно. Мне здесь не пишется! Ты не понимаешь. Не можешь понять. Не мое это место. – Она раздраженно хлопала крышкой секретера.
Это я понять могла. У бабушки были места, где ей писалось. На Ленина ей писалось прекрасно – она открывала окна, чтобы был сквозняк, придавливала листы чугунной сковородкой и иногда выходила на кухню «продышаться» – садилась на ящики с вещами дяди Шамиля и думала, уставившись в невидимую точку перед собой, забывая про свистящий чайник. Чайник свистел, пока соседка не заходила и не снимала его с газа. Бабушка даже не замечала, что в дом кто-то заходил.
Ей прекрасно писалось в редакции. По вечерам, когда все уходили. Окно ее кабинета выходило на старое мусульманское кладбище – даже забор был общим. И бабушка разглядывала в окно стелы, обращенные на восток, и думала. Она пила чай из граненого стакана в подстаканнике, грызла баранки, лежавшие на общем блюде, и работала. Иногда в кабинет заходил дядя Эльбрус, который курил сигареты «Казбек». Это была их дежурная шутка: «Эльбрус закурил Казбек». Две главные горы, два мужских имени – Казбек, ласково Казик, и Эльбрус – Брусик. Но тетя Бэлла звала мужа Элечкой, и это звучало очень трогательно и нежно.
Бабушка, прошедшая всю войну, так и не научилась курить и пить что-то крепче вина. Но ей нравились запахи крепкого дешевого табака и домашней араки. Эльбрус всегда курил в бабушкином кабинете. Она его даже не замечала.
Кстати, своего водителя бабушка называла полным именем. Она и свою дочь, мою маму, звала полным именем, еще когда та была младенцем. Не Олюней, не Ольгушей, не Лелей, только Ольгой. Представляете – звать младенца Ольгой? Зато у меня было много имен: для мамы – Марго или Маргарита, для бабушки – Маня, для соседей – Дидина, что означало «цветок», «цветочек». Я отзывалась на все, кроме одного – Мария. Мария была одна. Моя бабушка. И это имя, полное, нужно было заслужить. А я оставалась Дидиной, внучкой уважаемой Марии, дочкой падшей Ольги.
В общем, в новом доме бабушке не писалось. На работе она уже не могла задерживаться – замужняя женщина должна была идти к мужу. И бабушка отбрасывала с раздражением лист за листом. Ничего. Просто ступор. Она искала себе место – усаживалась то на зимней кухне, то на летней. Но никак. Она даже стул не могла себе подобрать. Старый, с Ленина, она сдала сельсовету, а попросить назад не решалась.
Я видела, что бабушке плохо. Она часто держалась за сердце, пила капли. Мама стала привозить лекарства – тоже видела, что бабушке нехорошо.
– Что сделать? Скажи. Что ты хочешь? – спрашивала мама.
– Ничего. У меня все есть. У меня же есть свой дом. Нужно просто приспособиться, – отвечала бабушка.
На зиму мама забирала меня, а иногда и бабушку, в Москву. Но после своего замужества бабушка отказалась ехать в столицу. Когда мама сидела на кухне с тетей Люсей, я подслушивала их разговоры.
– Она не пишет, ей от этого плохо, – говорила мама соседке. – Я хотела ее сюда забрать. Но она отказывается наотрез. Что мне делать?
Тетя Люся пожимала плечами. Она не понимала, что такое «пишется» и «не пишется».
Бабушка, как выяснилось позже, тайно вернулась в свою редакционную квартиру. Квартиру дяди Шамиля. И работала там. Домой приходила ночевать. И то – не каждую ночь. Все в селе об этом знали. В случае происшествий и важных звонков бабушку сначала искали в редакции, потом на Ленина и только потом шли на Энгельса.
Частный дом предполагал безостановочную работу по хозяйству – наколоть дрова, растопить печку, прополоть грядки, растопить еще одну печку, чтобы приготовить еду. Наносить воды, накормить живность, убрать, еще раз убрать, еще раз накормить живность и наносить воды, еще раз растопить печку. Летом печку топить не требовалось, зато прибавлялось работы на огороде – картошка, грядки, сорняки, урожай, сорняки, грядки и так по кругу. Бабушка физически не могла заниматься бытом. От усталости она не писала. Даже читать не могла, что ее раздражало. Под вечер бабушка падала плашмя и засыпала. Быт убивал творчество. Бабушке пришлось выбирать, и она выбрала работу, поэтому сбежала на Ленина, в квартиру, где были батареи и не было огорода.
Мама терпела. Ждала, когда умрет бабушкин муж, как бы его там ни звали. Но первой умерла бабушка. Мы тогда жили с мамой на Севере. Не дом, очередной адрес. Темный мрачный городок, где была улица Солнечная, улицы Закатная, Радужная, Теплая. Мы жили на Солнечной. Мама говорила, что попала в ад.
Она не сказала мне, что бабушка умерла. Уехала, будто в командировку, оставив меня на попечение соседкам. Я догадывалась, что бабушки больше нет, – мама вернулась почти совсем седая, с обстриженными волосами. Седой короткий ежик вместо густых черных волос до плеч. Складка между бровями залегла так глубоко, что уже не разглаживалась. Мама даже не плакала. Она заморозилась. Я знала, что это такое – пока мамы не было, я отморозила себе руки. Снаружи ничего не чувствуешь, а изнутри тебя колет иголками так, что хочется оторвать конечности. Ты трогаешь рукой палец, а пальца нет. Внутри же все взрывается тысячью, миллионами уколов. Мама тогда была такой. Сверху она ничего не чувствовала, а внутри горела от боли.
Мама рассказала мне о смерти бабушки спустя два года.
– Я знаю, больно – это не когда ноет или тянет, когда горит – это больнее всего.
Мама кивнула.
– А где секретер и ящики дяди Шамиля? – спросила я. – Ты их не забрала?
– Думала, успею. Потом заберу. Не могла тогда, после похорон, сил не было.
Не прошло и двух месяцев со смерти бабушки, как ее муж женился снова. На женщине, которая была младше его на тридцать лет. Эта женщина не стала церемониться с вещами предыдущей покойной супруги, складывать их на чердак или в ящики. Она вывезла все на пустырь и сожгла. В этом костре сгорел и секретер бабушки, и ящики дяди Шамиля, которые она так трепетно хранила. Тетя Бэлла с дядей Эльбрусом вытащили из костра только папку с бабушкиными рукописями. Ее единственную книжку про совхоз имени Ленина, которой она так гордилась, сохранила Альбина. Подушечку с орденами и медалями забрала Варжетхан. Эльбрус из уже полыхавшего костра смог спасти несколько фотографий, где бабушка со мной – на первомайской демонстрации, в редакции, и на вручении очередной медали. Все это они отдали маме, а мама отдала мне. Я хранила эти папки вместе со своими учебниками и тетрадями. Теперь храню вместе с фотографиями моих детей, их первыми рисунками и каракулями в прописях.
У меня есть дом. Я строила его по кирпичику. Больше всего на свете я хотела иметь свой дом, с постоянным адресом. Настоящий, раз и навсегда. Один-единственный. В котором я буду первой и последней хозяйкой. Из которого меня никто и никогда не сможет прогнать. Я говорю своим детям: «Бегом домой. Скорей бы домой. Надо убрать дома». Это я сделать смогла. Но когда мне больно – у меня не ноет, не тянет, не колет. У меня внутри все горит.
Это были еще цветочки
С цветами у меня никогда не складывались отношения. Я пыталась, но все бесполезно. Никогда у меня не будет на балконе прекрасной оранжереи. Никогда я не буду выбирать горшки и пересаживать в них цветы. Из всех растений у меня прижился только лавровый лист – уже нанизанный на нитку. Связка висит на стене кухни в качестве полезного аксессуара – и красиво, и можно оторвать листик и бросить в суп.
Этим летом я оказалась в чудесном доме, где нам позволили провести отпуск. Сад был прекрасен. Мушмула, апельсиновое дерево, роскошная пальма, ухоженные кусты. Цветы в кадках, без кадок, розарий. Главной достопримечательностью сада и главной ценностью считалась герань. Хозяева дома попросили ухаживать за ней. Цветок, подаренный маленьким росточком, вырос до размеров почти куста и недавно отметил тридцатилетие. Эта герань была дорога хозяевам дома. Собственно, ничего сложного делать не требовалось – поливать сад раз в день, переставить герань в тень на специальный постамент и тоже поливать из специальной лейки. Да, еще розовый куст, роскошный, цветущий, тоже переставить и поливать. На время отсутствия хозяев цветы в горшках были переставлены в специальные места, и к ним подведены крошечные шланги, любовно уложенные хозяйкой прямо в горшки.
Если честно, у меня началась паника. Я не переживала, что дети перебьют чашки или бокалы – они их давно не бьют, не переживала, что мы что-нибудь обязательно сломаем, поскольку всегда что-нибудь ломаем. Я переживала за герань. За то, что загублю сад.
Тут я должна объяснить. Я знаю, как называется любая часть туши в говядине, и могу отличить один кусок от другого и даже сказать, сколько лет было той корове, когда она умерла. Я умею определять свежесть рыбы по глазам этой рыбы. Я много чего умею делать. Но в цветах не понимаю ровным счетом ничего. Лилию от флоксов не отличу. Олеандр я знаю только потому, что одна из моих соседок по летнему отдыху объявила, что он ядовитый. До этого мы с дочкой спокойно его рвали, ставили в вазы и украшали цветами прически.
Переставленная герань была щедро полита, но ей явно чего-то не хватало. Под крошечным шлангом она выглядела лучше. Я даже сфотографировала ее, чтобы следить за изменениями. Я прочитала все, что нашла в интернете про герань и уход за ней. Но мое сердце лежало к кусту мушмулы, который я поливала из шланга. И к кустам неизвестного мне растения, которые вдруг зацвели. Герань выглядела уныло.
Через два дня я запаниковала. На цветке появилось несколько желтых листиков, а единственный цветок завял.
«Ладно, если что – покрасим и приклеим цветок», – сказала я сама себе.
Но вдруг вспомнила, что есть понятия «тяжелая рука» и «легкая рука». У нас в селе это называлось «зеленая рука». Когда я жила у бабушки, считалось, что у нее тяжелая рука, а у меня легкая. И наш палисадник, запущенный до крайней степени, поливала и пропалывала именно я. Опять же считалось, что если я прополю грядки клубники, то ягоды будут сочными и крупными. А вот колорадского жука с картошки собирала бабушка – после одного ее прохода по грядкам жук там больше не заводился. Правда, и картошка всегда была мелкой.
– Сима, полей цветок, пожалуйста, – попросила я свою восьмилетнюю дочь.
Она взяла лейку и стала поливать. Ей очень понравилось возиться в саду, и она поливала не только герань, но и все остальные цветы и растения. Через три дня герань пришла в себя и выдала один цветок.
У бабушки был худший палисадник на улице – она к цветам относилась равнодушно, любила только «петушки» – растения на длинных стеблях с ярко-красными цветами, похожие на петушиный гребень. Как они называются правильно – я не знаю и не хочу знать. Для меня они останутся «петушками». Еще она любила пионы. Не сами цветы, а запах. Самые лучшие пионы росли на клумбе перед Домом культуры на центральной площади села. Бабушка забиралась в клумбу, срывала себе один цветок и несла в дом. Каждый вечер. Все знали, что пионы срывает бабушка, и никто ей ни слова не смел сказать. Еще она любила ромашки. За ними мы ходили вдоль железной дороги и обрывали сами цветы, которые потом высушивались и шли на отвары для густоты волос, антисептика, от бессонницы и еще миллиона заболеваний. В ромашку бабушка свято верила. Она мечтала, чтобы на ее участке тоже росли ромашки, и пыталась их посадить. Но у нее в огороде они не приживались.
– Разве я хуже железной дороги? Почему там растет, а у меня не растет? – возмущалась она.
На границе участков соседки обычно высаживали кусты вдоль забора-сетки. У кого-то была малина, у кого-то смородина, но самыми лучшими хозяйками считались те, кто выращивал вдоль сетки кизил. Кизиловое варенье – главное лакомство моего детства, а ягоды – кислые, вяжущие – я до сих пор ем горстями. Покупаю себе лоток и съедаю. Благо дети не претендуют. Они вообще не понимают, как я могу есть кизил. Они вообще ничего не понимают, хотя я старалась привить им вкусы, запахи, ощущения моего детства.
Однажды сын поехал со мной на рынок – помочь с сумками.
– Мам, а что это за ягода, которая похожа на маленький арбуз? – спросил он.
Я стала дико оглядываться на ряды с ягодами. Ничего похожего не обнаружила.
– Покажи.
Вася ткнул пальцем в… крыжовник. Обычный крыжовник. Я чуть в обморок не упала. И вечером начала проводить инструктаж.
– Что это за трава? – спрашивала я.
– Не знаю.
– Это тархун!
– А нормально как? По-научному?
– Эстрагон. Но это тархун!
Кинзу сын определить смог, а шпинат от щавеля не отличил. Вечерний квест продолжался. Желтый цветок, он же имеретинский шафран, который я обожаю, оказывается, называется «кардобенедикт», как сообщил мне ребенок, сверившись с Гуглом. Но он не знал, что такое ботва! Как такое возможно? Я же пекла ему пироги со свекольной ботвой – любимый пирог моего детства.
Моя дочь называет нават исключительно «фруктовым сахаром». Она пьет с ним чай – ей нравятся кристаллы, которые не сразу растворяются. А для меня это было лакомство и средство лечения. Его в нашем селе из виноградного сока варил сосед-узбек. На московском рынке, где я искала этот сахар, его называют чуть иначе – навот. Если я попрошу «фруктовый сахар» – меня никто не поймет. Я в детстве объедалась мушмулой, тутовником и инжиром. Мои дети это не едят. А тутовник – в глаза не видели. Когда я обнаружила на рынке петуха, то завопила от радости на весь павильон. Бульон из петуха – что может быть вкуснее? Сын с ужасом смотрел на тушку, уже очищенную, завернутую в пленку. А я-то в детстве петуха ошпаривала, ощипывала и потрошила. И знаю, что петушиные мозги – самое вкусное, что есть в тушке. Ножом аккуратно надавить и высосать содержимое крошечной коробочки.
Мои дети не умеют свистеть в лук – брать зеленый стручок, разламывать и свистеть, пока не начнет щипать губы. Не знают, что початок кукурузы превращается в куклу, если отогнуть листья. И у них крыжовник – маленький арбуз!
Про цветы и растения я вообще молчу. Недавно муж принес мне букет ирисов. Сын с интересом взглянул на букет и сказал: «О, какие необычные тюльпанчики». Я онемела от возмущения.
Тюльпаны бабушка не очень любила, но перед зданием ее редакции была высажена целая клумба. Они были огромные, мясистые, яркие. С тюльпанами ходили на демонстрации по случаю Первомая. На Девятое мая – уже с гвоздиками. Ни один мужчина не посмел бы подарить женщине тюльпаны в знак любви. Только розы. Много роз. Огромный букет. Чем больше, тем лучше. Мой муж как-то подарил мне пять роз, и я долго плакала. Неужели он меня любит всего на пять роз? В нашем селе считалось, что мужчина любит настолько, насколько большой букет он преподносит. Язык цветов в нашем селе имел огромное значение. Учителям в школу всегда приносили сирень. Гладиолусы вообще не считались цветами. Очень ценились «ноготки», как называла их бабушка, или бархатцы. В палисадниках их всегда высаживали и потом делали настойку, которая вроде бы лучше всего помогала при артритах. Травы ценились больше цветов. Полынь, чабрец, шалфей считались лучшим подарком.
У бабушки на границе участка росла крапива. Это была даже не крапива, а крапивище. Просто чаща крапивы. Двухметровые кусты. Поскольку крапива служила главным орудием наказания – если девочка плохо развесила белье или не уследила за вареньем, то ей по попе доставалось или мокрым вафельным полотенцем, или крапивой. Я предпочитала крапиву – жжет сильнее, чешется, но проходит быстрее. От полотенца еще ночь будешь на животе спать. Иногда на нашем участке появлялась соседка и показательно срывала несколько стеблей. Она не успевала выйти из наших ворот, как у нее дома царил идеальный порядок. И было развешено белье. И накормлены куры. И двор подметен.
Бабушкина крапива считалась не только самой «болючей», но и самой лечебной. Я помню, как к бабушке приходила Варжетхан, голыми руками срывала несколько стеблей, усаживалась на стульчик во дворе и хлестала себя этой крапивой по ногам. Считалось, что крапива лечит от ревматизма и заболеваний суставов.
Сама Варжетхан в своем палисаднике выращивала кактусы. В нашем селе кактусов не было и в помине. Никто и не знал такое растение. Где Варжетхан брала кактусы – неизвестно, но они у нее разрастались до размеров пальмы. Был один кактус, который дорос выше крыши – тонкий, колючий росток, прислонившийся к шиферу. Бабушка часто отправляла меня к Варжетхан с поручениями, и я каждый раз с ужасом проходила мимо палисадника знахарки. Да и все остальные женщины, которые ходили к Варжетхан, пробегали мимо палисадника пулей. Там росли кактусы разных размеров и разных форм. Разлапистые, с мелкими колючками и с крупными. С шапками вместо цветов и без. Варжетхан своим палисадником наводила ужас и не оставляла сомнений в том, что она настоящая колдунья, которая может предсказать будущее, нагадать сына и отварами вылечить от любой женской хвори.
Для своих секретных снадобий Варжетхан использовала бабушкин палисадник, о чем никто не знал. У бабушки рос огромный цветок алоэ, к которому вообще никто не имел права приближаться. Там же росли другие лечебные травы, неприметные, куцые с виду.
– Почему ты у себя их не выращиваешь? – удивлялась бабушка.
– У меня репутация, а тебе, с твоей тяжелой рукой, уже все равно, – смеялась знахарка.
Бабушка все-таки не могла смириться с тем, что у нее тяжелая рука, и не оставляла попыток заняться садоводством. Она попросила маму прислать ей семена из Москвы. Самые лучшие. Мама, ничего не смыслившая в цветах, просто поехала на рынок в Подмосковье, где бабули торговали семенами, и набрала всего понемногу. Тогда ярких одноразовых пакетиков, с описанием цветка и инструкцией, как за ним ухаживать, не было. Поэтому мама отправила в посылке несколько газетных кульков, в которые ей щедро отсыпали не пойми чего.
Бабушка, как и все в те годы в селе, была уверена – если что-то привезено из Москвы, то обязательно это что-то будет хорошим. Все соседки собрались и рассматривали семена. Все как одна заявили, что таких семян сроду не видели, хотя вроде бы очень похожи на местные. Но, конечно, если из Москвы, то обязательно экзотические. Сажать семена бабушке помогали тоже все соседки – уж очень им хотелось увидеть невиданные цветы, а то у Марии еще и не вырастет ничего. Первой взошла непонятная трава. Соседки удивлялись – трава странная. На цветы совсем не похожа. Когда трава достигла приличного уровня, одна из соседок, не удержавшись, сорвала пучок, растерла на ладони и попробовала.
– Это ж укроп, только мелкий, – объявила она.
Тут же все соседки стали рвать траву и хохотать – укроп, только какой-то странный. Неужели в Москве такой укроп едят? Его ж даже в салат не положишь. Только детям, чтобы в суп играли – насыпать песок в формочки, присыпать травой и кормить кукол. Над «мэлким» укропом потешались долго и с нетерпением ждали остальных всходов.
Следующими проклюнулись странные ростки, стелившиеся по земле. Они быстро выдали неприглядные цветочки. Как называется цветок, никто не знал. Но поскольку вид растение имело жалкий, то про него быстро забыли.
– Что это? – спросила бабушка у Варжетхан, которая знала про все неприглядные травы и цветы.
– О, это же бегония! – восхитилась бабушкина подруга.
– А почему она такая… страшная?
– Не туда посадили. На самое пекло. А так она красивая. Мне нравятся бегонии.
– А мне нет. Надо мной уже все соседки смеются!
Когда стал проклевываться еще один росток, бабушка не стала рассказывать об этом соседкам, а сразу побежала к Варжетхан за консультацией. У дома знахарки стояла очередь из клиенток – кому погадать, кому отвар дать, и она была занята.
– Я тебе что, природоведение? Сходи в школу и возьми учебник. Там про цветы читай! – отрезала Варжетхан.
Бабушка пошла в сельскую библиотеку и взяла все имевшиеся в наличии книги про цветы. Первым делом она нашла иллюстрацию с бегонией. С книжкой в руке она подошла к грядке и стала искать хоть что-то общее. Общее, несомненно, имелось – строение и форма листьев, однако то, что бабушка видела на картинке, можно было назвать бегонией. А то, что она видела у себя в палисаднике, – нет. Какая-то… недобегония. Даже дети для игры не сорвут.
Но оставалась еще призрачная надежда на тот самый, еще один проклюнувшийся росток. Определить по листьям, что это за цветок, бабушка не смогла. Но образец уверенно рос, даже быстрее, чем ожидалось. И вскоре достиг очень даже приличных размеров. С виду цветок выглядел странно – какая-то палка. Бабушка снова разочаровалась и поливала его, скорее, по привычке. Росток превратился в маленькое деревце, размером с вишню. Так, во всяком случае, описывала его бабушка. Что из него может вырасти, она и предположить не могла.
Зато вдруг, под осень, зацвели флоксы. То, что это флоксы, сомнений не было никаких. Бабушка с тоской смотрела на цветы. Судя по энциклопедии, они должны были пахнуть медом, но они не пахли медом, скорее наоборот. Бабушка считала, что они пахнут… туалетом. Точнее, выгребной ямой. Видимо, у нее была какая-то индивидуальная непереносимость запахов, как иногда бывает с лилиями – кому-то нравится, а кто-то с ума сходит от отвращения.
Так вот, у бабушки такое возникло с флоксами, которые, как назло, цвели пышным цветом, разрастались и вызывали зависть соседок. Те приходили смотреть на флоксы и восторгались запахом. Вот эти цветы – точно московские. Так пахнут, так цветут!
Бабушка уходила на задворки участка, где чудом зацвела ромашка, которую бабушка еще год назад без всякой надежды на успех щедро разбросала где попало. Теперь она смотрела на ромашку и чуть не плакала. Какой из нее садовод-любитель, если она готова взять тяпку и выкорчевать все прекрасные флоксы, лишь бы они уже не пахли. Отчего-то флоксы были посажены в том месте палисадника, куда выходило окно бабушкиной спальни. И запах преследовал ее и днем и ночью.
Ночью бабушка вооружилась тяпкой и выкорчевала все кусты флоксов. Безжалостно. Все списала на меня, внучку. Мол, забежала в палисадник, играя в прятки, и все потоптала. Я пыталась возражать, но бабушка выдала мне рубль на кино и мороженое, так что я покорно стояла, повесив голову, и слушала от соседок причитания, что я пошла в мать и никогда не выйду замуж в селе. А буду жить в городе и есть «мэлкий» укроп.
Каково же было удивление соседок, когда торчащая в палисаднике палка оказалась георгином. Как она смогла вырасти такой здоровенной, никто понять не мог. Георгины бабушка просто ненавидела. Когда палка зацвела георгиновыми цветами, она расплакалась и пошла жаловаться Варжетхан.
– Это она специально прислала мне семена, которые я не люблю, – объявила бабушка, имея в виду свою дочь.
– Вот уж сомневаюсь, – рассмеялась Варжетхан, – Ольга в цветах меньше тебя понимает. И вообще, зачем тебе цветы?
– Всегда хотела заходить в собственный сад и срезать цветы, ставить их в вазу. А потом срезать новые. Чтобы каждый день у меня были в доме свежие цветы в вазе.
– Ты и так пионы рвешь, тебе мало?
– Я хочу собственные пионы рвать. В собственном палисаднике. Варжетхан, посади мне что-нибудь, я тебя умоляю. Ты же можешь. Ну хоть однолетние какие-нибудь цветочки. Пусть у меня хоть один сезон цветы будут.
Так, с легкой руки Варжетхан и, как считали соседки, не без применения заклинаний у бабушки появились розовые кусты. Несколько штук в палисаднике и один за туалетом. Тот, который за туалетом, выдавал особенно красивые бутоны. Впрочем, розы в палисаднике хоть и были помельче, но не менее красивые. Бабушка их не срезала, а всячески оберегала – и сухие листы подрезала, и поливала.
У мамы тоже была тяжелая рука. Но я помню, что у нас всегда стояла фиалка на окне. Обычный цветок, подаренный кем-то из гостей. Мама эту фиалку то заливала водой, то засушивала, то сбрасывала в нее пепел, промахиваясь мимо пепельницы, но фиалка цвела. Никакие другие цветы в доме не приживались. Фиалка, пережив засуху, наводнение, отравление табачным дымом, заморозки (мама как-то оставила на время отъезда открытую форточку), умерла не своей смертью.
Соседка тетя Люся оставила нам на хранение, или, как теперь принято говорить, «на передержку», своего кота Максика. Чем думала тетя Люся, прекрасно знающая мою маму и ее любовь к цветам и животным, я не знаю. Возможно, она рассчитывала перевоспитать Максика, который был наглым котярой, метил все вокруг, гадил в тапки, ел только хек и говядину и измотал тетю Люсю своим поведением. Мама честно отказывалась взять Максика на воспитание, но тетя Люся не стала ее слушать. Она уехала в Крым. Ей было все равно. Она мечтала о Крыме последние пять лет, и даже любовь к Максику не могла ее остановить. Надо же было такому случиться, что спустя два дня после отъезда тети Люси, в течение которых кот пометил все мамины туфли, исцарапал обивку на кресле и воротил нос от хека, маму отправили в срочную командировку. Меня, как и Максика, на время маминых командировок тоже отправляли на «передержку» или к бабушке, или к друзьям. Или к друзьям друзей.
Мама быстро нашла для меня временное пристанище (дети вызывают большее сочувствие, чем животные), но Максика, о несносном поведении которого мама успела рассказать в подробностях всем близким и дальним знакомым, брать никто не хотел. И уж тем более кормить его хеком и говядиной.
Маме ничего не оставалось, как оставить Максика одного в квартире. Из всего живого там была только фиалка. Но фиалка привыкла к разгрузочным дням и аскетичному образу жизни, так что даже не рассчитывала на то, что ее отдадут в добрые руки.
Мама завалила кухню хеком – отварным и мороженым, набросала в тарелку колбасы и старых сосисок, налила воды в супницу, чтобы Максик не умер от обезвоживания, и уехала в командировку.
Командировка затянулась. Тетя Люся прислала телеграмму, что тоже задерживается еще на неделю. А может, и на две. Друзья друзей готовы были меня удочерить еще хоть на год. Так что все складывалось удачно. Только не для Максика и фиалки. Про них все забыли напрочь, включая законную хозяйку кота, которая даже не спросила, хорошо ли Максик кушает хек.
Возвращаясь из командировки, мама заехала в овощной магазин – купила свеклы, капусты, морковки, лука, чтобы довезти все на такси, а не тащить потом самой. Когда она открыла дверь квартиры, то увидела промелькнувшую тень. Мама, успев бросить сумки в коридор, захлопнула дверь с другой стороны. Про Максика она не сразу вспомнила. Решила, что в квартире завелись крысы. Когда она снова осторожно приоткрыла дверь, ее догадка подтвердилась – в сумке с овощами сидело существо и жрало капусту. Мама вошла, изо всех сил пнула ногой сумку, и оттуда выскочил Максик с капустным листом в зубах.
Максик исправился. Он больше не просил свежего хека и говядины. Он соглашался на все – фрукты, овощи, макароны и котлеты. Он перестал метить территорию и вел себя как кастрированный кот – ел и спал, ел и спал. И полюбил капустные листы и морковку, только не чистую, вымытую, а грязную.
Максик ластился к вернувшейся из Крыма хозяйке, чего раньше за ним не водилось, и позволял тягать себя за хвост внуку тети Люси. За страдания ему выдавали докторскую колбасу и наливали сливки.
Мама не стала рассказывать соседке, что Максик может питаться даже фиалкой. Он объел несчастный цветок до земли. Ни листика не осталось. Мама не стала выбрасывать горшок и использовала его как раньше – в качестве пепельницы.
Но тема цветов на этом в нашей семье не исчерпалась.
В период увлечения бабушки цветоводством у нее появился поклонник. Тут я должна объяснить. То, что бабушка вышла замуж, ничего не значило. Она, как и прежде, продолжала засиживаться на работе, ездить в командировки и вести тот образ жизни, к которому привыкла.
У бабушки всегда было много почитателей ее таланта. К мужчинам она относилась как к друзьям и очень удивлялась, если они вдруг видели в ней женщину. Нет, никаких романов у нее не было. Может, поэтому ее муж спокойно относился к тому, что к бабушке приезжали мужчины всех возрастов из города, из соседних сел. Или он просто привык и смирился. Бабушке, скорее всего, и в голову не приходило, что ее мужу могут быть неприятны визиты незнакомых мужчин.
У бабушки в тот день был день рождения. Она проснулась утром, умылась, оделась, удивляясь, откуда доносится такой прекрасный запах. То ли воздух так пах, то ли соседи траву покосили – бабушка очень любила запах свежескошенной травы. Когда она вышла на летнюю кухню, там сидел ее поклонник, будем так его называть, специально приехавший из города пораньше. На столе в красивой хрустальной вазе стояли розы. Бабушка ахнула. Розы были свежайшие, чуть ли не с каплями росы на лепестках.
– Какая красота. Никогда у меня таких роз не было! – воскликнула бабушка, будучи уверена в том, что ее поклонник купил цветы в городе и каким-то чудом их довез.
– А? Розы? Нет, я тебе вазу подарил! – удивился в свою очередь поклонник.
Бабушка уставилась на хрустальную бадью.
– А цветы откуда? Ты ведь и цветы… привез? – уточнила бабушка.
– Нет. Зачем? Не довез бы! У тебя срезал. Ты же сама говорила, что срезаешь в палисаднике цветы. Тебе нравится ваза? Я хотел в коробке вазу подарить, но коробка помялась. Некрасиво. А так – красиво.
Помимо гладиолусов бабушка ненавидела хрусталь во всех видах, который ей исправно дарили на день Победы и майские праздники «от лица сельсовета». Хрусталь пылился или в ее кабинете в редакции газеты, или использовался не по назначению. В конфетнице могли храниться нитки, в вазе для фруктов – мишура для Нового года, а одну из ваз – здоровенную бандуру размером с бочонок для засолки огурцов – бабушка использовала как пресс-папье.
Так вот, бабушка медленно встала из-за стола и пошла сначала к туалету, все еще надеясь на то, что поклонник, которого она считала умным и интеллигентным мужчиной, срезал именно «туалетные» розы. Но тот куст по-прежнему цвел. Тогда бабушка вышла в палисадник и увидела обглоданные палки на месте цветущих кустов. Она взяла секатор и вернулась к поклоннику. Он все понял без слов и поспешил удалиться. Больше его в селе не видели.
Бабушка еще долго плакала над уничтоженными кустами. Соседки предлагали ей новые клубни, Варжетхан обещала лично посадить любые цветы и заговорить их на цветение, но бабушка отказалась. Больше она не предпринимала попыток заняться садоводством. В нашем палисаднике остался цветок алоэ, не опознаваемые ни одним справочником травы знахарки и здоровенная палка гладиолуса. В углу огорода по-прежнему росла крапива, цвели редкими всполохами ромашки, и единственным напоминанием о личной трагедии стал «туалетный» розовый куст.
– Почему ты больше не захотела цветов? – спросила у бабушки ее подруга.
– От них одни неприятности, – ответила бабушка и как в воду глядела.
Возложэнэ, или Ленин живее всех живых
Поскольку я росла с бабушкой, то цветы и прочие растения тоже не очень различала и относилась к ним равнодушно. Более того, поскольку я считалась московской девочкой, о многих традициях просто не знала. А бабушка не считала нужным меня просвещать. Скандал разразился там, где не ждали – на торжественной линейке в честь приема в пионеры.
В селе подобные праздники отмечались с размахом и относились к ним со всей серьезностью. Клятву пионера учили назубок, галстуки утюжили, и для такого дня девочкам обязательно шили новый белый фартук. Почему шили? Потому что в селе все шили – и школьную форму, и фартуки. Купить можно было только в городе, но кто же будет тратить время и уж тем более деньги на форму? Форменное платье шили «на вырост», рубашки для мальчиков «удлиняли» или «укорачивали», переставляя манжеты. А пионерские галстуки и вовсе считались семейной ценностью, переходящей от старшего сына или дочери, ставших комсомольцами, к младшим братьям и сестрам. Мероприятие, как правило, было приурочено к очередному съезду партии или другой знаменательной дате. В пионеры принимали на площади около Дома культуры, где стоял памятник Ленину. Ленина тоже готовили – мыли, протирали тряпочкой и всячески полировали.
Все, естественно, собирались семьями – в пионеры отдавали, как замуж. На площади толпились родители, бабушки-дедушки, все двоюродные и троюродные родственники. Дома даже накрывали столы по случаю праздника. И все шли с гвоздиками. Никаких других цветов на приеме в пионеры не было. Откуда взялась эта традиция, никто не знал, но соблюдали ее строго.
Младшим школьникам, особо отличившимся в учебе или в художественной самодеятельности, вменялась почетная обязанность – дарить гвоздики ветеранам войны, ударникам труда и руководству села. То есть всем тем уважаемым людям, кто стоял на трибуне, повязывал галстуки и принимал клятву. Поскольку я была внучкой главного редактора главной районной газеты и у меня были настоящие, а не сшитые фартук и банты, привезенные из Москвы, я вошла в элитную группу «цветочниц».
Девочкам-«цветочницам» велели прийти заранее. Перед нами лежала здоровенная охапка гвоздик – цветы были грудой свалены на лавочке. Пионервожатая – любимица всего села, самая красивая девушка села (за что и была назначена пионервожатой), дочка главного врача села (и за это тоже она была назначена пионервожатой), которую звали Лиана, инструктировала – взять цветы, преподнести. Если кто-то скажет речь, тоже взять цветы из кучки и преподнести. Быстро убежать. Чтобы никто не остался без цветов. Всем улыбаться.
Я немного успокоилась – ничего сложного, взять цветы из кучи, отдать, вернуться.
– А для тебя особое поручение, – остановила меня Лиана в тот момент, когда я уже собиралась сбежать за мороженым, пока не начался прием в пионеры.
– Почему для меня?
– Потому что ты внучка уважаемого человека, главного редактора газеты. Разве не понятно? Тебя избрали для самого главного и ответственного возложения.
– Кто избрал? – промямлила я, поскольку не понимала, что такое «возложение». Лиана произносила это слово как «возложэнэ», а попросить объяснить мне по-осетински я не решилась. Все взрослые говорили со мной по-русски, все подружки и одноклассники – по-осетински. И иногда я лучше понимала по-осетински.
– Я избрала! – гордо ответила Лиана.
Я хотела ей сказать, что она ошиблась с выбором, но она меня не слушала.
– Значит, так, возьмешь цветы из кучи и положишь их к памятнику Ленина. Поняла? Иди медленно и торжественно. Выходи, как только услышишь гимн. Цветы выложи с достоинством, а не просто бросай на постамент. Возложэнэ должно быть красиво. И медленно возвращайся сюда, к лавочке. Все поняла?
– Нет, – прошептала я, но Лиана уже убежала отдавать распоряжения по поводу выноса знамени.
Когда зазвучал гимн, я уже жалела о том, что являюсь внучкой уважаемого человека. Мне было страшно, и гора гвоздик плыла перед глазами. Я взяла из кучки гвоздики и пошла к памятнику. Я честно старалась идти медленно и торжественно. Цветы, как мне казалось, я положила красиво, но потом наклонилась и поправила. Медленно пошла назад. Еле доплелась до лавочки и закрыла глаза.
Очнулась я от нависшей надо мной тени. Даже двух. Надо мной стояли бабушка и Лиана. Бабушка была в парадном костюме, с рядами медалей, которые сверкали на солнце. Лиана стояла с перекошенным лицом. Кажется, у нее даже глаз дергался.
– Что ты сделала? Это же позор! – прошипела бабушка.
– Я ей все рассказала, как надо, – пискнула Лиана. Она чуть не плакала от ужаса.
– Нет, я все-таки отправлю тебя назад к матери, – продолжала шептать мне бабушка, – ты вся в нее.
Я искренне не понимала, что натворила. Шла слишком медленно? Слишком быстро? Некрасиво возложила цветы?
– Бабушка, что я сделала?
– Смотри, – прошипела бабушка и показала на Ленина.
На постаменте лежали мои гвоздики.
– Их две! Ты положила две гвоздики! – Лиана сдерживалась из последних сил. – Как ты могла Ленину две гвоздики положить? Он же живее всех живых!
Я таращила глаза, поскольку не понимала, чем обидела Ленина.
– Два цветка на похороны несут. Ленину надо было три положить или пять. Ты считать умеешь? – бабушка покраснела от гнева.
– Но он же умер… – пролепетала я, – значит, можно и две.
Бабушка охнула, Лиана прижала руки к губам, чтобы подавить крик.
В это время на трибуне для почетных гостей тоже шла жаркая дискуссия. Почетным гостям было скучно в двадцатый раз выслушивать клятву пионера, и они обратили внимание на то, что на постаменте лежат две чахлые гвоздички, причем одна – со сломанным стеблем. Это я сломала, пока несла.
– Почему две? – спросил кто-то из важных гостей из города, у которого в нашем селе жила троюродная тетка, и соответственно троюродный племянник в данный момент из последних сил держал на согнутом локте галстук, ожидая торжественной повязки.
– Не знаю, – ответил второй, – лишь бы никто не заметил. Если в газете появится, будет скандал.
Второй чиновник явно не знал, что пресса в этот момент находилась в непосредственной близости от источника сенсации и брала интервью у главной героини этой сенсации.
– Всегда три было или пять, – продолжал рассуждать первый чиновник, – может, распоряжение вышло?
– Может, и вышло, – ответил второй, – регионы иногда быстрее узнают новости, чем мы, тем более здесь.
– Почему? – не понял первый.
– Как почему? Вон Мария стоит – главный редактор местной газеты, у нее дочь живет в Москве, юристом работает, а эта девочка, которая две гвоздики положила, ее дочь, то есть внучка главного редактора. Вот и думай сам. Что мы не знаем, что они знают.
– А что тут думать? Надо остальным сказать, что теперь по две гвоздики надо Ленину класть, а то узнают, что мы до сих пор по три кладем, – скандала не оберешься.
– Да, я тоже думаю, что это неспроста. Но почему нас в известность не поставили?
– Значит, кто-то недоработал. Надо узнать кто. И уволить, пока не поздно. Если спросят, мы отчитаемся, что виновные понесли заслуженное наказание.
Что было дальше, я не знаю, честно. То есть на республиканском уровне. А на местном уровне бабушка бегала за мной с крапивой по всему огороду и обещала отправить к матери первым же поездом. Лиана быстро приняла предложение выйти замуж за бывшего одноклассника, которого еще до этой торжественной линейки считала недостойным своей руки. Уже через месяц она ходила беременная. Поскольку замужняя женщина, тем более беременная, не могла быть пионервожатой, Лиана с радостью уволилась из школы и погрузилась в домашний быт. Как ни странно, ее скоропалительный брак оказался счастливым.
Бабушка с тех пор шарахалась не только от букетов гладиолусов, но и от гвоздик.
Зато полюбила маки. Тогда выращивание маков не считалось уголовно наказуемым преступлением, и я прекрасно помню, как обрывала головки дикорастущих маков в поле. Помню вязкую жидкость, похожую на молоко. И запах, от которого кружилась голова. Бабушка бросила копать картошку и засадила грядки маками. За маковыми семечками для пирога к ней приходили все соседки.
Пять свадеб
Главными светскими событиями в нашем селе были свадьбы и похороны. На них съезжались родственники, близкие и дальние, из других сел и городов. Приглашались и все жители села, автоматически считавшиеся родней по месту жительства. На свадьбах молодые люди присматривали себе пару, девушки старались показать себя в лучшем ракурсе и продемонстрировать умение танцевать, так что к следующим за свадьбой похоронам родители потенциальных жениха и невесты готовились особенно тщательно – на поминках можно было договориться о приданом. Незамужняя девушка свадьбу даже четвероюродной племянницы ни за что бы не пропустила. Ее мать, а также бабушка, прабабушка, двоюродная бабушка, тетя по отцу, тетя по матери и прочие золовки и снохи, ни за что не пропустили бы похороны, к которым полагалось шить отдельное платье. Где, как не на похоронах, можно обсудить счастье «девочки» и разузнать, кто из достойных молодых людей ищет себе невесту. То есть свадьбы и похороны становились не столько поводом для радости или горя, сколько деловой встречей, на которой стояла задача найти партнера, обсудить финансы, детали договора и масштабы выплат в случае его расторжения. В переводе на сельский язык такие массовые сборища были лучшим способом показать дочь, обсудить, сколько баранов она может принести в семью, поторговаться насчет телевизора – черно-белого или даже цветного в качестве выкупа, возможно, попросить еще ковер или пианино. Никто не шел на свадьбу как на свадьбу. Никто не шел на похороны как на похороны. Это был бизнес, ничего личного.
Опять же, согласно традициям, на свадьбах и похоронах было принято оставлять деньги в конвертах на специальных подносах, которые стояли на видном месте. Поскольку оба «мероприятия» длились как минимум три дня, эти деньги покрывали стоимость проведения действа. Все гости старались приехать в первый день, чтобы оставить конверт – родственники из этих конвертов, как правило, оплачивали церемонию зарезания бычка и баранов, услуги плакальщиц. Эти же деньги шли на музыкальное сопровождение, услуги тамады и прочее. Лучшей свадьбой считалась та, в которой родственники «вышли в плюс» – то есть не только оплатили праздник, но еще и молодым осталось…
На свадьбах, как и на похоронах, требовалось неукоснительно соблюдать все традиции – и национальные, и советские. Невеста, потупив глаза в пол, должна была стоять в углу дальней комнаты, а покойник – лежать в гробу в центральной комнате дома на самом большом столе. К невесте подходили женщины, поднимали фату и плевали ей в лицо – от сглаза. К покойнику тоже подходили, кидались на гроб, плакали, рвали волосы и иными способами выражали горе. Если усопший был важным человеком в селе, то к нему приводили пионеров, комсомольцев, организовывали заход и выход, по времени, чтобы люди не толпились в комнате. Пионеры проходили, отдавали пионерский салют, комсомольцы прикладывали руку к значку на груди. Октябрята, по счастью, были избавлены от такой повинности. Поскольку похороны, как и свадьбы, в селе случались регулярно, то пионеры проходили мимо гроба организованной цепочкой, быстро салютовали и выходили, чтобы не задерживать движение. Как на параде.
Гроб стоял в комнате три дня, и ближайшие родственники должны были скорбеть днем и ночью, сидя рядом.
Покойника торжественно выносили на руках и на руках же несли до кладбища. Уже там заколачивали крышку, давая возможность родным и близким проститься еще раз. Вдовы, согласно традиции, непременно в последний момент перед заколачиванием кидались на грудь покойного и умоляли похоронить себя вместе с усопшим супругом. Специально для того, чтобы отрывать женщин от гроба, на изготовку стояли двое мужчин из числа родственников.
Многие вдовы совершенно не собирались хоронить себя заживо. Уже на поминках они имели право со светским видом обсуждать планы «Залины, дочки Аслана» на брак с «Аликом, сыном Батраза». Залина и Алик в это время смотрели друг на друга из разных концов двора. Тут же, на поминках, выяснялось, что Алан сделал предложение Фатиме и свадьба будет через два месяца. Из чего следовало, что женщинам срочно нужно новое платье.
Если девушка была красивой, то сумма выкупа за нее существенно снижалась, если была умной, то повышалась: умная невестка – горе свекрови. Если девушка умела танцевать или играть на осетинской гармошке, то торг считался уместным. Если же потенциальная невеста происходила из богатой семьи или уважаемого, пусть даже и не очень богатого рода, была хороша собой, умела танцевать и играть на гармошке, училась в институте, то уже она сама решала – за кого ей выходить замуж. И тогда на чужой свадьбе потенциальный жених должен был ее «завоевать» – устроить показательный танец или сделать что-нибудь выдающееся. Если же девушка была из бедной семьи, но при этом слыла покорной, вежливой, да еще и красавицей, то уже она должна была «показать» себя. Так станцевать, поднести угощение, чтобы юноша из уважаемого рода обратил на нее внимание.






