Последние дни наших отцов Диккер Жоэль
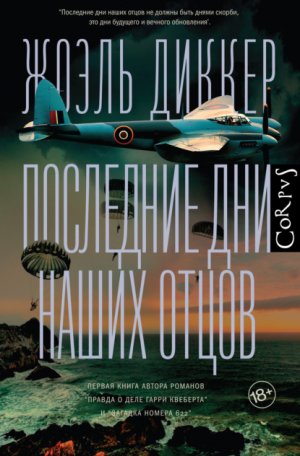
– Думаю, сразу после того, как попаду во Францию.
Фарон дал ему адрес.
– Про это место не знает никто. Даже Станислас, понимаешь, о чем я?
– Почему?
– У каждого свои секреты, приятель. Ты же сам сказал.
Они улыбнулись друг другу. Первый раз за все время, проведенное в Лондоне. Может, первый раз за все время их знакомства.
Той же ночью, позже, когда Пэл уснул, Фарон встал и заперся в туалете. Прочел стихи Пэла. И выключил свет: он плакал.
* * *
Назавтра был их последний день в Лондоне. Они провели в Англии две недели. Пэл объявил о своем отъезде Франс Дойл, а вечер провел со Станисласом.
– Попутного ветра, – сдержанно сказал Станислас на прощание.
– Передай от меня привет нашим, когда их увидишь.
Старый летчик обещал.
– Особенно Лоре… – уточнил Пэл.
– Особенно Лоре, – ласково повторил Станислас.
Пэл так жалел, что не встретился с Лорой. В увольнении он в основном ждал ее в Блумсбери, верный, полный надежды, подскакивая от малейшего шума. И теперь грустил.
Вернувшись в квартиру, он обнаружил полуголого суетящегося Фарона. Через пару минут тот зашел к Пэлу в гостиную.
– Мне нужна ванная…
– Ну так занимай. Мне не надо.
– Я надолго.
– Да на сколько хочешь.
– Спасибо.
Фарон закрылся в ванной. Сидя в воде с карманным зеркальцем в руках, он тщательно побрился. Долго отмывался, потом подровнял волосы, как следует вымыл голову и на сей раз обошелся без помады. Надел белый костюм и полотняные туфли, тоже белые. Приведя себя в порядок, повесил на шею крестик Клода на веревочке и, глядясь в зеркало, стал бить себя кулаком в грудь, сильно, ритмично – отбивал военный марш последнего отпущения грехов. Он каялся. Просил прощения у Господа. И перед своим отражением прочел стихи Пэла. Он выучил их наизусть.
- Пусть откроется мне путь моих слез,
- Мне, души своей мастеровому.
- Не боюсь ни зверей, ни людей,
- Ни зимы, ни мороза, ни ветра.
- В день, когда уйду в леса теней, ненависти и страха,
- Да простятся мне блужданья мои, да простятся заблужденья,
- Ведь я лишь маленький путник,
- Лишь ветра прах, лишь пыль времен.
- Мне страшно.
- Мне страшно.
- Мы – последние люди, и сердцам нашим в ярости недолго осталось биться.
Фарона с утра преследовало предчувствие. Он должен был испросить у Господа прощение за все, что сделал, и помощи, чтобы быть стойким до последнего вздоха. Ибо в эту минуту он знал, что скоро умрет.
* * *
Фарон вышел в гостиную через два часа, преображенный, с чемоданом в руке.
– До свидания, Пэл, – торжественно произнес великан.
Сын смотрел на него с удивлением:
– Ты куда?
– Вершить свой долг. Спасибо за стихи.
– Ужинать не будешь?
– Нет.
– Ты прямо с чемоданом? Больше сюда не вернешься?
– Нет. Увидимся в Париже. Адрес у тебя есть.
Пэл в недоумении кивнул. Фарон с силой пожал ему руку и ушел. У него дела, он должен ехать. Нельзя опаздывать на самое важное в мире свидание.
* * *
Он объехал несколько кладбищ, испрашивая прощение у мертвых, потом ходил по городу и раздавал деньги обездоленным, которым прежде не помогал никогда. Наконец он попросил высадить его в Сохо, у проституток. В январе, когда он вернулся в Лондон и встретился с остальной группой, когда его отвадила Мари и высмеяла Лора, ему пришлось идти к проституткам. В комнатах борделей он избил несколько девушек просто так или оттого, что злился на весь свет. Фарон просил прощения у первых встречных шлюх. Держался уже не как заносчивый солдат: горбился, винился, опустив глаза и склонив голову. И покаянно твердил, целуя висевший на шее крест: “Да простятся мне блужданья мои, да простятся заблужденья, ведь я лишь маленький путник, лишь ветра прах, лишь пыль времен. Прости меня, Боже… Прости меня, Боже…”
На какой-то улочке ему встретилась девушка, которой он дал пощечину; она узнала его, несмотря на его белые, как у призрака, одежды.
– Веди меня к себе, – заорал он на своем топорном английском, теряя голову.
Она отказалась. Ей было страшно.
– Отведи меня, я ничего тебе не сделаю.
Он встал на колени и с мольбой протянул ей купюры:
– Отведи меня, спаси меня.
Денег было много. Она согласилась. Входя за ней в мрачное здание, перед которым она стояла, он говорил сам с собой по-французски:
– Ты прощаешь мне? Ты прощаешь мне? Если ты не простишь, кто меня простит? Если ты не простишь, Господь меня не простит. А это надо, надо, чтобы я мог умереть достойно!
Девушка ничего не понимала. Они вошли в комнату на третьем этаже. Маленькую грязную нору.
Фарон еще раз попросил у нее прощения за пощечину. Да, если она найдет в себе силы его простить, он сможет ехать во Францию с миром. Ему нужен был мир, по крайней мере, пока он не взорвет “Лютецию”. Потом Вседержитель может делать с ним все что угодно во искупление его злополучной жизни. Пусть Господь сделает его евреем – это высшая кара. Да, когда его схватит гестапо, он поклянется, что он иудей.
Они стояли друг напротив друга. Она в страхе, а он бормоча, как безумный.
– Потанцуем! – вдруг воскликнул он.
Он заметил патефон. На девице было грубое черное платье из скверной ткани, душившее ее нескладное тело. Но ему она казалась красавицей. Он поставил иголку на дорожку, комната наполнилась музыкой. Она не двигалась. Он подошел к ней, бережно обнял, и они стали танцевать – медленно, держась за руки, закрыв глаза. Они танцевали. Танцевали. Он крепко обнял ее. И чем крепче прижимал к себе, тем сильнее молил Бога простить ему грехи.
В те минуты, когда Фарон танцевал в последний раз, Пэл в Блумсбери, стоя с обнаженным торсом перед зеркалом в ванной, вонзал кончик перочинного ножа в свой шрам, обновляя его. Поморщился от боли. И прекратил, только когда заблестела капля крови. Пурпурной, почти черной крови. Он дал струйке стечь, омочил в ней пальцы и благословил свою кровь, ибо это была кровь отца. Отец, которого он два долгих года считал таким далеким, всегда был рядом – он все это время тек в его жилах. И, заново поставив на себе клеймо негодного сына, он проклял войну. УСО, его задание – все это неважно. Отныне единственной, неотвязной его мыслью будет увезти отца подальше от Парижа и укрыть в надежном месте.
36
Две недели впустую. Кунцер, пожевывая погасший окурок, чертыхался. Он стоял на улице и незаметно наблюдал за входом в здание на улице Бак. Две недели он следил за этим человеком, и все напрасно. Две недели неустанной слежки, и всякий раз одно и то же кино: в полдень мужчина уходил с работы, ехал на метро домой, проверял почтовый ящик и сразу уезжал обратно. Какого черта он ждал? Писем от той девицы? Он не мог знать, что она арестована. Почтовый ящик был пуст, а мужчина вел жизнь скучнее некуда – ничего не происходило, вообще ничего. Никогда и ничего. Кунцер яростно пнул ногой воздух. Никакого следа, он только терял время на ожидание, на слежку. Он даже по ночам наблюдал за почтовым ящиком. Если этот человек – важный агент УСО, как утверждает девица, хоть что-то подозрительное он должен был обнаружить? Но ничего не обнаруживалось. Может, и его задержать, подвергнуть пытке? Нет, бесполезно. Да и пытать он не любил. Боже, до чего он это не любил! Хватит с него девицы, к тому же не так уж много она выболтала. Храбрая. Ох, он до сих пор из-за этого плохо спит! Она заговорила только под градом ударов. Ему казалось, что он избивает Катю, – девушка была так на нее похожа! Рассказала только о письмах; ее роль явно сводилась к доставке сообщений от какого-то британского агента, причем только в этот почтовый ящик. Больше ничего полезного он не выяснил. Не узнал ничего нового о возможном присутствии агентов в Париже. Она назвала несколько имен, но выдуманных, это понятно. Скрыла ли что-то важное? Вряд ли. Она лишь девочка на побегушках, пешка. Агенты спецслужб следят, чтобы исполнители знали о них как можно меньше. Что за чертовщину затевает УСО в Париже? Какую-то масштабную диверсию? Девушка наверняка знала кого-то из бойцов Сопротивления, но сейчас ему было не до них: он хотел заполучить англичан – тех, кто бомбил Гамбург. Пускай Сопротивлением занимается Пес или макаки из гестапо. Девица больше ничего не скажет, это ясно. Храбрая. Или круглая дура. Он все-таки пока придерживал ее на холодке, в “Лютеции”, немножко щадил: когда он с ней закончит, то отдаст ее гестапо, на улицу де Соссе. Там ей будет очень больно.
Мужчина снова вышел из дома с унылым видом, и Кунцер внимательно оглядел его. Он только наблюдал, ничего больше. В почтовом ящике ничего не было, Кунцер это знал, порылся до прихода мужчины. Он посмотрел вслед маленькой фигурке, направлявшейся к бульвару Сен-Жермен: кто это, черт возьми, мог быть? Только смешной мелкий служащий. В нем не было ничего от британского агента, он никогда не оглядывался, ничего не проверял, не проявлял беспокойства. Сколько дней он следил за ним, иногда почти не скрываясь, а тот ни разу его не заметил! Либо это величайший шпион, либо ему нечего скрывать. Дни его проходили на редкость однообразно: каждое утро он уходил в одно и то же время, ехал на метро в министерство. Потом, в полдень, возвращался, шарил в почтовом ящике и снова уезжал на работу. Какая-то совсем уж удручающая рутина, Кунцер был сыт по горло.
Несколько раз он заходил в камеру к девушке, снова спрашивал:
– Кто этот человек?
И получал один и тот же ответ:
– Важный агент из Лондона.
Он не верил в это ни секунды: не таков этот тип, чтобы подготовить операцию на базе Пенемюнде. И все-таки он был убежден, что девица не врет: она приезжала к этому почтовому ящику не один раз, притом с оружием, и посылали ее британские спецслужбы. Но не ради этого человека, это же нонсенс. Главное – выяснить, кто давал ей эти письма. Ничего стоящего она не сказала. На первом допросе он вышел из себя: девица отказывалась говорить.
– Кто вам дал эти письма, мать вашу? – заорал он.
Какой ужас – орать на Катеньку, на свою милую малышку, словно на плохо выдрессированную собаку, которая не желает исполнять забавный трюк. Она не помнит, сперва высокий блондин, потом маленький брюнет, его звали то ли Сэмюэл, то ли Роджер, она его видела всего один раз, он оставлял письма в распределительном щитке какого-то дома. Кунцер смотрел на нее с восхищением: храбрая какая, как его Катя. Он повторил вопросы, пытаясь дать ей шанс, избавить от избиения. Но пришлось бить. Он говорил с ней на “вы”, любовно глядел на нее, на свою воскресшую Катю, втайне ласкал; а потом бил по щекам, бил палкой, словно непослушное животное. Но животное – это он сам. Вот во что его превратили проклятые англичане, стершие с лица земли Гамбург, истребившие женщин и детей – вот во что они его превратили. В животное. А бедняжка кричала, что даже не читала этих писем. Он ей верил. Прочти она их, могла бы спасти себе жизнь.
Кунцер провожал мужчину взглядом, пока тот не свернул на бульвар и не скрылся из виду. Сегодня он за ним не пойдет, не хочется энный раз ездить впустую к какому-то жалкому министерству. Пусть идет. У французской полиции на него ничего не было; незнакомец, человек без прошлого, пустое место. Агент абвера постоял неподвижно еще пару минут, убеждаясь, что мужчина в самом деле ушел, потом вошел во двор дома. Еще раз заглянул в почтовый ящик: пусто, конечно. Ему пришло в голову зайти в квартиру этого мужчины; там он еще не был, это последняя ниточка. Но сразу подниматься не стал: он чувствовал, что на него кто-то смотрит. Поднял голову, посмотрел на окна жилых этажей – никого. Незаметно обернулся и заметил, что дверь в каморку консьержки приоткрыта, а за ней виднеется чья-то тень, следящая за ним.
Он направился к каморке, и дверь тут же захлопнулась. Он постучал, консьержка как ни в чем не бывало открыла. Редкая уродина, грязная, мерзкая распустеха.
– Что надо? – спросила она.
– Французская полиция, – ответил Кунцер.
Какой он дурак, зачем уточнять “французская”. Французские полицейские так не говорят, ему же не поверят. Ему не хотелось представляться официально, французская полиция всегда вела себя добродушнее. Но женщина придираться не стала; говорил он без малейшего акцента, а с полицией она, видно, дела не имела.
– Вы за мной наблюдали? – спросил он.
– Нет.
– Что ж вы тогда делали?
– Я слежу, кто заходит в дом. Из-за мародеров. Но я сразу поняла, что вы не из таких.
– Естественно.
Он решил расспросить консьержку о мужчине, раз выпал такой случай.
– Вы его знаете? – он назвал того по имени.
– Само собой. Он сколько уж тут живет. Лет двадцать, если не больше.
– Что вы можете о нем сказать?
– У него неприятности?
– Здесь я задаю вопросы.
Консьержка вздохнула и пожала плечами:
– Славный малый, ничего интересного. Но что от него понадобилось полиции?
– Не ваше дело, – раздраженно ответил Кунцер. – Он живет один?
– Один.
– Родных нет?
– Жена умерла…
Консьержка говорила со скоростью телеграфа. Кунцер разозлился еще больше. Мямля, цедит по слову в час, а у него каждая минута на счету.
– Что еще? – отчеканил он.
Она вздохнула:
– Сын у него есть. Но не здесь.
– Что значит “не здесь”? Он где?
Она снова пожала плечами: ее это не касается.
– Уехал.
Это было уже чересчур; Кунцер схватил ее за рубаху и встряхнул. До чего грязная, прикоснуться противно.
– На неприятности напрашиваетесь?
– Нет, нет, – заныла толстая уродина, защищая руками лицо; она не привыкла к такой грубости. – Сын у него уехал в Женеву.
– В Женеву? – он отпустил ее. – Как давно?
– Примерно два года как.
– Что он там делает?
– В банке он, в банке. В Швейцарии все только по банкам и сидят, а то сами не знаете.
– Его имя?
– Поль-Эмиль.
Кунцер расслабился. Вот это полезная информация. Надо было потрясти эту толстую консьержку еще две недели назад.
– Что еще?
– Отец получал открытки из Женевы. Штуки четыре или пять, по крайней мере. Он их мне читал. Сын пишет, что все хорошо.
– И какой он, этот сын?
– Хороший мальчик. Вежливый, воспитанный. Нормальный, в общем.
Кунцер презрительно взглянул на женщину: больше из нее ничего не вытянешь. И, чтобы показать свое отвращение, вытер руки об ее платье.
– Мы с вами не разговаривали. Вы меня никогда не видели. Иначе вас расстреляют.
– Какое право вы имеете так себя вести, вы? Что за свинство! Вы не лучше немцев.
– Мы хуже, – улыбнулся Кунцер. – Так что ни слова!
Женщина, повесив голову, кивнула, опозоренная, униженная. И скрылась в своей каморке.
Кунцер, взбодрившись от новых сведений, незаметно поднялся к двери квартиры на втором этаже. Позвонил – никакого ответа. Так он и думал, просто мера предосторожности. Он колебался – то ли взломать дверь, то ли сходить к консьержке за ключами; он знал, что она его не выдаст, тряпка. Лучше взять ключи – мужчина не должен заметить, что кто-то к нему заходил. Прежде чем спуститься, Кунцер, сам не зная зачем, нажал на ручку двери – просто так. К его великому удивлению, она оказалась не заперта.
* * *
Он осмотрел квартиру, держа кисть на рукояти люгера, безопасности ради. Пусто. Почему дверь открыта, если дома никого нет? Он стал методично обшаривать комнаты в поисках хоть сколько-нибудь вразумительного знака; времени у него сколько угодно, чиновник вернется только под вечер.
Квартира заросла пылью, в ней царила невероятная печаль. В гостиной стоял детский электрический поезд. Кунцер тщательно изучил каждый уголок: открывал книги, заглянул в сливной бачок, за мебель. Ничего. Его снова охватило отчаяние, все это дело – сплошная бессмыслица. Что делать? Снова избить девицу? Отправить ее в Шерш-Миди напротив “Лютеции” – там знают толк в пытках? Сдать ее на улицу де Соссе, пусть размозжат ее милое личико в допросных на шестом этаже? Его затошнило.
Он проверил, не оставил ли после себя следов, а потом, уже уходя, увидел в маленькой гостиной на камине золоченую рамку. Как он раньше ее не заметил? Фотография юноши. Наверняка сын. Он подошел, рассмотрел фото, взял его в руки, потом приподнял книгу, на которой оно стояло. Открыл. Из нее выпало девять открыток с видами Женевы. Вот они, те самые пресловутые открытки. Он несколько раз перечитал их – совершенно безликий текст. Код? Слова часто повторялись: если и код, то вряд ли что-то важное. Кунцер отметил, что ни марки, ни адреса нет. Как эти открытки сюда попали? Неужто это те самые письма, какие доставила девушка? Ездила сюда при оружии ради этих жалких клочков бумаги? Как это связано с английскими агентами?
Он положил первую попавшуюся открытку в карман. Они не датированы, никакой хронологии не выстроишь. Он вышел, на лестничной площадке с удовольствием закурил. И подумал, что надо бы, наверно, заняться не отцом, а сыном.
37
Здание Лоры на Севере было почти выполнено; теперь она ждала из Лондона приказа о возвращении. Она так спешила домой. Думала только об одном – снова увидеть Пэла. Работа одинокой пианистки вымотала ее, одиночество измучило сильнее, чем страх гестапо и абверовских локационных станций. Она хотела вернуться в Лондон, хотела Пэла – прижать его к себе, слышать его голос. Она так устала от войны, с нее было довольно. Да, ей хотелось уехать с Пэлом далеко-далеко, выйти замуж, создать семью. Они обещали друг другу уехать в Америку, если война не кончится, а война, похоже, и не думает кончаться. Америка! Она думала о ней постоянно.
Когда до возвращения оставались считанные дни, с Бейкер-стрит пришло сообщение для Эрве – агента УСО, ответственного за задание. Расшифровав его, она невольно расплакалась. Она не едет домой, ей надо в Париж, кому-то из агентов нужна радистка.
– Что случилось? – спросил Эрве, стороживший у окна.
Он опустил штору и подошел к ее столу. Она выключила передатчик, провела рукой по щекам, стирая слезы.
Эрве прочел записанное ею сообщение.
– Мне очень жаль, – произнес он. – Знаю, как тебе не терпелось обратно.
– Мы все в равных условиях, – всхлипнула она сквозь невольные слезы. – Прости, пожалуйста.
– За что?
– За то, что реву.
Он отеческим жестом погладил ее по голове.
– Тебе впору выть, Лора.
– Я так устала.
– Знаю.
Эрве не так легко было смутить, но тут он почувствовал, как кольнуло сердце. Ему было больно за эту красавицу-блондинку. Сколько же ей лет? От силы двадцать пять. Всегда старательная, приятная в общении. У него самого дочь примерно ее ровесница; они с женой и сыном-подростком жили неподалеку от Кембриджа. Он бы никогда не допустил, чтобы его дочь отправилась на войну, на эту мучительную для всех войну. Еще совсем недавно он радовался известию, что миссия Лоры завершена: вернется живая и здоровая. А теперь что с ней будет? Прогуляется в Париж с передатчиком величиной с чемодан? Обычный досмотр где-нибудь на вокзале, и ее раскроют.
Лора немного успокоилась только через несколько часов. Ей было страшно – до сих пор ее не посылали на задание в одиночку. Ее, радистку, всегда сопровождал кто-то из агентов или даже несколько. Мысль о том, что придется одной ехать по Франции, приводила ее в ужас.
Прошло несколько дней, ячейка снабдила Лору новыми фальшивыми документами. Накануне отъезда она сложила вещи в небольшой кожаный чемодан, в другом был передатчик. Эрве зашел к ней в комнату.
– Я готова, – сказала она, вытянувшись по стойке смирно.
Он улыбнулся:
– Ты же только завтра едешь.
– Я боюсь.
– Это нормально. Старайся держаться как можно естественнее, никто не обратит на тебя внимания.
Она кивнула.
– Оружие есть?
– Да, кольт. В сумочке.
– Отлично. А таблетка L?
– Тоже есть.
– Это всего лишь предосторожность…
– Знаю.
Они уселись на кровать Лоры.
– Все будет хорошо, совсем скоро увидимся в Лондоне, – сказал Эрве, дружески накрыв ее руку своей.
– Да, в Лондоне.
Следуя сообщению из Лондона, Эрве еще раз повторил девушке инструкции, касающиеся ее задания. Он организовал ей поездку в Париж с членами Сопротивления: в фургоне ее довезут до Руана, там она переночует. Назавтра сядет в первый же поезд на Париж. Или послезавтра, или еще через день, если того потребуют правила безопасности. Главное – ни в коем случае не садиться в поезд, если она почувствует хоть малейшую опасность или если заметит предварительный досмотр либо контроль. Но в столицу ей нужно в любом случае прибыть до полудня: неважно, в какой день, но до полудня. По прибытии она должна направиться прямо ко входу в метро на станции “Монпарнас”, там ее будет ждать агент УСО, дальнейшее – его забота. Агент подойдет сам, ей ничего предпринимать не нужно. Он скажет: “Две ваши книги у меня, они вам по-прежнему нужны?”, она ответит: “Нет, спасибо, хватит одной”. Затем агент сведет ее со своим контактом в Сен-Клу, неким Гайо. Если в Париже начнутся проблемы, Гайо ее вытащит.
Эрве заставил Лору повторить инструкции и дал ей две тысячи франков. Назавтра ее вывезла в фургоне семья огородников из-под Руана, членов Сопротивления. Сердце ее было разбито вдребезги.
38
В слезах, весь в поту, он третий раз переворачивал вверх дном всю квартиру. Двигал мебель, поднимал ковры, вытаскивал книги из шкафа, рылся даже в корзинах для мусора. Одной открытки не хватало. Какого черта, как это может быть? Он любовно пересчитывал их каждый вечер. А потом, пять дней назад, одна исчезла. То был вечер среды. Его любимый вечер. Сперва он не встревожился, поискал между страниц книги. Ничего. Потом посмотрел на полу, в камине. И там пусто. В панике он обыскал всю квартиру. Тщетно. Назавтра он, пришибленный, проделал обычный путь до министерства и перерыл все ящики письменного стола. На всякий случай. Он знал, что никогда не уносил их с улицы Бак. Они могли быть только там. Он тщательно обшарил квартиру, каждый уголок. Искал везде. Не мог спать. Искал снова и снова. И теперь, на пятый вечер, после последних отчаянных поисков, убедился, что открытки в квартире больше нет. Так где же она?
Выбившись из сил, он повалился в кресло, переехавшее на время розысков в прихожую. Собрался с мыслями. Попытался понять. И вдруг хлопнул себя по лбу: кто-то к нему заходил! Его обокрали! А он ничего не заметил! Что еще у него унесли? В квартире теперь такой беспорядок, непонятно, все на месте или нет. Два года он не запирал дверь. Два года, с тех пор как уехал Поль-Эмиль, два года он не поворачивал ключ в замочной скважине. Уже два года. Немудрено, что в один прекрасный день его обокрали. Наверно, какой-нибудь бедняга искал еду: мяса теперь выдавали только сто двадцать граммов. Отец надеялся, что воришка, совершивший это злодеяние, хотя бы поест как следует. Наверняка он взял и серебро, перепродаст его за хорошие деньги. Но зачем воровать открытку? Открытки нельзя съесть.
Утром, уходя на работу, отец постучался в каморку консьержки. Она открыла, вид у нее был очень скверный. А увидев его, словно обезумела, как будто он был привидением.
– Некогда мне, не до вас! – в ужасе вскрикнула она.
– Меня обокрали, – грустно сказал он.
– А-а.
Казалось, ей совсем нет дела до его неприятностей. Она хотела было закрыть дверь, но отец не дал, просунул в щель ногу:
– Это значит, что у меня украли вещи, – пояснил он. – Это преступление, понимаете?
– Сочувствую.
– Другие квартиры у нас в доме не обворовывали, не знаете?
– По-моему, нет. А теперь прошу прощения, я занята.
Она отпихнула ногу отца, хлопнула дверью и заперла ее на задвижку, оставив беднягу одновременно в растерянности и в ярости. Ах ты, грязная уродина! Сегодня она показалась ему еще толще обычного. Он решил, что больше ничего не станет дарить ей на Рождество. И сегодня же вечером пойдет подаст жалобу в полицию.
39
Начало октября, суббота. Фарон встретился с Гайо из Сопротивления перед Нотр-Дам. Они как ни в чем не бывало гуляли в толпе прохожих, грелись на осеннем солнце. Прекрасный денек.
– Рад, что ты вернулся, давненько тебя не было, – произнес Гайо, чтобы завязать разговор.
Фарон кивнул. Гайо подметил, что тот выглядит иначе, чем обычно, – спокойный, умиротворенный, счастливый. Прямо удивительно.
– Что война? – спросил он.
– Идет помаленьку, – уклончиво ответил великан.
Гайо усмехнулся – из Фарона никогда слова не вытянешь. Сейчас он уже привык и не дал сбить себя с толку.
– Ладно, – сказал он, – чем могу быть полезен? Ты же небось со мной связался не только ради удовольствия меня видеть?
– Не только.
Прежде чем продолжить, Фарон огляделся и отвел Гайо в сторонку.
– Сколько людей можешь дать? Хорошо подготовленных. И еще нужен пластит. Много.
– Крупная операция?
Фарон с важным видом кивнул. Он еще не знал, как взяться за “Лютецию”, порядок действий зависит от ресурсов, которые будут в его распоряжении. Гайо станет главным поставщиком взрывчатки. О том, чтобы запросить у УСО переброску груза прямо в Париж, нечего было и думать, к тому же про “Лютецию” никто не знал. Он поставит в известность Портман-сквер, только когда все будет готово и Генеральный штаб уже не сможет ему отказать.
– Надо посмотреть, – сказал Гайо. – Давай я погляжу. Сделаю, что смогу. Сколько тебе нужно человек?
– Сам точно не знаю.
– Ты один в деле? Я имею в виду… от ростбифов.
Фарон быстро обернулся, внезапно занервничав. Нельзя произносить такие слова на людях. Но упрекать Гайо не стал, чтобы не обидеть: он был в положении просителя.
– Наверно, нас будет двое или трое. На днях должен приехать радист, а за ним еще один парень, тоже скоро.
– Можешь на меня рассчитывать, – сказал Гайо, пожимая исполину руку.
– Спасибо, товарищ.
Они разошлись.
Фарон направился обратно, к Ле-Аль. Потом свернул к Большим бульварам и полтора часа ходил по городу во всех направлениях, проверял, нет ли слежки. Он всегда так делал после контакта.
Пока он в Париже один, его сбросили без радиста. Не любил он оставаться вот так, без связи с Лондоном. Пока ему было предписано в случае проблем обращаться к Гайо, но тот, несмотря на все достоинства, был не из УСО, и Фарон с нетерпением ждал прибытия пианиста. На Портман-сквер, перед отъездом из Лондона, Фарона предупредили, что Марк, его парижский радист, отправлен в какую-то ячейку на востоке страны. Фарон огорчился, что его разлучают с Марком: он доверял ему, это был хороший агент. Бог знает, кого ему пришлет Лондон. В полдень он снова ждал заменяющего у метро “Монпарнас”. Но тот снова не приехал, по крайней мере, он не видел никого похожего на радиста. Согласно инструкции, он должен был ждать пианиста в полдень у входа в метро, завязать разговор: “Две ваши книги у меня, они вам по-прежнему нужны? – Нет, спасибо, хватит одной”. И повторять эту комедию каждый день, пока они не встретятся. Он терпеть не мог все эти инструкции, они порождали опасную рутину. Каждый день ждать в одном и том же месте, в один и тот же час значит привлекать к себе внимание. Он старался менять внешность и растворяться в толпе: то стоял у киоска, то заходил в кафе, то сидел на скамейке; надевал то очки, то шляпу. Не нравилось ему это, и если он решит, что радист ненадежен, то отправит его ночевать к Гайо ради безопасности своего убежища. Диверсия в “Лютеции” прежде всего.
В третий округ, где находилась его конспиративная квартира, Фарон вернулся на метро. Специально вышел на предыдущей станции и дошел пешком. У самого дома остановился у киоска, купил газету, в последний раз огляделся и вошел в здание.
Квартира была на четвертом этаже. Поднявшись на второй, он почувствовал, что сзади кто-то есть – идет за ним, стараясь ступать как можно тише. Как он раньше не заметил? Не оборачиваясь, он быстро одолел оставшиеся ступеньки и схватился за стилет в рукаве. На своей площадке резко развернулся – и застыл. Это был Пэл.
– Идиот! – прошипел Фарон сквозь зубы.
Сын улыбнулся и дружески хлопнул его по плечу.
– Рад тебя видеть, старый придурок.
* * *
Два дня назад Пэла снова сбросили с парашютом на Юге, к макизарам[14]. Встречал его некий Трентье, командир партизан, но Пэл с ним не остался: сказал, что чувствует опасность, хочет на несколько дней исчезнуть, и уехал в Париж, не поставив в известность Лондон. План у него сложился в Темпсфорде, в тот самый миг, когда он сел в “Уитли”. Найти объяснение для Портман-сквер не составит труда: скажет, что почувствовал слежку и предпочел залечь на дно. Ведь отлучится он всего на несколько дней, Лондон не станет придираться из-за меры предосторожности, возможно, спасительной и для агента, и для УСО. Пэл назначил Трентье и подпольщикам новую встречу, его отвезли в Ниццу, и он сел в поезд на Париж. Два года он мечтал об этом. Вот и Лионский вокзал, он вздрогнул от счастья. Наконец-то дома.
Пэл отправился на конспиративную квартиру Фарона, как они и условились в Лондоне. Постучался, но никто не открыл – великана не было. Сын подождал его возвращения на бульваре, а потом, увидев его у газетного киоска, пошел следом.
* * *
До вечера было еще далеко, но они поужинали. На крохотной кухне, консервами, как солдаты, не потрудившись выложить их на тарелки. Сосредоточенные. Квартирка была тесная: гостиная, спальня, ванная и маленький коридорчик. Самая большая и хорошо обставленная комната – гостиная. В спальне из обстановки было только два матраса, в ней был выход на балкон – запасной путь отхода: с балкона можно было попасть в окно на лестнице соседнего здания.
Оба жевали почти в полной темноте и заговорили, только когда поели.
– Ну и что ты тут стряпаешь? – поинтересовался Фарон.
– Меньше знаешь – крепче спишь. Я же тебе не задаю таких вопросов.
Фарон хмыкнул и предложил боевому товарищу яблоко.
– Ты тут один? – спросил Пэл.
– Один.
– Без радиста?
– Пока без. Был у меня радист, он теперь в другом месте. Славный парень, Марк его звали. Лондон мне послал другого.
– Когда появится?
– Понятия не имею. У нас встреча в полдень у входа в метро “Монпарнас”. Точной даты нет, хожу туда каждый день, пока не встречу. Не люблю я такие фокусы.
– А как узнать человека, если никогда его не видел?
Фарон пожал плечами. Сын напустил на себя серьезный вид:






