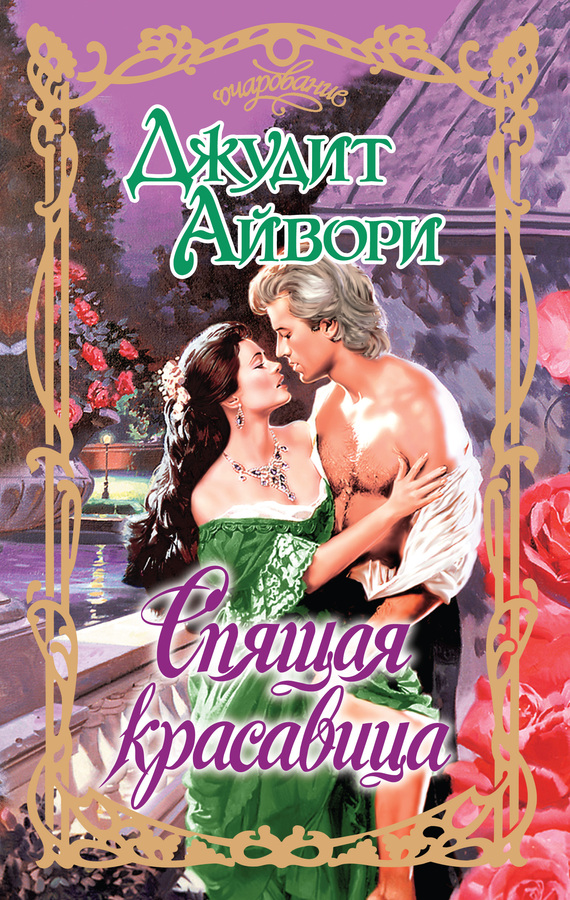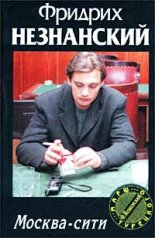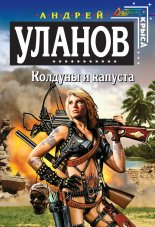Бледный всадник, Черный Валет Дашков Андрей
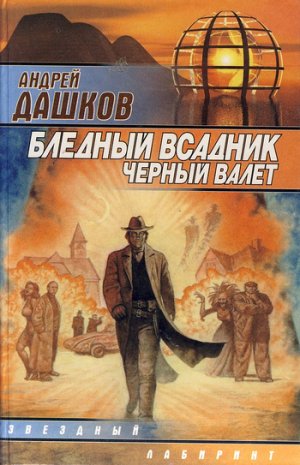
Обер-прокурор дождался, пока сиделка возьмет из-под него судно, и велел одевать себя. Он был не в духе, как и полагалось капризному старикану. Он плохо спал ночью. Ему снились крысы, грызущие ножки деревянного трона. Трон был близок к падению. На троне сидел карлик-гидроцефал и лизал леденец на палочке. От огромной раздутой головы карлика тянулся гибкий шланг куда-то за кулисы сна. Предполагалось, что там находится его личный доктор и отсасывает спинно-мозговую жидкость — причем из полости черепа.
В этом сновидении обер-прокурор углядел оскорбительные намеки. У него были проблемы с мышлением и докторами. Раньше его лечила ведьма Полина, но вот уже шестнадцать лет ведьма жила в богадельне. Другие лекари поголовно были шарлатанами, и обер-прокурор по очереди сплавлял их на Дачу. Похоже, очередного афериста ждала та же участь…
Обер-прокурор позвонил в колокольчик. Явились два туповатых, но дюжих молодца из числа семинаристов-резервистов, пересадили его в инвалидное кресло (какие прекрасные воспоминания о визите к Большой Маме это навевало!) и покатили в столовую. По пути он ущипнул свою личную секретаршу за твердую задницу (как орех — так и просится на грех!), попытался на ходу диктовать ей (секретарше, а не заднице) текст торжественной речи, сбился на детскую считалочку и в результате чуть не заснул.
В кресле его укачивало. Без кресла он был беспомощен и вряд ли сумел бы даже проползти пару метров. Нижняя часть его тела была парализована — последние двенадцать лет. Это не сильно огорчало обер-прокурора. Он всегда считал себя человеком мысли и чувства, а вовсе не действия. Главное, что от него требовалось, он сделал около полувека назад и ни разу не пожалел о своем выборе. (Так как насчет заслуженного отдыха и пожинания плодов?)
Вторично он пришел в себя уже за столом, под поясным портретом, запечатлевшим его в расцвете творческих сил и сиянии славы. На завтрак именинник высосал сырое яичко, съел ложку гусиного паштета и выпил бокал вина. Настроение значительно улучшилось. Он благосклонно взирал даже на докторишку-вредителя, который щупал его усохшую старческую конечность, пытаясь найти и сосчитать пульс. Очевидно, пульс соответствовал канонам геронтологии.
Когда распорядитель счел обер-прокурора сытым и достаточно здоровым, в столовую были допущены гости, которые принялись наперебой поздравлять юбиляра. Тот выслушивал пышные здравицы и тонкую лесть с одинаково идиотской улыбкой. Вставная челюсть мешала ему сомкнуть губы. Хорошие протезисты перевелись еще во времена его молодости.
Несколько развлекла обер-прокурора процедура подношения даров. Среди них были: шариковая ручка с возможностью дозаправки (от коллектива городской думы); перстень с резной эбонитовой печатью и миниатюрной надписью «гряду скоро! аминь» (от цеха ювелиров); настоящая реликвия, обнаруженная поисковым отрядом юных «Ревнителей веры», — ниобиевый сустав указательного пальца (Того Самого Пальца, который нажимал на спусковой крючок, исполняя предначертанное в день Великого Переворота!); рукописное «Откровение» с иллюстрациями лагерных авангардистов (от администрации лагеря «Лесная дача») и новые экспонаты для Музея Революции. Среди последних: неразорвавшаяся граната; пулеметные гильзы; видеокассета, когда-то принадлежавшая Ферзю; подлинник смертного приговора, подписанного рукой легендарного злодея — судьи Чреватого; бронзовое ухо неизвестного происхождения и книжка некоего Леви-Стросса с экслибрисом Жирняги.
При разглядывании экслибриса обер-прокурора охватила слюнявая ностальгия. Даже не верилось, что он сумел в одиночку провернуть эту самую революцию и наладить новую счастливую жизнь. Полина не в счет. Загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Ну а с нею поступили гуманно. Богадельня — та же больница и ночлежка для престарелых; там еще и кормят бесплатно…
Но, говоря по правде, обер-прокурор просто не вынес постоянного присутствия бабы-экстрасенса у себя под боком. Ему казалось, что она читает его мысли. Кому это понравится? Тем более если мысли — исторически важные…
Теперь все было прекрасно. Стабильность, порядок и полная гармония. Во всяком случае, обер-прокурору так докладывали. Однако очередной подарок, преподнесенный полицмейстером города Ина, заставил инвалида содрогнуться. Он испытал сильный спазм страха — чувства почти забытого и все-таки мгновенно напомнившего о себе. Как будто и не было толстенной стены из прожитых лет, разделявшей прошлое и настоящее.
Оказалось, что эта стена иллюзорна и на самом деле ни от чего не защищает.
38. ДИКАРЬ
Он был настоящее дитя природы. А его папашу можно было назвать блудным сыном цивилизации, который передал по наследству свое горькое разочарование и свои рецепты выживания. До восемнадцати лет дикарь не видел ни одного человека, кроме отца, поэтому отпадала необходимость в имени.
Существо без имени было свободно от стереотипов и предвзятых оценок. Даже степень опасности оно оценивало непосредственно; его чувства оставались незатронутыми, мысли — кристально прозрачными. Это давало ему некоторые преимущества на границе человеческого и нечеловеческого — и превращало в наивного ребенка там, где начинала разыгрываться извечная комедия притворства или лицемерный фарс.
Дикарь рос, окруженный противоестественными мифами, которыми кормил его отец; мстительный родитель вкладывал в принадлежавшего ему человечка все то, чем был отравлен сам. Безупречно полная информация снабжалась соответствующими комментариями. В результате дикарь уже в пятилетнем возрасте имел довольно своеобразное представление о потерянном «аде».
Однако позже старания папаши вызвали обратный эффект. Мрачные и сумбурные рассказы о жизни в городах, полной насилия и крови, только распаляли воображение подростка, нуждавшееся в сильных стимуляторах и утолении постоянного голода. В десять лет он уже считал, что «ад» — это просто другое название рая. В конце концов, все ведь зависит от точки зрения, разве нет?
Папаша сознательно изуродовал сына; он был уверен, что лишь законченный урод сумеет выжить в уродливом мире. Ему нельзя было отказать в логике, и он преуспел, пытаясь сделать дикаря неуязвимым. Прививка иммунитета против греха — эксперимент, достойный подвижника или грязного авантюриста. В итоге восприятие дикаря было непоправимо искажено. Обитая в вакууме, он наделял предметы душами — испорченными или не очень, — которых ему не хватало в его окружении.
Например, он был совершенно уверен в том, что его пистолеты живые.
В свое время они служили мальчику детскими игрушками, а их кровавая история заменила ему сказки. Если верить отцу, когда-то они принадлежали самому Начальнику города Ина. Внешне пистолеты были близнецами, но характеры и голоса у них были, безусловно, разными. Тот, который обычно держала правая рука, — жесткий, своенравный, резкий, обидчивый; левый — вкрадчивый, чуть более тихий, с мягким спуском, «гладкий»; в его повадках было что-то кошачье. Иногда Левый казался дикарю существом женского пола…
Папаша жестоко высмеял сына, когда тот заикнулся об этом. С тех пор дикарь предпочитал молчать, но его трепетное отношение к металлическим «брату» и «сестре» нисколько не изменилось.
…Они жили в дикой лесной глуши; забравшись сюда — поближе к сумрачным чертогам Пана, подальше от людей, — отец срубил низкую, темную, тесную избу — укрытие, логово, а не дом. В избу возвращались только затем, чтобы отоспаться и сожрать добытое на охоте.
Дикарь вырос тут, постигая тайную и обнаженную жизнь леса, впитывая яд чужих воспоминаний и поклоняясь единственному идолу — металлическому ящику с пистолетными патронами. Получился странный парень — тело отшельника, рефлексы зверя, душа паломника…
Папаша даже научил его читать — настолько, чтобы тот мог прочесть объявление о розыске или (не приведи господи!) приговор, — и рассказал, откуда берутся дети. А еще поведал о матери дикаря, которая, по его словам, была городской проституткой и умерла от рака матки.
В четырнадцать лет дикарь приручил волчонка, а в шестнадцать был вынужден застрелить волка, вернувшегося в родные места, чтобы пообедать. С той поры он дружил только со своими пистолетами.
И кто знает, сколько еще времени провел бы дикарь в райских кущах леса, молясь о том, чтобы Патронный Ящик не оскудел, если бы папаша внезапно не умер. Сердечный приступ свалил старика в зарослях папоротника; когда сын подбежал к нему, все было кончено. Остановившийся взгляд был направлен в небо, рот полуоткрыт, губы посинели.
Дикарь не услышал последнего варианта завещания. И это к лучшему; в противном случае ему пришлось бы нарушить предсмертную волю покойного. По его подсчетам, оставшихся патронов могло хватить на год, не больше. Кроме того, в паху у него происходило что-то непонятное. По ночам он пачкал листья, на которых спал. Просыпаясь на липком, он чувствовал: одиночество медленно вытягивает из него разум.
О покое и умиротворенности речи уже не было. Не важно, что именно влекло его вдаль: ненасытность молодости, угроза голодной смерти, зов родины или запоздалое половое созревание. Важно то, что одним паршивым днем он отправился на поиски города…
Очередной искатель истины объявится вскоре в балагане — неприрученный зверь среди опасных клоунов. Чем он отличался от других? Возможно, его истина была так примитивна, что все проходили мимо очевидного.
Ничего не обретя, он уже навеки потерял невинность.
39. СЛЕДОВАТЕЛЬ
В течение последних шести месяцев со старшим следователем трибунала при Святейшем Синоде Аркадием Глуховым происходили странные вещи.
До этого он считался настолько безупречным и безгрешным (таким он, кстати, и был в действительности), что даже начинал побаиваться самого себя. Глухов все чаще задумывался — не придется ли к старости пожалеть о непорочно прожитой жизни? Впрочем, альтернативы у него не было. Он знал, что до гроба останется заложником своего инквизиторского чина. Как говорится, положение обязывало.
Странности начинались со сновидений. Глухову снились немыслимые вещи. Например, однажды во сне он стал членом колонии разумных грибов — то ли на Юпитере, то ли на одном из его спутников (следователь был не силен в планетологии). Не видел гриб, а стал грибом — разница огромная. Он не мог вспомнить этот сон полностью или хотя бы воспроизвести самые примитивные элементы «грибного» сознания — человеческая память пасовала перед нечеловеческим восприятием. Все, что он помнил, — это плавучие розовые острова в метановом тумане, вялотекущее «растительное» время, жутковатые намеки на абсолютно чуждое существование…
Дальше — хуже. Его сны были настолько дикими и невероятными, что перебрасывать мостики через пропасть, расколовшую разум следователя, становилось все труднее. И в одну из ночей эти шаткие мостики рухнули.
Теперь для «дневного» человека Глухова его ночная ипостась была совершенно непостижима, а полеты в астрале означали провалы в сознании и в памяти — черные дыры, которые он ничем не мог залатать или замаскировать. Иногда он находил в себе силы заглянуть туда. Но ничто не выходило наружу.
От глубочайшего сна эти провалы отличались лишь тем, что Глухов, оказывается, действовал. И, судя по утомленно-удовлетворенному виду его жены, действовал успешно. Может быть, он тоже не возражал бы против этого, если бы хоть что-нибудь помнил.
Недели две назад, очнувшись утром, он обнаружил, что у него побаливают от усталости ноги, а сапоги, валявшиеся рядом с кроватью, испачканы в грязи. В ЛЕСНОЙ грязи. Траурные полумесяцы остались и под ногтями. Жена уже не спала и выглядела слегка пришибленной.
Изощренный в подобных упражнениях ум следователя мгновенно сделал выводы. Самый страшный грех заключался в том, что Глухов шлялся где-то во время комендантского часа. Ему лучше других было известно: любые прегрешения имеют последствия. И кто скажет, куда заведут его ночные шатания? Даже если это «обычный» лунатизм, Аркадию придется несладко (следователь-лунатик? Он не думал, что члены Синода отнесутся к этому с юмором и пониманием).
Еще хуже, если он занимался чем-нибудь предосудительным и непотребным.
А вдруг… заговор? От одной этой мысли Глухов холодел и впадал в оцепенение.
Причина была проста — слишком много потенциальных заговорщиков скончалось на глазах у старшего следователя трибунала, не выдержав пыток.
Неприятная у него была работа. Нервная. Зато чрезвычайно необходимая для поддержания спокойствия в обществе.
Вчера вечером, накануне праздника, он дошел до того, что принес с работы ржавые от крови наручники и попросил жену пристегнуть себя к спинке кровати. Та сделала это, не задавая лишних вопросов, и с большей готовностью, чем он ожидал. Наверное, решила, что предстоят новые постельные игры.
Но Глухову было не до игр, хотя упитанная супруга и попыталась вскоре взгромоздиться на него сверху. Он честно боролся со сном, который мазал ему веки липким сиропом, однако к полуночи уже был в отключке.
Шесть часов небытия промелькнули, как одно мгновение. Вернее, еще быстрее. Глухов их попросту не заметил.
Пробуждение было похоже на болезненное рождение. Он лежал в необычной позе. Голова была сильно вывернута, и шея закоченела. Мутный взгляд был направлен вверх и назад.
Следователя ожидал ужасный сюрприз. Он не заорал только потому, что давно привык к виду растерзанной плоти, как мясник, всю жизнь проработавший на бойне.
Запах в спальне напоминал запах в камере пыток после продолжительной «беседы» с подозреваемым. На этом сходство заканчивалось. Кровь была повсюду, на стенах и даже на потолке — символы чего-то или неизвестный алфавит. Рука нетвердая, будто писал ребенок или дряхлый старик, машинально отметил про себя Глухов. Но «ребенок» натворил и кое-что похуже.
Вскоре Аркадий обнаружил, что петли наручников разорваны, и оба «браслета» свободно болтаются у него на запястьях. Оказывается, ночью он надел перчатки — видимо, для того, чтобы не испачкаться. Между большим и указательным пальцами правой руки было зажато тонкое изогнутое лезвие. Удивительно, как он не порезался во сне… Кровати тоже был нанесен впечатляющий урон. Кто-то выломал толстые металлические крутья и завязал их узлами.
С огромным трудом Глухов сумел повернуть голову. На дальней стене и на двери — те же загадочные письмена. Вспомнив о супруге, он издал стон, хотя и раньше догадывался, чья это кровь. Сам он был цел и не ощущал в себе никаких перемен; даже щетина не отросла за ночь…
Потом он услышал дыхание — легкое, медленное. Дыхание спящего человека.
У следователя отлегло от сердца. В такие минуты начинаешь ценить любого, кто разделит с тобой твой страх. Хотя бы изрядно поднадоевшую супругу… Одиночество сейчас — это было бы невыносимо. Страх нуждается в распространении, в передаче по эстафете. Он заразен, и от него не существует вакцины. Глухов знал это и подолгу держал подследственных в полной изоляции, пока они не начинали сходить с ума. А потом были готовы на все и превращались в легкую добычу…
Он повернул голову в другую сторону. Тысячи ледяных иголок вонзились в скальп. Густая кашица мозга мгновенно вскипела. Казалось, изо всех отверстий брызнула черная пена…
Глухова парализовало. Его мыслительные и двигательные способности восстановились лишь спустя неопределенное время.
Кто-то использовал его жену в качестве чернильницы, а затем (или прежде?) содрал с нее кожу. Полностью. И сделал это с удивительным искусством. Аркадий, который по роду своей основной деятельности был немножечко хирургом, не мог вообразить себе ничего подобного. Образ тонкой кожаной перчатки, снятой с руки, потом долго преследовал его…
То, что лежало рядом с ним, больше всего напоминало пособие по анатомии. Ни один внутренний орган не имел повреждений. Каждое дупло в зубах было на виду. Даже глазные яблоки остались на своих местах — уже засиженные мухами в эту теплую осеннюю ночь. И ОНО ДЫШАЛО. Легочные мешки вздувались и опадали, вздувались и опадали. Полностью осушенная сердечная мышца исправно перекачивала воздух. Это необъяснимое и какое-то бессмысленно-механическое движение было во сто крат хуже мертвой неподвижности.
Такого страха старший следователь не испытывал давно. Точнее, с раннего детства, когда его напугал чужой «близнец» с шестью пальцами на бледных руках, неизвестно откуда взявшийся в отцовском доме. Вывести дитя из ступора и вылечить его от заикания смогла только ведьма Полина.
На этот раз Глухов вышел из ступора самостоятельно. Пока он медленно сползал с кровати, его руки дрожали, а зубы выбивали частую дробь. Браслеты на запястьях весело позвякивали. Выяснилось, что он отползал только за тем, чтобы оказаться подальше от… жены. Прошло немало времени, прежде чем он начал мыслить связно.
У него появились проблемы. Одна — большая; другая — очень большая. Первой и самой насущной проблемой была утилизация трупа. Глухов надеялся, что решит ее, воспользовавшись своими связями. На худой конец, в его доме был просторный подвал с земляным полом.
Другая проблема казалась более отдаленной, но абсолютно неразрешимой. Никто не выдерживает пытку бессонницей. Глухов знал это точно. А раз так, то что он сделает в одну из следующих ночей? Или, вернее, кого РАЗДЕЛАЕТ?..
Аркадий был настолько опустошен, что даже не задал себе главного вопроса. Этот на первый взгляд абстрактный вопрос возник позже и глубоко засел в мозгу, как топор в гнилом пне.
Вопрос был такой: а куда, собственно, девалась снятая кожа?
40. СТАРАЯ ДОРОГА
Он пересек незримую границу, дальше которой папаша никогда не позволял забираться. Дикарь неоднократно нарушал запрет и знал причину своего непослушания — отсюда было рукой подать до старой дороги. Теперь о ней напоминала только просека, поросшая молодняком, и кое-где — параллельные углубления, обозначавшие колею.
Дикарь двинулся на север, потому что слепой проповедник пришел с юга. То был еще один загадочный персонаж папашиных воспоминаний. Человеку без имени нравилось считать его реальным и до сих пор живым. Он надеялся когда-нибудь встретить слепца и спросить того кое о чем. Он заставил бы старика разговориться.
В фатальных предсказаниях было что-то бесконечно интригующее. Еще никто не предсказывал дикарю его судьбу, и потому судьбы пока не существовало. Она была как нерожденный ребенок. Но в любой момент мог случиться выкидыш.
Он шел налегке. Пистолеты и трехдневный запас вяленого мяса — не в счет. Содержимое Патронного Ящика поместилось в кожаной сумке и четырех запасных обоймах. Грубое одеяние из кожи не стесняло движений и было многофункциональным. Пахло от дикаря ужасно, но ему этот запах казался естественным и неизбежным.
А природа буйствовала, словно маньяк перед смертью. Земля давно зализала раны, нанесенные полчищами двуногих. Лес кишел непуганой дичью. И потому с пропитанием проблем не было.
К вечеру дикарь вышел на пологий берег. Река на закате поразила его. Пурпурная вода текла неотвратимо, как само время. От опор моста остались лишь подгнившие столбы. Черные птицы садились на них и тут же взлетали. Каждая уносила с собой за горизонт частицу умирающего дня…
Дикарь вырубил себе шест и перешел реку вброд. Вода была ледяной, но его согревала молодая кровь. Заночевал он в наспех построенном шалаше, под кожаным одеялом. Сквозь листву были видны замерзающие звезды.
Папашины сведения относительно звезд казались ему весьма противоречивыми и радикально менялись по мере того, как дикарь взрослел. В раннем детстве это были свечки, горящие где-то невообразимо далеко, и каждая символизировала чью-то жизнь; затем — глаза демонов, замороженных до поры до времени в черном льду и терпеливо ожидающих своего часа; еще позже — отверстия в небесном пологе, сквозь которые пробивается сияние рая, ну а рай — это, конечно, место, куда попадают после смерти все праведные.
Свечки дикарь отмел сразу же. Ни одна не горит так долго. Значит, демоны. Или попусту растраченное сияние. Прохудившееся небо, чей-то недосмотр… В любом случае когда-нибудь он узнает, что означают эти светящиеся точки на самом деле.
Он долго смотрел на них. Глаза демонов слезились, некоторые раздваивались, многие оказались цветными. Возвращались детские сны…
Демоны протягивали искрящиеся лапы… Материнская ласка… Разлитое молоко… Безопасность… Растворение… Призрачный свет… Отражения в темных запредельных зеркалах… Свечи, зажженные где-то за тысячи световых лет отсюда…
На дикаря снизошел неземной покой. Замедлилась вечная капель секунд. Зияли пустоты небытия. Наступил момент, когда очередная «капля» набухла, повисла… и не упала.
Сны не подчинялись времени. И даже память была не властна над ними. Они неслись бесплотными птицами, пронизывая выплывающие из темноты фигуры уже не существующих людей, навевая утраченные иллюзии, воскрешая забытые ощущения, сдувая мохнатыми крыльями покровы и пыль с миражей…
Дикарь понял, что живет не впервые. Из этого ничего не следовало.
Только сердце заныло от незнакомой старческой тоски.
Утром блажь прошла. Спала сонная одурь. Вместо тоски появилось смутное ожидание. Если очень постараться, дикарь мог вспомнить образы, которые видел во сне: человека с крестом, слепого с пистолетными стволами в глазницах, женщину без волос и кожи на голове, синего жука, всадника с шестипалыми руками… Но он не хотел вспоминать, чтобы не возненавидеть мертвого отца. Тот лишил его целого мира.
А вокруг пробуждался лес. Волна птичьего гомона накрыла дикаря. Вяленое мясо оказалось лишним. Он решил позавтракать свежей зайчатиной. Пистолеты помогли ему. «Брат» предпочитал скоростную стрельбу по мишеням; «сестре» больше нравилось охотиться. Она безошибочно выбрала зайца, время которого кончилось. Грохот выстрела поднял с крон трепещущую живую тучу, от которой внизу стало темно. Потом все успокоилось. Дикарь съел кусок теплого сырого мяса; большая часть, как всегда, досталась пожирателям падали.
Он переоценил трудности пути. Папаша стращал его разнообразными препятствиями и возможными засадами, однако пока самым сложным было преодолеть собственное нетерпение. «Никогда не жди от жизни подарков. Лучше готовься к потерям», — учил старик сына и скорее всего был прав. Дикарь безжалостно подавил в себе надежду.
Прошли сутки и еще одни сутки. Пока он не встретил людей. Ему пришлось убить волка-одиночку. Дикарь ел ягоды и жевал корни. По ночам ему снились сны. Плохие сны. Напряжение нарастало. Он приближался к чему-то, что должно было изменить его навсегда. Он предчувствовал это, но не думал о возвращении и не оглядывался. Папаша не научил его советоваться с «близнецом».
Дикарь переплыл широкую реку, толкая перед собой связку вещей на маленьком плоту.
К исходу четвертого дня лес впереди поредел, и показалось место, которое выглядело почти так же, как сокровенный пейзаж, существовавший только в снах, но с поправкой на прошедшее время. Изломанный горизонт, темные купола, белесые стены. Столбы дыма поднимались к небу. Чуткие ноздри дикаря улавливали запах падали и помойки.
Мрачная красота мифа развалилась. Остались уродливые осколки реальности. Из них была сложена мозаика городской окраины.
Минуло лет сорок с тех пор, как эту картину видел изгой-папаша в последний раз, — целая жизнь, а для кого-то даже больше.
41. МАЖОР-ЛЕЙТЕНАНТ
Должность мажор-лейтенанта Пряхина была синекурой. Он получил ее после того, как блестяще провалил пару простых дел, служа в уголовной полиции. Полностью новая должность называлась так: Председатель Особой Комиссии при Святейшем Синоде по делам маранов и морисков[2]. На деле Особая Комиссия состояла из одного человека. Впрочем, подопечных у Пряхина тоже было немного: из маранов — только портной Гурвиц с женой, и две семьи морисков — к несчастью, довольно плодовитые. Относительно последних имелось подозрение, что это просто оседлые цыгане. Пряхин должен был следить за чистотой их веры. Несложная задача, учитывая, что никто не хотел неприятностей. Все исправно посещали церковь, а Гурвиц даже делал регулярные пожертвования в «Фонд реконструкции сгоревшего храма».
Кроме личного контроля, мажор-лейтенант использовал агентурные данные. Еще во времена своей службы в уголовке он оброс целой сетью невольных и добровольных осведомителей. Теперь две трети из них послали Пряхина к черту, но зато с оставшимися он не церемонился. Этих можно было ПРИЖАТЬ. И было за что.
Прижать Пряхин умел. Память на чужие грешки у него была отменная, а работать кулаками он не разучился. Как Председателю Комиссии ему полагался пистолет — смехотворная мелкокалиберная хлопушка с разболтанным механизмом, — но у подавляющего большинства жителей города не было и такого.
В общем, мажор-лейтенант устроился неплохо. Порой только свербило в заднице, когда он видел издалека обшарпанную коричневую карету уголовки, — и Пряхин начинал чувствовать собственную несостоятельность. Откуда-то снизу поднимался гнев, что сопровождалось впрыском в голову чрезмерной порции крови. В такие минуты Пряхин становился примитивным и страшным.
Его жена умерла несколько лет назад от чахотки. Выкашляла в окровавленный платочек свою убогую бездетную жизнь; ушла на цыпочках — так же, как и жила. Жалкое создание! Мумия, а не женщина… Под конец супруг ее возненавидел — могла бы оставить после себя хоть что-нибудь, кроме долгов («Ну а как насчет ребеночка, чертова плоскодонка?»). Даже ее долги оказались до смешного маленькими.
Пряхин был еще не старым мужчиной — ему только-только исполнилось пятьдесят. Изредка он навещал девочек в банном комплексе «Авангард» и никогда не упускал случая воспользоваться растерянностью какой-нибудь безмозглой курочки, попавшей под следствие или просто напуганной его жесткими методами.
Ничего хорошего из этого обычно не получалось. Мажор-лейтенант не умел расслабляться по-настоящему. Сверлышки неприятных мыслей буравили череп до, после и во время любой, даже самой приятной процедуры. «Трепанация» прекращалась только во сне. Но и сны становились все более странными. Настолько странными, что, проснувшись, Пряхин уже не мог осознать, чем это он во сне занимался. Пожалуй, ему мог бы посочувствовать Аркадий Глухов, однако о таких вещах не болтают даже в исповедальне.
Наяву тоже возникла маленькая неприятность. Микроскопическая. После долгих недель затишья у Председателя Особой Комиссии появилась работа. И, конечно же, дурацкая. Ему предстояло выяснить, куда подевались несовершеннолетние детеныши морисков.
Пряхин не ждал от этой работы положительных результатов. В лучшем случае он найдет трупы — и тогда придется передать дело уголовке. В худшем случае он станет посмешищем — если окажется, что детеныши не пропадали вовсе, а просто потерялись. Но Пряхин был обязан проверить любую информацию, касавшуюся потенциальных врагов веры, — даже самую абсурдную.
Сигнал поступил от осведомителя, жившего поблизости от хаты Лемы Кураева и заметившего, что голых задниц на соседском дворе поубавилось.
Пряхин долго не мог взять в толк, как такое вообще можно заметить. Сам черт не разберет, сколько малолеток возится в грязи — девять, десять или одиннадцать. Тем более что иноземцы плодились, как кролики. Чтобы быть точным и не ошибиться досадным образом, Пряхину пришлось поднять досье на семейство Лемы. Тринадцать детей! Без всяких признаков дегенерации.
Последний — мальчик — родился восемь месяцев назад.
Прочитав это, мажор-лейтенант заскрежетал зубами. Грязные, полунищие, неграмотные коровы регулярно приносили здоровый приплод, а его чистенькая, умненькая гимназисточка не смогла родить ему единственного наследника! Мысль о том, что, возможно, во всем виноваты его собственные маленькие хвостатые живчики, даже не приходила Пряхину в голову. Было от чего разозлиться. Не хотелось подыхать, оставив после себя только стопку протоколов и не очень светлую память. Но, видать, такова судьба…
В ближайшее воскресенье Пряхин не поленился и отправился в церковь пораньше. Он частенько игнорировал службу, считая, что для него это уже лишнее. Попы убедили его во всем, в чем только можно. Однако некоторые догматические установки мажор-лейтенанту не нравились. Например, он был категорически против того, чтобы вновь соединиться после смерти со своей благоверной. С него хватит!..
Поэтому он откровенно скучал на паперти до тех пор, пока не увидел семейство Кураевых, шествующее на службу, словно гусиный выводок. Впереди шел Лема — смуглый кучерявый весельчак с серебряной серьгой в ухе, в лоснившемся от старости костюме-тройке, потрескавшихся хромовых сапогах и древнем картузе с надписью «New-York City». Правда, сегодня особого веселья на его роже написано не было.
Следом перекатывалась бокастая коротконогая мать-героиня (Пряхин не мог не уважать ее за производительность), одетая в серое просторное платье, которое не скрывало ее пышных форм, и, кажется… О Господи! Неужели опять?!
Пряхин захихикал, как слабоумный. Стоявший поблизости одноногий нищий отпрянул и перекрестился. Мажор-лейтенант не обратил на него внимания. Он пытался визуально провести тест на беременность. Похоже, Лемин пистолет-пулемет выплевывал пульки без передышки. Оставалось только позавидовать такому здоровью…
С некоторым трудом сосредоточившись на деле, мажор-лейтенант начал считать цыплят — по осени, как положено.
Цыплят оказалось восемь. А вовсе не тринадцать. И даже не двенадцать, если учесть, что самый младший еще сосет соску вместо того, чтобы внимать проповедям… Старшая, четырнадцатилетняя, дочка Лемы обещала стать похожей на мать во всех отношениях. При одном взгляде на ее блестящее сальное лицо и волосы, густо смазанные жиром, Пряхина перекосило. Но он не сомневался, что охотники оплодотворить эту будущую свиноматку-рекордсменку найдутся. Два пацана помладше, державшиеся за руки, были еще грязнее. Восьмилетняя дочь сосала палец (Пряхин взял этот факт себе на заметку — не мешало бы проверить ее умственную полноценность). Замыкали шествие отпрыски в возрасте от семи до трех лет — судя по пятнам на одежде, либо уже онанировавшие, либо еще делавшие в штаны…
Пряхин увидел все, что хотел. Он дождался, пока кастраты на хорах завопили «Аллилуйя!», и отправился выполнять свою работу. Он привык действовать напролом. Клиента надо брать тепленьким, поучал его прежний полицмейстер города Ина Иван Ревяко, больше известный в народе под псевдонимом Чарлик (упокой, Господи, его душу!).
Поэтому Пряхин не мешкал, взял извозчика и велел доставить себя на окраину Пыльной слободки.
42. ПИСТОЛЕТЫ
Обер-прокурор скривился, будто собирался расплакаться, когда на его омертвевшие колени поставили деревянную коробку с изящной резьбой, выстланную зеленым сукном, наверняка содранным с бильярдного стола.
На дне коробки лежали два пистолета. Обер-прокурор видел их в последний раз лет пятьдесят тому назад, но они заставили бы его руки дрожать и через пять тысячелетий. Он мгновенно узнал их.
Сначала он не хотел к ним даже притрагиваться. Они были такими же красивыми, какими бывают ядовитые змеи. Пистолеты вовсе не выглядели музейными экспонатами. Кто-то любовно следил за ними, чистил их, поддерживал механическую жизнь. Чьи-то руки ласкали рукоятки с инкрустированными накладками и монограммами, не оставлявшими сомнений в том, кому принадлежали обе игрушки.
Это были пистолеты Заблуды-младшего, которые исчезли из его дома в день Переворота. Лучшие пушки из всех, когда-либо появлявшихся в городе. Без дешевого дюралевого дерьма…
Обер-прокурор побелел, как дохлый головастик. Он взял один из пистолетов вялыми пальчиками и понюхал срез ствола. Из этой пушки стреляли совсем недавно. Бывший священник помнил отрывистый грохот, который издавали близнецы. Ни одна пуля не пропадала даром…
Неужели снова начинаются плохие времена? И если демоны прошлого возвращаются, то в кого они воплотятся на этот раз?
Оказавшись на самом верху, обер-прокурор уже не делил жизнь на благоприятные и неблагоприятные периоды. Время здесь вообще ни при чем. Времена никогда не меняются — и они всегда чуть хуже, чем хотелось бы разным олухам (обер-прокурор уже забыл, что когда-то и сам был таким же). Тот, кто растравляет себя сказками о золотом веке, — просто дурак. Тот, кто может стать причиной создания легенды, — опасен.
Ферзь и Начальник знали истину. Людишки сами во всем виноваты. В них заложены программы уничтожения и самоуничтожения. Нет ничего легче, чем точно следовать программе. Это вообще не требует усилий. Трение и сопротивление возникают, когда появляется отклонение. Значительные отклонения требуют почти невероятной воли. Это — удел фанатиков-одиночек. Чрезмерные отклонения вызывают необратимый сдвиг. Это — удел психопатов и маньяков. Движение человеческой массы в противоположном направлении абсолютно невозможно…
После пятиминутки мудрствования обер-прокурору внезапно захотелось разрядиться и поиграть. Он направил пушку на полицмейстера и сделал вид, что нажимает на спуск. Сказал «Бух!» и захихикал. Все, находившиеся в кабинете, сочли это в высшей степени остроумной шуткой — кроме дарителя, который чуть не обделался.
Обер-прокурор положил пистолет в коробку и поманил к себе полицмейстера. Тот уже понял, что промахнулся с подарком, хотя и не догадывался о подлинной причине. Он наклонился к инвалидному креслу очень низко, чтобы члены Синода ничего не услышали. Или хотя бы услышали поменьше.
Этот толстозадый увалень стал новым полицмейстером города Ина не потому, что в один прекрасный день выхватил пистолеты быстрее состарившегося Чарлика и пристрелил того на месте. Добрая традиция была похоронена уже во времена его молодости. Священник запретил дуэли. С тех пор Начальников назначали. Назначили и нынешнего, когда Чарлик, доживший до глубокой старости, отбыл на тот свет с отказавшим мочевым пузырем. Вполне вероятно, что вода в реке забвения стала не такой чистой, как раньше, зато Чарлик отгулял на славу весь отпущенный ему срок.
Его преемник стремился к тому же. Но он был мозгляком, а не дуэлянтом, и тем более — не хладнокровным убийцей. Поэтому пистолеты легендарного Начальника его нисколько не взволновали. При виде их он не ощутил ровным счетом ничего. Красивые железки, ну и что дальше? Впрочем, из уважения к обер-прокурору (а главное, из уважения к членам Синода) он многозначительно поцокал языком и старательно изобразил восхищение.
Полицмейстер приготовился выслушать привычную смесь поучений и маразматических рассуждений. Вместо этого его буквально ткнули носом в инкрустированную коробку, которую ему удалось достать с большим трудом (проще говоря, он побеседовал «по душам» с владельцем антикварной лавки).
— Где ты их взял? — спросил обер-прокурор хриплым голосом.
— Мои люди конфисковали их у одного придурка.
— Я его знаю?
— Никак нет.
— Что с ним?
— Его уже допросили в участке.
— Ну и?..
— Молчит. Туп как корова. Документов нет. Он не из наших…
Обер-прокурор подскочил бы в кресле, если бы мог.
— Ты хочешь сказать… — начал он зловещим шепотом, задыхаясь от волнения. — Ты хочешь сказать, что в городе появился чужой мужик с пушками и мне об этом ничего не известно?
— Не мужик, а так — пацан…
— Где он сейчас, идиот?
На полицмейстера было жалко смотреть. Он обильно вспотел; лицо покрылось красными пятнами.
— Кажется, на даче…
— Болван, — прошептал старик, обмирая. Он-то помнил, с чего все началось сорок пять лет назад — с появления в городе Валета. Кто знает, может быть, теперь явился какой-нибудь Джокер — и на этот раз по его душу?! Впрочем, еще не поздно. Ему нравилось так думать. — Я хочу его допросить.
— Если он еще жив… — сказал полицмейстер, на всякий случай отодвигаясь: он заметил, как сжались высохшие кулачки обер-прокурора.
Вернувшись в состояние мужественного равновесия, обер-прокурор дал переодеть себя в бело-золотую рясу и повесить на тощую шею роскошный крест — слишком тяжелый для нее. Но крест был неотъемлемой частью имиджа. Затем юбиляр был пересажен в парадное кресло и доставлен на балкон, с которого открывался вид на центральную площадь города.
Внизу бурлила разноцветная толпа, концентрируясь вокруг бочек с бесплатным пивом. Стены и крыши домов были украшены портретами, флагами и транспарантами. При появлении обер-прокурора кастраты из церковного хора заголосили гимн «Спаситель пришел с запада». Массы подпевали нестройно, но громко.
Бывший священник взирал на охваченных энтузиазмом горожан и чувствовал, что жизнь прожита не зря. Однако кто-то хотел омрачить ее счастливый закат. Кто именно?
Эта назойливая мыслишка крутилась в голове все время, пока мимо балкона маршировали стройные колонны членов Христианского Союза Молодежи и облаченных в белые балахоны «Непорочных дев».
43. «ДОКУМЕНТЫ!»
Еще каких-нибудь шестнадцать часов назад оба пистолета покоились в старых потертых кобурах на поясе человека без имени. Это было все, что он получил в наследство от своего папаши и захотел взять с собой, если не считать содержимого Патронного Ящика и некоторых МЫСЛЕЙ.
Несмотря на свою ограниченность, дикарь понимал, что сильно рискует. В единственной известной ему разновидности рая его не ждали и скорее всего попытаются убить. Это вовсе не казалось ему парадоксом и не вызывало даже слабого внутреннего протеста. Это было естественно, как жизнь среди дикой природы. Он вторгался на территорию чужой стаи. И он не имел ничего против того, чтобы поспорить о правах на нее с местными волками — или ангелочками.
«Не дай тебе бог оказаться там. Но если все-таки окажешься — смотри в оба, — поучал его папаша. — На первом этапе двигайся медленно. Очень медленно. Так медленно, как только сможешь. Тогда у тебя будет время оценить ситуацию. Бывает, что на этом все и заканчивается. Не нарывайся на неприятности; они сами тебя найдут. Второй этап ничтожен по продолжительности, но потерять можно жизнь или здоровье. Если дело дойдет до стрельбы, двигайся быстро. Не позволяй этим свиньям попасть в тебя, мой мальчик…»
Судя по всему, сейчас был первый этап. Дикарь шел медленно. Кое-кому могло показаться — даже лениво. Покачивания бедер были почти непристойными. Сзади это напоминало утрированную походку шлюхи.
Дикарь не выпендривался. Его нарочитая неторопливость имела практический смысл. В каждой фазе движения он был готов к стремительному броску. Руки занимали оптимальное положение; мозг просеивал звуки; затылок и спина превратились в органы шестого чувства…
Ситуация складывалась не в его пользу. Он испытывал легкую клаустрофобию. Лес был прозрачен по сравнению с этим лабиринтом узких коридоров… Незнакомый рельеф. Безлюдные улицы. Глаза за окнами — не в счет. Собаки хоть и были похожи на волков, но не представляли реальной угрозы. Одну шавку, пытавшуюся его укусить, он убил резким ударом кулака по черепу. Немедленного наказания не последовало… Вокруг было слишком много укрытий, нагромождений бревен и камня. И сотни новых запахов — одуряющих, отвратительных, неописуемых, манящих…
И все же, когда он увидел на улице первых людей, он обрадовался. Для него это была встреча с неведомым. Его романтическая по своей глубинной сути душа вибрировала почти сладострастно. Душа жаждала общения и слияния с себе подобными.
Людей было всего двое. Дикарь не привык к тому, что живые существа могут двигаться так открыто и беззаботно. Глядя на них, он и сам расслабился. Судя по всему, обиженный судьбой папаша перегнул палку. В раю совсем не так опасно, как утверждал бедный параноик. Тем более что эти двое были самками. Вернее, женщинами. В белых одеждах и с крестами на груди.
Женщины направились прямо к нему. Дикарь понял: сейчас с ним будут общаться. Он надеялся, что папаша обучил его языку в достаточном объеме, чтобы договориться о случке.
Когда они подошли поближе, у дикаря в штанах случился бунт. Одна самка (женщина, черт возьми!) была толстой, другая — худой. Вот эта худая и вызвала неуправляемую реакцию. Тонкая белая ткань туго обтягивала ее высокую грудь. Настолько высокую, что крест из желтого металла не помещался в ложбине между двумя холмами и лежал асимметрично. Сосцы торчали довольно-таки провокационно.
Наивный дикарь поддался на провокацию. Впрочем, не он первый, не он последний. Это его и подвело. Ибо наблюдать следовало за толстой.
У толстой была рожа в прыщах и бесформенная фигура. Свинячьи глазки смотрели зло. О слиянии душ в этот раз не могло быть и речи.
Дикарь имел некоторое понятие о брачных играх животных, но не людей. Он инстинктивно улыбался избранной самке, однако та не реагировала на его призывную ухмылку. Пока он прикидывал, как предложить ей ЭТО и где в раю ЭТИМ занимаются, женщины оказались совсем близко. Оружия он не заметил (если, конечно, не считать оружием массового поражения умопомрачительные выпуклости той, что была постройнее). А вот кресты были очень красивыми и обладали почти гипнотическим блеском.
Толстая заслонила изрядную часть пейзажа и дохнула на дикаря незнакомым тому запахом чеснока. Худая держалась в двух шагах позади. Расстановка была не случайной, но дикарь сообразил это поздновато.
— Документы! — бросила толстая так, словно выплюнула червяка.
И поставила дикаря в тупик. Он был неплохо подготовлен, но нельзя ведь предусмотреть все. Подлец-папаша ничего не говорил ему о «документах».
К несомненным заслугам священника следовало отнести то, что в первые же дни своего правления он провел перепись населения. После Карателя, который прошелся по городу, как газонокосилка, это было несложно. Уцелевших даунов тоже не пришлось считать долго.
С тех пор народ плодился впечатляющими темпами, что подтверждало старую теорему Жирняги о зависимости между численностью населения и благоденствием. Уже не все жители Ина узнавали друг друга в лицо. Это создавало проблемы для работы правоохранительных органов.
Лет двадцать назад кому-то из членов Синода пришла в голову мысль ввести удостоверения личности. Начинание было горячо поддержано руководством полиции. Аусвайсы, нарисованные на старых бумажных деньгах, выглядели внушительно и были защищены от подделки водяными знаками и чрезвычайно вычурной подписью обер-прокурора.
— Ты что, не видишь — нет у него документов! — презрительно сказала худая. Но какой многообещающий голос! Низкий, грудной, сексуальный. От звуков этого голоса дикарь совсем размяк…
Он был достаточно быстрым парнем, однако на этот раз свалял дурака. В его представлении женщины являлись никчемными существами, годившимися только для одного, зато крайне необходимого дела.
Толстая тоже, оказывается, была быстрой. Она двинула его ногой в пах, и дикарю стало не до мыслей о случке. И не до пистолетов. Ему почудилось, что его распухшие от возбуждения шары взорвались.
Он судорожно вдохнул, сказал «ы!» и присел. Боль ниже пояса скрутила его в тугой узел. Мир померк. В темноте вспыхивали кровавые звезды в такт с пульсацией крови…
Когда дикарь расплющил веки, то обнаружил крупнокалиберный ствол возле своего лба. Тощая двигалась грациозно и стремительно и в этом смысле вполне оправдала его ожидания. Он понял, что нечего и пытаться достать свои пистолеты теперь. Глаза девушки были пустыми и даже как бы стеклянными. Эта выстрелит — ни малейших сомнений… Пушка у нее оказалась не очень — однозарядная кустарная погремушка, — но чтобы разнести череп, достаточно и одного патрона.
— Встань на колени! Руки за голову! — скомандовала толстая.
Дикарь не считал свое положение настолько катастрофическим, чтобы попытаться сыграть в рискованную игру «выстрелит — не выстрелит». Поэтому он сделал то, о чем его просили. Если бы он знал, что его ожидает, он, возможно, поступил бы иначе.
Ну хорошо. Ему преподали урок, и он был даже благодарен своим учительницам за науку. А теперь ему хотелось отдохнуть после дальней дороги где-нибудь в уютном месте. Все-таки он добирался до рая почти четверо суток! И хорошо бы найти самок попокладистее. Вероятно, когда боль ниже пояса утихнет, его снова потянет к ним…
Примерно в этом духе он и высказался, хоть и не так гладко. Женщины смотрели на него с непонятным выражением. Он еще был не силен в человеческой мимике, иначе понял бы, что его принимают за круглого идиота.
Когда он закончил, толстая впервые улыбнулась и стала похожа на жабу. Потом она похлопала его по щеке мягкой, влажной от пота ладонью — настоящей жабьей лапкой.
— Отдохнешь. Я тебе обещаю. И место уютное. Уютней не бывает.
После этого она извлекла из штанины свисток и дунула в него. Раздалась пронзительная трель. У дикаря уши заложило; худая даже не поморщилась.
На улицу высыпали братья по разуму. Дикарь и представить себе не мог, что рай так густо населен. Казалось, люди ползут из всех щелей, как лесные муравьи.
Тем временем толстая разоружила его и принялась лапать. Снизу доверху и совсем неласково. Дикарь не возражал бы, если бы этим занялась ее подруга, но подруга держала его на мушке. Ее рука оставалась поразительно твердой. Линия выстрела ни на миллиметр не отклонялась от его переносицы.
Толстая забрала ножи, спрятанные за голенищами сапог, и развязала плеть, которой дикарь был подпоясан. Этой плетью ему обмотали запястья после команды «Руки назад!». Кожаные штаны сидели плотно, не спадали, и его достоинство не пострадало. Хотя в паху все еще плескалась раскаленная яичница.
Обитатели рая столпились вокруг, разглядывая дикаря, как редкое животное. Но никто не подходил ближе пяти шагов, словно на этом расстоянии была очерчена окружность, которую запрещено пересекать. Удивительно безликая стая — разномастная, однако в чем-то поразительно однообразная.
Через каких-нибудь пять минут толпу любопытных начали разгонять крепкие розовощекие ребята в девственно белых одеждах, прибывшие в черной карете с алыми крестами на дверцах. Сделать это оказалось нетрудно. Как ни мало разбирался дикарь в городских делах, но и он понял, что объединяет всех этих людей. Страх. Страх тщательно скрывался; страх был спрятан так глубоко, что порой человек сам не подозревал о нем; страх маскировался под другие инстинкты — самосохранения, насилия, стадности — и все-таки проявлял себя на бессознательном уровне. Дикарь поймал себя на том, что сравнивает поведение жителей рая с робкими повадками травоядных животных. Сравнение было не в пользу двуногих. Травоядные по крайней мере не кривлялись.
«Девственники» и «сестры» особым образом перекрестили друг друга (это заменяло приветствие и, очевидно, было частью системы опознавания «свой — чужой»), после чего опеку над связанным дикарем принял на себя двухметровый детина, который вертел в руках отполированную до блеска дубинку. От детины пахло молоком, а по сверкавшему от избытка здоровья лицу ползали мухи. На его белой куртке имелся знак различия в виде нарукавной повязки с тремя крестами, расположенными треугольником.
Пока гроза мужских гениталий толковала с ним о задержанном, об отсутствии документов, незаконном ношении оружия и прочей хрени, второй «девственник», оказавшийся довольно смазливым малым, вполголоса пытался договориться с тощей «сестрой» о совместном ночном бдении.
Слух у дикаря был звериный. Теперь он по крайней мере узнал, как ЭТО здесь называется. Бдение. Он запомнил. Все, что попадало в почти пустую копилку его памяти, оставалось там навсегда. Ревности он не испытал. Скорее легкое сожаление. Ну что ж, сегодня не повезло. Может быть, повезет завтра?
Но даже легкое сожаление ему не дали досмаковать. Опекун ткнул озабоченного дикаря дубинкой в живот, и тот увидел землю с близкого расстояния второй раз за день. В таком сложенном компактном виде его взяли под руки и бросили в заднее отделение экипажа.
Пол был заплеванным и липким; узкие окошечки забраны решетками. Только здесь, вдохнув устойчивый кислый запах чужого ужаса, который ни с чем нельзя было спутать, дикарь осознал всю глубину потери. Он лишился своих пистолетов. Он лишился брата и сестры. Без них он представлял собой не что иное, как заблудшую дикую овцу. Мясо, предназначенное для хищников. Или живую приманку. Или домашнее животное…
Его душа была лишь одной частью триады. Он потерял две трети. И ощутил пустоту и никчемность, будто усекновение затрагивало физическое тело. Он стал жалок и бессилен, как самец, утративший детородный орган.
44. ПОГРЕБ
Слобода не случайно называлась Пыльной. Здесь селилось разное отребье.
В дождливый день улица Дизельная утопала в грязи. Сейчас между дощатыми тротуарами лежал толстый слой пыли, в котором копались безмозглые куры. Поэтично желтели чахлые цветочные кустики. В тени заборов валялись собаки. Мерин, запряженный в пролетку, был должным образом облаян.
За сто метров от хаты Кураева мажор-лейтенант Пряхин слез и расплатился с извозчиком. Он не хотел привлекать внимания аборигенов к своей персоне. Воспоминания о том, как он переусердствовал во время последнего полицейского расследования, были еще слишком свежими.
Пряхин двинулся вдоль забора прогулочным шагом. По пути ему пришлось пнуть ботинком наглого кобеля. Кобель отлетел в заросли конопли. Его истошный визг резанул слух, но не разбудил сонную окраину. «День воскресный — для Бога», — любил повторять обер-прокурор, когда еще был в состоянии выступать публично. Эта фраза вошла и в цитатник Великого Преобразователя. По правде говоря, Пряхин не возражал бы против отдыха и во все остальные дни недели…
Двор Кураевых был пуст. Мажор-лейтенант легко выяснил это, заглянув поверх низкого забора; затем, озираясь по сторонам, убедился в том, что его визит остался незамеченным соседями. Плевал он на соседей, но сегодня лишние разговоры были бы нежелательны.
Пряхин отворил калитку и брезгливо поморщился. Плодим нищету, подумал мажор-лейтенант с горечью и направился к покосившейся хате, стараясь не наступать на гроздья козьего дерьма. Кураевы упорно отказывались сдавать свое потомство в ясли Христианского Союза Молодежи, хотя едва сводили концы с концами. И подобных случаев непатриотичного поведения было немало. Недаром в городской управе рассматривался законопрект о принудительной передаче детей из бедных семей под опеку ХСМ. Пряхин считал, что это слишком мягкая мера. По его мнению, таких, как Лема, следовало кастрировать или стерилизовать.
Но сейчас его мысли были заняты другим, а именно, пропавшими детишками. Избытка домашней живности на убогом подворье также не наблюдалось. Пряхин заглянул в пустой коровник, в котором, судя по колыханию пыльных завес, давно обитали одни пауки. Коза жевала сочную траву, выросшую за сортиром. Еще бы — столько удобрений! По самым скромным подсчетам, тут ежедневно опорожнялись человек двенадцать.
Пряхин специально приготовил дрын, однако из собачьей будки никто не выскочил. На ней болтался обрывок веревки, навевая печаль. Мажор-лейтенант ничуть не удивился бы, узнай он, что псину съели. Не преступление, конечно, но как-то не по-христиански…
Дверь хаты оказалась незаперта. Запирать ее было бессмысленно — красть все равно нечего, кроме глиняной посуды и остова швейной машинки «Зингер» с ножным приводом, которая, вероятно, служила единственной игрушкой — чем-то вроде качелей для маленьких говнюков.
Пряхин заглянул в печь и во все темные углы. Их было не так много, чтобы спрятать хоть что-нибудь, кроме пыли. В единственном светлом углу висели иконы — мажор-лейтенант отметил это особо. Он тщательно проверил рекомендованные циркуляром Священного Синода от 7 ноября 22 года расположение, иерархию, аксессуары и не обнаружил никаких отклонений от канона или признаков чуждого культа. Правда, под иконами валялось слишком уж много дохлых мух и жуков, но Пряхин не придал этому особого значения (а вдруг святые, кроме всего прочего, еще и занимаются дезинсекцией?).
Он был доволен собой. Теперь он мог вызвать Лему к себе и задать тому прямые вопросы, почти не рискуя попасть в дурацкое положение. И пусть этот членоголовый ответит, куда подевал свое потомство!..
Вероятно, все так и было бы, не наступи Пряхин на люк. Металлический лист опасно прогнулся; массивное тело мажор-лейтенанта мгновенно отреагировало на угрозу падения. Он отскочил в сторону, а затем наклонился и подергал висячий замок.
Запертый погреб. С чего бы это? Да и сам замок — антикварная вещь — был полунищему Леме явно не по карману. Что бы там ни говорили бывшие коллеги из уголовной полиции, Пряхин обладал нюхом на все запретное. Сейчас нюх подсказывал ему: в этот погреб надо заглянуть.
С другой стороны, нюх Пряхина был каким-то половинчатым. Мажор-лейтенант мог бы и почуять, что его ждут большие неприятности. А почуяв, дважды подумал бы, прежде чем совать свой нос в осиное гнездо…