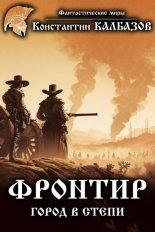Падение титана, или Октябрьский конь Маккалоу Колин
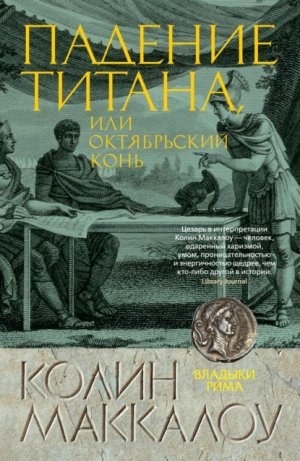
Местом постоянного пребывания этой баржи служил эллинг, располагавшийся чуть выше Мемфиса по течению Нила. Ее построили сто шестьдесят лет назад, но она хорошо сохранилась, ибо за ней прилежно ухаживали. Поливали водой, смазывали маслом, полировали, постоянно чинили и выводили из укрытия, только когда фараону хотелось проехать по Нилу.
Планировка «Нильского Филопатора», как называла баржу Клеопатра, включала в себя даже купальни. Аркада колонн соединяла палубные надстройки, носовую и кормовую. Одна из надстроек предназначалась для аудиенций, другая — для пиршеств. Под палубой, над гребным трюмом, размещались личные покои фараона и комнаты для множества слуг. Повседневную пищу готовили на жаровнях, защищенных экранами; когда намечалось пиршество, огонь разводили на суше. Большое судно продвигалось со скоростью легионера на марше, и десятки слуг следовали за ним по восточному берегу. Западный берег был царством мертвых и храмов.
Изумительная баржа, отделанная золотом, электроном, слоновой костью, обставленная мебелью из редких пород дерева, привезенных со всех концов света, включая лимонное дерево из Атласских гор, с самой поразительной текстурой, какую Цезарю когда-либо доводилось видеть, хотя в домах у богатых римлян имелись подлинные шедевры из этой ценной породы. Постаменты под статуями либо сплошь золотые, либо из слоновой кости. Сами статуи — работы Праксителя, Мирона, даже Фидия. Всюду висят картины Зевксида и Паррасия, Павсия и Никия. С ними соперничают роскошные гобелены. Много персидских ковров. В драпировке преобладают прозрачные ткани гармонирующих с обстановкой расцветок.
«Вот теперь, старый дружище Красс, — думал Цезарь, — я верю в твои рассказы о невероятных богатствах Египта. Как жаль, что ты не можешь быть здесь и любоваться всем этим! Корабль для воплощенного бога».
Баржа шла вверх по реке, влекомая не только веслами, но и парусом из тирского пурпура, ибо в Египте всегда дул северный ветер. А на обратном пути гребцам помогало сильное течение Нила, спешащего к Нашему морю. Цезарь видел много гребцов, он знал, какова у них жизнь и как с ними обращаются. Гребцы везде были людьми свободными, как и многие профессионалы, но Египет — не место для свободных людей. Каждый вечер перед заходом солнца «Нильский Филопатор» причаливал к какой-нибудь царской пристани на восточном берегу, всегда свободной, потому что там не могли швартоваться никакие другие суда.
Цезарь думал, что ему скоро все это надоест, но скука не приходила. Движение на реке было оживленным и красочным. Сотни одномачтовых каботажных судов под треугольными парусами везли из портов Красного моря всякие товары и еду. Большие глиняные кувшины были наполнены тыквами, шафраном, кунжутом, льняным маслом, тут же теснились ящики с финиками и живыми животными. Вокруг то и дело сновали плавучие лавки. Но все это находилось под строгим контролем речной полиции, всюду поспевавшей на своих быстроходных лодках.
Теперь, когда Цезарь плыл по Нилу, ему было легче понять феномен разливов этой реки. Ее берега в самой низкой своей части не поднимались выше восемнадцати футов, а в самой высокой не превосходили тридцати двух. Если вода не поднималась до первой отметки, разлив был вообще невозможен, если же она перехлестывала через вторую, бурный поток устремлялся в долину, смывал селения и посевы и долго не отступал.
Краски вокруг были яркими, впечатляющими. Небо с рекой — идеальной голубизны; дальние скалы, обозначавшие край безлюдного плато, — где бледно-желтые, где темно-малиновые, а сама долина полыхала всеми оттенками зелени, какие только можно вообразить. В это время года (по сезону — середина зимы) река полностью возвратилась в свои берега, и сочные, буйные всходы спешили заколоситься, чтобы весной дать урожай. Цезарь думал, что деревьев там нет, но с удивлением обнаружил кое-где рощицы, а иногда даже небольшие леса: фруктовое дерево, считавшееся в Египте священным, местный платан, терновник, дуб, фиговое дерево, пальмы всех видов, не говоря уже о знаменитых финиках.
Приблизительно в том месте, где южная половина Верхнего Египта становилась северной его частью, от Нила отходила протока, стремившая свои воды на север — к озеру Мерила. Практически параллельная основному руслу реки, она омывала с востока узкий и длинный кусок земли Та-Ше, достаточно плодородной, чтобы давать в год два урожая пшеницы и ячменя. Предыдущий Птолемей прорыл от озера к Нилу большой канал, сделав эту водную систему проточной. Земля Та-Ше хорошо орошалась, как, впрочем, и вся территория Египта Нила, растянутая на тысячу миль. Голод в стране порождала Александрия, то есть три миллиона нахлебников в ней. Численность коренных египтян, их кормивших, была куда меньше.
Скалы и безлюдное плато за ними назывались Красной Землей, а долина с ее постоянно восполняемыми массами более темного плодородного грунта именовалась Черной Землей.
По обоим берегам Нила стояли бесчисленные храмы, построенные в одну линию: ряды массивных пилонов, соединенных перемычками над воротами; стены, дворы, еще пилоны и ворота, ведущие дальше, вглубь, в святая святых — небольшое помещение, озаренное светом, идущим, казалось бы, ниоткуда. В святилище обычно находилось изваяние — какой-нибудь египетский бог с головой животного или кто-либо из великих фараонов, чаще всего — знаменитый строитель Рамсес II. Перед храмами зачастую тоже ставились статуи фараонов, а к сокровенным святилищам подводили ряды образующих аллеи сфинксов с бараньими, львиными и человеческими головами. В глаза бросалось обилие изображений двумерных людей, растений, животных, ярко раскрашенных всеми мыслимыми цветами. Египтяне любили насыщенные цвета.
— Большинство Птолемеев строили, чинили или заканчивали строительство наших храмов, — рассказывала Клеопатра, когда они с Цезарем бродили по замечательному лабиринту верхнеегипетского города Абидоса. — Даже мой отец Авлет много строил. Он так хотел быть фараоном. Видишь ли, когда пятьсот лет назад Камбиз Персидский вторгся в Египет, он счел здешние храмы и усыпальницы-пирамиды кощунственными и либо покалечил их, либо разрушил совсем. Так что для нас, Птолемеев, осталась масса работы. Птолемеи, первые после коренных египтян, бывших подлинными правителями Египта, не остались равнодушными к этой беде. Я тоже заложила фундамент нового храма Хатор, но хочу, чтобы в этом строительстве ко мне присоединился и наш сын. С этого он начнет и впоследствии станет самым величайшим строителем храмов во всей истории Египта.
— Но зачем бы эллинизированным Птолемеям блюсти в своем строительстве древнеегипетский стиль? Вот и тебе, похоже, милей иероглифы, чем греческое письмо.
— Может быть, дело в том, что многие из нас были не только царями, но и фараонами, и уж конечно, большую роль тут сыграли жрецы — это очень древняя каста. Они столь искусны как архитекторы, скульпторы и художники, что их ценят даже в Александрии. Но подожди, и ты увидишь храм Исиды на острове Филы! Его мы сделали немного эллинизированным. Поэтому, думаю, он и считается самым красивым храмовым комплексом в Египте.
Сам Нил кишел рыбой, включая оксиринка — чудовище весом в тысячу фунтов. Имелся даже город с таким названием. Народ ел рыбу — и свежую, и копченую. Она была основным продуктом питания. Окунь и карп водились тут в изобилии. И к большому удивлению Цезаря, в реке резвились дельфины, легко, почти с высокомерным презрением уворачиваясь от хищников-крокодилов.
Много разных животных считались священными. Иногда тех или иных почитали только в одном городе, а иногда везде. Вид Сухиса, гигантского священного крокодила, которого насильно кормили медовыми пряниками и жареным мясом и поили сладким вином, вызвал у Цезаря смех. Тридцатифутовое существо так утомилось, что пыталось увильнуть от жрецов-кормильцев, но напрасно. Те насильно открывали гигантскую пасть и пихали туда еду, а крокодил лишь стонал и вздыхал. Цезарь видел быка Бухиса, быка Аписа, их матерей, храмовые комплексы, в которых они вели жизнь изнеженных сибаритов. Священных быков, их матерей, а также ибисов с кошками мумифицировали после смерти и помещали на отдых в просторные подземелья. Кошки и ибисы, на взгляд чужеземца, были особенно трогательными — сотни тысяч маленьких фигурок, облитых янтарной смолой, сухих, как бумага, застывших и неподвижных, в то время как души их бродят по царству мертвых.
Пока «Нильский Филопатор» все ближе подплывал к самым южным районам Верхнего Египта, Цезарь размышлял о том, что египтяне неслучайно сделали своих богов полулюдьми-полуживотными, ибо Нил — это весь их мир, где животные органически входят в жизнь человека. Крокодил, гиппопотам и шакал внушают ужас. Крокодил таится, чтобы схватить неосторожного рыбака, или собаку, или ребенка. Гиппопотам сотрясает берег, поедая посевы и втаптывая их в землю своими огромными ножищами. Шакал шастает по домам, крадет младенцев и кошек. Поэтому Собек, Таверет и Анубис — злые боги. А вот Бастет-кошка ест крыс и мышей. Гор-ястреб делает то же самое. Тот-ибис склевывает насекомых-вредителей. Хатор-корова дает мясо и молоко. Хнум-баран производит овец — это то же мясо и молоко, а также шерсть. Для египтян, замкнутых в узкой долине и живущих только тем, что дает им река, боги естественно должны быть и животными, и людьми. А над всем этим Амун-Ра — солнце, ежедневно дарующее всему живому свой свет. Или взять луну. Для римлян она или дождь, или женский цикл, или перепад в настроении, а для египтян луна — это лишь часть Нут, ночного неба, которое тоже дает земле жизнь. Что касается представления о богах, то римляне смотрят на них как на силы, пролегающие связующие пути между двумя весьма разными мирами, а египтяне — нет, они живут по-иному. Там, где есть только солнце, небо, река, человек и животные. Космология без абстрактных концепций.
Хорошо было бы увидеть место, где Нил вытекает из бесконечного красного ущелья, чтобы стать всем для Египта. Клеопатра говорила, что в сухой Нубии река ничего не увлажняет, ибо течет среди скал.
— А в Эфиопии в Нил впадают два притока, и он опять становится добрым, — объясняла она. — Эти два притока собирают летом дожди и разливаются, а сам Нил течет мимо Мероэ, где живут царицы египтян-изгнанников — сембритов, некогда правивших Египтом. Они такие жирные, что не могут ходить. Сам Нил питается от дождей, которые идут круглый год где-то далеко за Мероэ, вот почему он не высыхает зимой.
Они осмотрели первый ниломер на острове Элефантина возле малого водопада и двинулись вверх по реке к Первому порогу, где вода белой пеной падала с обрыва. Затем поплыли к колодцам Сиены, знаменитым тем, что в самый длинный день года полуденное солнце любуется своим отражением в их глубине.
— Да, я читал Эратосфена, — сказал Цезарь. — Здесь, над Сиеной, солнце останавливает свой путь на север и снова идет на юг. Эратосфен назвал это тропиком, поворотной точкой. Выдающийся человек. Помнится, именно он утверждал, что геометрию и тригонометрию изобрели в Египте, а не где-то еще. И мальчишки, такие как я, яростно спорили со своими учителями, отдававшими пальму первенства в этом Эвклиду. А мы говорили, что геодезия в первую очередь была нужна египтянам, чьи межевые камни ежегодно передвигала вода.
— Да, но не забывай, что именно носатые греки обо всем этом написали! — засмеялась Клеопатра, хорошо знавшая математику.
В этом путешествии Цезарь узнал очень многое и о Клеопатре, и о Египте. Нигде, ни у народов, обитавших вокруг Нашего моря, ни у парфян, монарх не пользовался таким почитанием, как фараон в Египте. И это почитание не вызывалось рабским желанием подольститься к высокородной особе или животным страхом, оно было чем-то само собой разумеющимся. Народ собирался на берегу, чтобы бросить цветы на проплывающую мимо баржу и пасть ниц, выкрикивая имя своей властительницы. И так по всему ходу баржи — люди падали, поднимались, падали, поднимались. Само присутствие фараона проливало на них благодать, и разлив Нила был идеальным.
При всякой удобной возможности Клеопатра взбиралась на палубное возвышение и вставала так, чтобы подданные могли видеть ее круглый живот. И его видели все. В каждом городе, в каждом селении. Она стояла величественная, невозмутимая, в белой короне Верхнего Египта. Баржу окружали маленькие рыбацкие лодки из ивовых прутьев, обтянутых кожей. Порой вся палуба утопала в цветах. Шесть месяцев беременности сказывались на ее внешности. Она потеряла всякую привлекательность, подурнела. Но женщина не имела значения. Фараон — вот что было важнее всего.
Несмотря на частые перерывы в общении, они очень много разговаривали. Это доставляло больше удовольствия Цезарю, чем Клеопатре. Упорное нежелание Цезаря обсуждать что-либо касающееся интимных сторон его жизни раздражало ее, даже злило. Ей так хотелось узнать поподробнее и о его романе с Сервилией (об этом судачил весь мир!), и о его жене, с которой он много лет состоял в браке, но вряд ли сожительствовал, и о целой череде брошенных женщин, которых он соблазнял лишь для того, чтобы наставить рога их мужьям, своим политическим противникам. Ох! Так много тайн! Тайн, о которых он отказывался говорить, хотя говорил постоянно. То учил ее, как надо править, как вводить законы и как вести войны. То принимался рассказывать поразительные истории о галльских друидах, о храмах на озере в Толозе, о золоте, которое украл Сервилий Цепион, об обычаях и традициях полсотни разных народов. Пока предмет разговора не касался личного, он с удовольствием рассказывал. Но как только Клеопатра пыталась забросить сети глубже, он замыкался, уходил в себя.
Естественно, во время возвращения на север Клеопатра не могла не посетить храм Пта. Цезарь видел пирамиды с баржи, но теперь, пересев на коня, он отправился к ним, сопровождаемый Ха-эмом. Клеопатра, будучи на последних месяцах беременности, отказалась от этой поездки.
— Камбиз Персидский пытался снять с пирамид полированную облицовку, но ему надоело ее отковыривать, и он сосредоточился на разрушении храмов, — сказала она. — Вот почему они почти нетронуты.
— Хоть убей, Ха-эм, не могу понять, зачем живому человеку, даже провозглашенному богом, посвящать так много времени и труда сооружению, которое ему совершенно не нужно при жизни, — сказал с искренним удивлением Цезарь.
— Что ж, — промолвил Ха-эм с легкой улыбкой, — ты должен помнить, что и Хуфу, и остальные фараоны сами не работали. Возможно, они приезжали понаблюдать за ходом строительства, но дальше этого дело не шло. Пирамиды построены высококвалифицированными мастерами. В пирамиде Хуфу около двух миллионов больших каменных блоков, но ее в основном сооружали во время разливов, когда баржи могли доставлять эти камни к плато. Работы велись в свободные от полевой страды дни. На время уборочных или посевных они прекращались. Полированная облицовка камней — это известняк. Когда-то вершины каждой из пирамид были покрыты золотом, увы, снятым впоследствии чужеземными узурпаторами. Могилы в них были вскрыты тогда же и, разумеется, разграблены. Так что все находившиеся там сокровища бесследно пропали.
— Тогда где же хранятся сокровища здравствующего фараона?
— Ты хотел бы на них посмотреть?
— Очень. — После паузы Цезарь вновь заговорил: — Ты должен понять, Ха-эм, что я пришел сюда не с намерением ограбить эту страну. Все, что в ней есть, отойдет моему сыну… или дочери. — Он пожал плечами. — Но меня не радует мысль, что в будущем мой сын может жениться на моей дочери. Инцест неприемлем для римлян. Хотя — вот странность! — из разговоров солдат я понял, что их больше раздражают ваши боги-животные, чем пресловутый инцест.
— Но сам ты понимаешь наших богов-животных, я вижу это по твоим глазам. — Ха-эм развернул своего осла. — Едем к хранилищу, Цезарь.
Рамсес II возвел храмовый комплекс Пта на площади больше чем в половину квадратной мили. Подходы к нему охраняли ряды великолепных сфинксов с бараньими головами. Возле западных пилонов стояли колоссальные статуи самого же Рамсеса, тщательно раскрашенные.
Цезарь подумал, что никто, даже он сам, не нашел бы входа в подвалы, не зная заранее, где он расположен. Ха-эм провел его через серию однообразных проходов к внутреннему святилищу, освещенному призрачным светом. Там находились статуи мемфисской Триады, тоже раскрашенные и относительно небольшие — в человеческий рост. Сам Пта-создатель стоял в середине, с бритой головой и в золотой шапочке, плотно прилегающей к черепу. Он был, подобно мумии, с ног по шею завернут в бинты и держал в оголенных руках жезл в виде столба, большой бронзовый анкх (Т-образный предмет, увенчанный петлей) и скипетр с навершием в форме крюка. Справа от него стояла его жена Сехмет, с телом стройной женщины, но с головой льва, увенчанной диском Ра и уреем-коброй над гривой. Слева от Пта стоял их сын Нефертем, хранитель Верхнего и Нижнего Египта и бог Лотоса, в высокой голубой короне, изображающей лотос и украшенной с обеих сторон плюмажами из белых страусовых перьев.
Ха-эм потянулся к жезлу Пта, отделил от него анкх и передал этот довольно тяжелый предмет Цезарю. Затем он повернулся, вышел из помещения и двинулся в обратный путь. Однако до привратных пилонов он не дошел, а остановился в ничем не примечательной секции коридора, встал на колени и обеими ладонями надавил на ближайший к нему картуш чуть выше пола. Картуш немного подался вперед, и Ха-эм вынул его из стены, взял у Цезаря анкх и вставил его тупой конец в отверстие.
— Мы долго думали, как обмануть грабителей гробниц, — сказал он, толкая анкх взад-вперед и осторожно поворачивая его за петлю. — Ведь они знают все трюки. В конце концов мы остановились на самом простом механизме, но в трудно определяемом месте. Коридоров здесь много, и это всего лишь один из них. — Он сделал еще усилие, и что-то вдруг громко заскрежетало. — Вся история Рамсеса Великого начертана на стенах проходов, а среди иероглифов и рисунков размещены картуши его многочисленных сыновей. А пол… что ж, он тут такой же, как и везде.
Пораженный Цезарь обернулся на шум и увидел, что гранитная плита в центре пола поднялась несколько выше уровня соседних с ней плит.
— Помоги-ка мне, — сказал Ха-эм, отпуская анкх, оставшийся торчать в скважине незримого механизма.
Цезарь опустился на колени, помог поднять плиту и заглянул в темноту. Пол был выложен рисунком, который позволил им поднять две другие, меньшего размера, плиты вокруг центральной плиты и убрать их в стороны. Дыра в полу стала достаточно большой, чтобы в нее могли пролезть даже очень полные люди.
— Помоги мне, — снова сказал Ха-эм, берясь за бронзовый стержень со сверкающим концом, на который была насажена большая плита.
Стержень свободно поворачивался, и в результате плита оказалась поднятой на пять футов. Ха-эм привычным движением сунулся внутрь, пошарил там и извлек два факела.
— А теперь, — сказал он, поднимаясь, — мы пойдем к священному огню и зажжем их, потому что в подвалах нет света.
— А воздух там есть, чтобы факелы могли гореть? — спросил Цезарь, когда они шли к святая святых, маленькой комнате, где горел огонь под присмотром сидящего Рамсеса.
— Пока плиты подняты — да, если мы не пойдем далеко. Если бы я пришел сюда с намерением что-то забрать, со мной явились бы еще два жреца с кузнечными мехами и вдували бы внутрь воздух.
При слабом свете факелов они спустились по ступеням в подземелье под святилищем Пта, миновали нечто вроде прихожей и попали в лабиринт узких туннелей с рядами дверей по обеим сторонам, ведущих в секретные кладовые. Некоторые кладовые были наполнены золотыми болванками, ящиками с драгоценными камнями и жемчугом всех цветов и сортов. В других комнатах сильно пахло дубильной корой, специями, фимиамом, лазерпицием. В третьих хранились слоновая кость, порфир, алебастр, горный хрусталь, малахит, лазурит. В четвертых — эбонитовое дерево, цитрусовое дерево, электрон (сплав золота с серебром) и золотые монеты. Но никаких статуй или картин — в общем, того, что Цезарь мог бы назвать произведениями искусства.
Он возвратился в обычный мир пораженным. Под его ногами лежало такое богатство, что даже семьдесят крепостей Митридата Великого со всеми их тайниками бледнели перед ним. «Правду говорил Марк Красс: мы в западном мире понятия не имеем о том, какое богатство накопили восточные монархи, ибо не ценим богатство ради него самого. Само по себе оно и впрямь бесполезно, в лежачем, так сказать, виде. Будь все это моим, я тут же переплавил бы металлы, а остальное рассортировал и распродал, чтобы вложить выручку в экономическое развитие Рима. А Марк Красс только ходил бы вокруг сокровищ, напевая себе под нос. Несомненно, все началось с одного яичка в гнезде, но вылупилось из этого яичка чудовище, потребовавшее немыслимой хитрости и изворотливости для своей охраны».
Вернувшись в коридор, они ввинтили обратно пятифутовый бронзовый стержень и отпустили защелку, приводящую в действие невидимый механизм. Потом положили на место окружающие плиты и опустили центральную вровень с остальным полом. Сколько ни смотрел Цезарь на напольные плиты, он не мог найти входа. Он потопал ногами, но звук везде был глухим, ибо четырехдюймовые плиты его с легкостью поглощали.
— Если кто-то присмотрится к картушу, — сказал он Ха-эму, когда тот возвращал анкх Пта, — то сможет заметить, что его трогали.
— Но это будет не завтра, — спокойно ответил Ха-эм, — а тем временем щели заштукатурят, покрасят, состарят, и он будет выглядеть как сотня других.
Еще совсем юношей Цезаря захватили пираты, скрывавшиеся в одной из ликийских бухт. Они были совершенно уверены, что эту бухту нельзя обнаружить, и даже позволили пленнику оставаться на палубе, когда вплывали в нее. Но Цезарь перехитрил их. Он сосчитал бухты и, после того как его выкупили, вернулся и наказал наглецов. Так же и тут: он сосчитал картуши между тем, который выскакивал из стены, и святилищем Пта. Одно дело, думал он, следуя за Ха-эмом к выходу, не знать секрета, и совсем другое, когда ты знаешь его. Чтобы найти подвалы с сокровищами, грабителям потребовалось бы разобрать по камешку весь этот храм. Но Цезарь умел производить простые расчеты. Нет, он, конечно, не собирался похищать то, что однажды будет принадлежать его сыну. Однако человек думающий всегда сможет воспользоваться имеющейся возможностью.
5
В конце мая они вернулись в Александрию. Оказалось, что все развалины уже разобраны и убраны и на их месте строятся новые здания. Митридат Пергамский переехал в удобный дворец с женой Береникой и дочерью Лаодикой, а Руфрий занимался строительством гарнизонного лагеря для оставшегося на зиму войска на восточной стороне города, около ипподрома, считая разумным поместить легионы поближе к евреям и метикам.
А Цезарь все советовал, все напоминал:
— Не скупись, Клеопатра! Корми свой народ. Не заставляй бедноту компенсировать взлеты цен на продукты! Почему, ты думаешь, у Рима почти нет неприятностей с простым людом? Не делай платными гонки на колесницах, подумай и о бесплатных спектаклях на агоре. Пусть греческие актеры ставят там Аристофана, Менандра. Больше веселых пьес — бедные люди не любят трагедий, ибо они в них живут. Они предпочитают посмеяться и хотя бы на полдня забыть о своих проблемах. Сооружай фонтаны в бедняцких кварталах, строй там простые дешевые бани. В Риме помывка в публичной бане стоит четверть сестерция — люди уходят чистыми, в радужном настроении. И пожалуйста, летом возьми под контроль этих несчастных птиц! Найми расторопных мужчин и женщин, пусть моют улицы, и поставь приличные общественные уборные в местах, где есть канавы с проточной водой. Поскольку чиновники Александрии и Египта доказали свою полную несостоятельность, составь новые списки граждан, в которые будут входить и неимущие, и знать. Составь список по зерну, согласно которому бедным будут выдавать по одному медимну пшеницы в месяц плюс норму ячменя, чтобы они могли варить пиво. Доходы, которые ты начнешь получать, надо разумно распределять, а не хранить без всякой пользы. Если ты будешь копить эти деньги, экономику государства ждет скорый крах. Александрия укрощена, но твоя обязанность — сохранить ее укрощенной.
И еще, и еще, и еще. Законы, которые следует провести, постановления и указы. Общественная система проверок. Реформирование египетских банков, тех, что являются собственностью фараона и контролируются им через чиновников. Так не годится, так жить нельзя!
— Трать больше денег на образование, поощряй педагогов устраивать школы в общественных местах и на рынках, плати им за то. Пусть дети учатся. Тебе нужны писари, счетоводы. А поступающие книги помещай прямо в музей! Государственные слуги ленивы, поэтому строго за ними приглядывай и не предлагай никому пожизненных должностей.
Клеопатра покорно слушала, чувствуя себя тряпичной куклой, которая кивает головой всякий раз, когда ее трясут. Теперь, на восьмом месяце, она ходила медленно, не удаляясь надолго от ночного горшка. Сын Цезаря толкал ее изнутри, а сам Цезарь долбил ее мозг. Она терпела. Она была согласна вытерпеть все, кроме мысли о том, что он скоро уедет и ей придется как-то существовать без него.
Наконец наступила последняя ночь, июньские ноны. На рассвете Цезарь, три тысячи двести человек шестого легиона и германская кавалерия должны были отправиться в Сирию и преодолеть первый отрезок пути в тысячу миль.
Клеопатра очень старалась сделать приятной эту ночь, хорошо понимая, что, хотя он по-своему и любит ее, ни одна женщина не может заменить в его сердце Рим или значить для него столько же, сколько десятый или шестой легионы. «Ну что ж, они были с ним намного дольше. Они вошли в его жизнь, в его душу. Но я тоже готова умереть за него. Готова, готова! Он — отец, которого у меня не было, муж моего сердца, идеальный мужчина. Никто в этом мире не может сравниться с ним! Даже сам Александр Великий. Тот тоже был безрассудно смелым завоевателем, но его не интересовали мирские дела разумного правления или пустые животы бедноты. А Цезарь другой. Вавилон его не манит. Он никогда не променяет свой Рим на Александрию. О, если бы он только сделал это! С Цезарем и со мной Египет стал бы центром мира. Египет, а не Рим».
Они могли целоваться и обниматься, но секс был невозможен. Впрочем, Цезаря, умеющего себя контролировать, это ничуть не смущало. «Мне нравится, что он старается доставить мне удовольствие. Его прикосновения ритмичные, сильные, а кожа ладоней такая гладкая. Когда он уедет, я буду ее вспоминать. Его сын будет похож на него».
— После Азии ты направишься в Рим? — спросила она.
— Да, но не надолго. Я проведу кампанию в провинции Африка и навсегда покончу с республиканцами, — ответил Цезарь и вздохнул. — Ох, если бы Магн был жив! Все могло бы пойти по-другому.
Как это иногда с ней бывало, она вдруг почувствовала, что ждет его впереди.
— Это не так, Цезарь. Если бы Магн был жив, если бы он помирился с тобой, ничто бы не изменилось. Слишком много тех, кто никогда не склонится перед тобой.
Какое-то время он молчал, потом засмеялся.
— Ты права, любовь моя, абсолютно права. Это Катон их всех подстрекает.
— Рано или поздно ты навсегда останешься в Риме.
— Может быть, может быть. Но первым делом мне надо покончить с парфянами и отобрать у них римских орлов Красса.
— Но я должна тебя снова увидеть! Должна! Как только твои войны закончатся, ты осядешь в Риме и будешь править им. Тогда я смогу приехать в Рим, чтобы быть с тобой.
Он приподнялся на локте и посмотрел на нее.
— Клеопатра, неужели ты так никогда ничего и не усвоишь? Ни один властелин в мире не может покидать надолго свою страну. Ты монарх, и твой долг — править. Вот почему тебе нельзя ехать в Рим.
— Ты тоже монарх, но ты уезжаешь из Рима. И даже на годы, — упрямо возразила она.
— Я не монарх! В Риме есть консулы, преторы, целая система магистратуры. Диктатор — это временная должность, не больше. Поставив Рим на ноги, я тут же сниму с себя диктаторские полномочия. Как это сделал Сулла. По конституции я не могу править Римом. И я не буду им править. А ты правишь Египтом. Тебе нельзя его покидать.
— О, давай не будем ссориться в нашу последнюю ночь! — воскликнула она, схватив его за руку.
Но про себя подумала:
«Я — фараон, я — бог на земле! Я могу делать все, что захочу, и ничто меня не удержит. У меня есть дядя Митридат и четыре римских легиона. Так что когда ты победишь республиканцев, Цезарь, я приеду к тебе.
Говоришь, ты не будешь править Римом?
Конечно же будешь!»
II
МАРШ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ КАТОНА
Секстилий (август) 48 г. до P. X. — май 47 г. до P. X
1
Лабиен спешил к Катону и Цицерону с вестью о поражении Помпея Великого при Фарсале. Меняя лошадей, он достиг Адриатического побережья Македонии через три дня после битвы. Последнего, десятого, коня он почти загнал. Хотя он был один и в заляпанных дорожной грязью доспехах, часовые у ворот лагеря сразу узнали это смуглое лицо неримского типа. Все рядовые солдаты знали и боялись того, кто командовал кавалерией у Помпея.
Уверенный, что Катон находится в генеральской резиденции, Лабиен спрыгнул с еле держащегося на ногах коня и зашагал по главной улице лагеря к алому флагу, чье полотнище было так натянуто свежим морским бризом, что казалось жестким. Вопреки всему он надеялся, что Катон будет один. Сейчас не тот момент, чтобы выслушивать разглагольствования Цицерона.
Но, увы, великий адвокат был на месте. Его тщательно выверенная, облеченная в официально-гладкие фразы латынь немолчным потоком лилась из открытой двери, словно он обращался к членам жюри, а не к мрачному, насупившемуся Катону. Едва шагнув через порог, Лабиен заметил, что терпением Катона немилосердно злоупотребляют.
Увидев соратника, оба разом вскочили, готовые засыпать его вопросами. Но выражение лица Лабиена заставило их прикусить языки.
— Он разбил нас меньше чем за час, — коротко бросил Лабиен, прямиком направляясь к столу с вином.
Жажда заставила его залпом осушить содержимое чаши. Он содрогнулся от отвращения и, кривя губы, спросил:
— Катон, почему у тебя никогда нет хорошего вина?
На новость первым отреагировал, конечно же, Цицерон.
Он пронзительно закричал, замахал руками.
— Это чудовищно, невозможно, ужасно! — воскликнул он, заливаясь слезами. — Что я здесь делаю? Зачем я только отправился в это злосчастное путешествие? По справедливости я должен быть сейчас в Италии, если не в Риме. Там я мог бы приносить хоть какую-то пользу, а здесь только мешаю!
И так далее, и так далее. Неизвестно, что вызвало этот припадок самобичевания, но остановить его было нельзя.
Катон стоял молча, чувствуя странное онемение в челюстях. Случилось невероятное — Цезарь победил. Но как такое могло случиться? Как? Как неправому удалось доказать, что он прав?
Их реакция не удивила Лабиена. Он слишком хорошо знал этих людей и слишком мало любил. Выбросив Цицерона из головы, он сосредоточил внимание на Катоне, самом закоренелом, самом заклятом из бесчисленных врагов Цезаря. Очевидно, Катон даже и не думал, что его сторонников — республиканцев, как они себя называют, — может побить человек, поправший все догматы неписаной конституции Рима и святотатственно пошедший войной на свою собственную страну. Сейчас Катон был похож на жертвенного быка, которого ударили молотом по лбу и он упал на колени, не понимая, как это случилось.
— Он разбил нас меньше чем за час? — переспросил наконец Катон.
— Да, хотя был в значительном меньшинстве, без резервов и только с тысячью кавалерии. Я и представить себе не мог, что такое важное сражение займет так мало времени. Как теперь назовут наше поражение? Фарсал!
«И это, — поклялся себе Лабиен, — все, что вы услышите от меня о Фарсале. Я командовал легионами Цезаря с первого до последнего дня его пребывания в Длинноволосой Галлии, и я был уверен, что сумею его победить. Я был убежден, что без меня он не сможет выигрывать битвы. Но Фарсал показал мне, что это не так. Мои отношения с Цезарем всегда были отношениями подчиненного и генерала. Генерал отдавал мне приказы, он знал мои возможности. И всегда оставлял стратегию за собой. Он просто превратил Требония, Децима Брута, Фабия и всех остальных в тактические орудия его стратегической воли.
Где-то на пути от Рубикона к Фарсалу я упустил это из виду. И повел свои шесть тысяч конников против тысячи конных германцев, считая сражение уже выигранным. Сражение, которое разработал я сам, потому что великий Помпей Магн слишком устал от постоянных раздоров в своей генеральской палатке и был не в состоянии думать о чем-либо, кроме жалости к самому себе. Я хотел сражения, его „диванные“ генералы хотели сражения, а Помпей Магн хотел вести войну по методу Фабия — морить противника голодом, всячески досаждать ему, но не вступать с ним в открытую драку. Да, он был прав, а мы — нет. В скольких больших сражениях принимал участие Цезарь, зачастую со щитом и мечом и в первых рядах? Почти в пятидесяти. Нет ничего, чего бы он не добился. Все для него достижимо. Причем того, чего я добиваюсь, наводя страх — нет, даже ужас! — на своих подчиненных, он легко добивается, вызывая в солдатах любовь. Они любят его больше жизни».
Горечь этого подведенного в мыслях итога заставила его схватить почти пустую бутылку и швырнуть ее на пол. Она покатилась, звеня.
— Неужели все хорошее вино ушло на восток, в Фессалию? — зло спросил Лабиен. — И в этой дыре нет ни одной капли жидкости, стоящей того, чтобы ее выпить?
Катон наконец ожил.
— Есть или нет, я не знаю и знать не хочу! — пролаял он. — Если ты хочешь лакать нектар, Тит Лабиен, ступай куда-нибудь… куда хочешь! И этого, — добавил он, ткнув пальцем во все еще стенающего Цицерона, — не забудь взять с собой!
Не желая видеть, как они воспримут его слова, он вышел за порог и направился к извилистой тропе, ведущей на вершину каменистого холма Петра.
«Не месяцы, а несколько дней. Сколько дней, восемнадцать? Да, всего восемнадцать дней прошло с тех пор, как Помпей Магн повел нашу огромную армию в Фессалию, на восток. Он не хотел, чтобы я был с ним, — моя критика его раздражала. Поэтому он решил взять с собой моего дорогого Марка Фавония, а меня оставил здесь, в Диррахии, для присмотра за ранеными солдатами.
Марк Фавоний, лучший мой друг, — где он теперь? Если бы он был жив, вернулся бы ко мне с Титом Лабиеном.
Лабиен! Законченный мясник, варвар в шкуре римлянина, дикарь, который испытывал наслаждение, подвергая мучениям своих сограждан просто за то, что они были на стороне Цезаря, а не Помпея. А Помпей, имевший наглость наречь себя Магном — Великим, даже не пикнул, когда Лабиен пытал семьсот пленных солдат из девятого легиона. Людей, которых он очень хорошо знал по Длинноволосой Галлии. Вот в чем причина, вот почему мы потерпели поражение в решительном сражении под Фарсалом. Правильный курс был взят неправильными людьми.
Помпей Магн больше не Великий, и наша любимая Республика в агонии. Меньше чем за час».
С высоты холма Петра открывался великолепный вид на темное, как вино, море под сероватым небом с чуть размытым солнечным диском, на покрытые буйной зеленью холмы, убегающие к далеким вершинам Кандавии, на небольшой островной городок Диррахий, связанный с материком прочным деревянным мостом. Тихий пейзаж. Мирный. Даже бесконечные мили грозных фортификаций, ощетинившихся башнями и повторяющихся по другую сторону ничейной земли, стали ландшафтом, словно они всегда были тут. Немые свидетельства титанической работы обеих сторон во время осады, длившейся месяцы, пока в одну ночь Цезарь вдруг не исчез, позволив Помпею возомнить себя победителем.
Катон стоял на вершине Петры и смотрел в сторону юга. Там, в ста милях отсюда, на острове Коркира, находился Гней Помпей, его огромная морская база, сотни его кораблей, тысячи моряков, гребцов и морских пехотинцев. Странно, но у старшего сына Помпея Магна открылся талант адмирала.
Ветер трепал кожаные полоски его юбки и рукавов, развевал длинные седеющие рыжеватые волосы, прижимал бороду к груди. Прошло полтора года с тех пор, как он покинул Италию, и все это время он не брился и не стригся. Катон был в трауре по потерпевшему крах mos maiorum, по которому Рим всегда жил и должен был жить вечно. Но вот уже в течение ста лет mos maiorum упорно подрывают всякие политические демагоги и военачальники, и Гай Юлий Цезарь — худший из них.
«Как я ненавижу Цезаря! Я ненавидел его еще до того, как достаточно повзрослел, чтобы войти в сенат. За вид, за манеры, за красоту, за изумительное красноречие, за блестящую способность к законотворчеству, за обыкновение наставлять рога своим политическим оппонентам, за беспрецедентный военный талант, за абсолютное презрение к mos maiorum и, наконец, за неоспоримую знатность. Как мы воевали с ним на Форуме и в сенате, мы, назвавшие себя boni — добрыми людьми, патриотами Рима! Катул, Агенобарб, Метелл Сципион, Бибул и я. Катул теперь мертв, Бибул мертв. Где Агенобарб и этот монументальный идиот Метелл Сципион? Неужели я — единственный выживший boni?»
Вдруг пошел дождь, что не было неожиданностью в этих местах, и Катон возвратился в генеральскую резиденцию, где теперь находились только Статилл и Афенодор Кордилион. Два человека, которых он всегда был рад видеть.
Статилл и Афенодор Кордилион были парой его домашних философов так много лет, что никто и вспомнить не мог. Он кормил их и платил им за то, что они составляли ему компанию. Только настоящий стоик мог вынести гостеприимство Катона дольше одного-двух дней, ибо этот правнук бессмертного Катона Цензора гордился простотой своих вкусов. Окружающие стали называть его скрягой, но это нисколько не расстраивало Катона. Он был невосприимчив как к критике, так и к хорошему мнению других о нем. Но не меньше, чем к стоицизму, Катон был привержен к вину. Хотя вино, которое он распивал со своими философами, было дешевым и очень невкусным, зато запас его был бездонным. Катон без тени смущения заявлял, что если раб, стоящий меньше пяти тысяч сестерциев, делает столько же, сколько невольник, стоящий в пятьдесят раз дороже, то зачем переплачивать? А еще он не терпел в доме женщин.
Поскольку все римляне, даже совсем неимущие, любили удобства, странная приверженность к аскетизму выделяла Катона из общего ряда. Многие им даже восхищались. Это качество вместе с его поразительной целеустремленностью и неподкупностью возвысило его до статуса героя. Каким бы неприятным ни было порученное ему дело, он вкладывал в него всю душу. Его грубый, немелодичный голос, его блестящая способность устраивать обструкции на Форуме и в сенате, его слепое стремление скинуть Цезаря с пьедестала — все это дополняло образ несгибаемого борца. Ничто не могло запугать Катона, никто не мог урезонить его.
Статилл и Афенодор Кордилион и не думали его урезонивать. Немногие любили Катона, а вот они любили.
— Тит Лабиен остановился здесь? — спросил Катон, направляясь к столу с вином и наливая себе целую чашу, в которую даже и не подумал долить воды.
— Нет, — ответил Статилл, чуть улыбнувшись. — Он поселился там, где раньше жил Лентул Крус, и выпросил амфору лучшего фалернского вина у квартирмейстера, чтобы утопить свое горе.
— Пусть ему будет хорошо везде, только бы не у нас, — сказал Катон, ожидая, когда слуга снимет с него кожаные доспехи. Потом сел со вздохом. — Думаю, новость о нашем поражении уже распространилась?
— Повсюду, — ответил Афенодор Кордилион. В его старческих ревматических глазах стояли слезы. — О, Марк Катон, как мы будем жить в новом мире, которым будет править тиран?
— Старый мир еще не ушел в прошлое. И не уйдет, покуда я жив. — Катон залпом выпил вино и вытянул длинные мускулистые ноги. — Я полагаю, многие выжившие при Фарсале думают так же, как я. И уж определенно Тит Лабиен. Если Цезарь еще склонен раздавать помилования, Лабиена он ни за что не помилует. Не помилует, а?! Словно он уже царь. Абсолютно всех восхищает его милосердие, им восторгаются, ему поют хвалы! Ха! Цезарь — второй Сулла. Царская кровь в жилах его прямых предков текла еще семь столетий назад! Даже больше чем царская. Сулла никогда не претендовал на происхождение от Венеры и Марса. Если Цезаря не остановить, он провозгласит себя царем Рима. По крови он может быть таковым. А теперь у него есть и власть. Чего у него нет — это пороков Суллы. А лишь пороки помешали Сулле повязать лоб диадемой.
— Тогда мы должны принести жертву богам, чтобы Фарсал не стал нашим последним сражением, — сказал Статилл, наполняя чашу Катона из новой бутылки. — Хорошо бы разузнать больше о том, что случилось! Кто жив, кто убит, кого взяли в плен, кто спасся…
— У этого вина подозрительно хороший вкус, — прервал его Катон, хмурясь.
— Я решил, что… мм… после таких ужасных вестей мы не предадим наших убеждений, если последуем примеру Лабиена, — сказал, словно бы извиняясь, Афенодор Кордилион.
— Потворствовать своим сибаритским наклонностям неправильно, какими бы ужасными ни были новости, — отрезал Катон.
— Я не согласен, — раздался с порога вкрадчивый голос.
— О, Марк Цицерон, — невыразительно сказал Катон с неприветливым видом.
Все еще всхлипывая, Цицерон сел в кресло, с которого он мог видеть Катона, вытер глаза свежим, чистым большим носовым платком — обязательный аксессуар гения судопроизводства — и принял чашу с вином от Статилла.
«Я знаю, — отстраненно подумал Катон, — что горе его неподдельно, но меня от него тошнит. Человек должен победить все свои эмоции, только тогда он станет по-настоящему свободным».
— Что тебе удалось узнать у Тита Лабиена? — рявкнул он так, что Цицерон подскочил. — Где другие? Кто погиб под Фарсалом?
— Агенобарб, — сказал Цицерон.
«Агенобарб! Кузен, зять, неутомимый собрат-boni. Я никогда больше не увижу его решительного лица. Как он ненавидел свою лысину, убежденный, что его сияющий череп отпугивает избирателей всякий раз, когда он выдвигает свою кандидатуру в коллегию жрецов…»
А Цицерон продолжал трещать:
— Кажется, Помпей Магн тоже спасся в числе других. По словам Лабиена, это возможно при беспорядочном бегстве. Обычно в таких сражениях все стоят насмерть. А наша армия, можно сказать, и не сражалась совсем, сдалась почти сразу. Цезарь отбил атаку кавалерии Лабиена, вооружив своих пехотинцев осадными копьями, — и все было кончено. Помпей убежал с поля боя. Другие командиры последовали за ним, а солдаты или побросали оружие, прося пощады, или разбежались.
— А твой сын? — спросил из вежливости Катон.
— Я думаю, он великолепно вел себя в битве, но ранен не был, — сказал, откровенно радуясь, Цицерон.
— А твой брат Квинт и его сын?
Гнев и раздражение исказили черты довольно миловидного лица Цицерона.
— Ни того ни другого в Фарсале не было. Брат Квинт всегда заявлял, что не станет сражаться за Цезаря, но и против не выступит, ибо уважает его. — Он пожал плечами. — Это худшее из того, что несут нам гражданские войны. Распадаются семьи.
— От Марка Фавония есть вести? — вновь рявкнул Катон.
— Никаких.
Катон проворчал что-то, казалось, не желая больше говорить на эту тему.
— Что мы будем делать? — спросил жалобно Цицерон.
— Строго говоря, Марк Цицерон, это ты должен принять решение, — сказал Катон. — Ты здесь единственный консуляр. Я был лишь претором, а не консулом. Поэтому ты по званию старше меня.
— Чепуха! — крикнул Цицерон. — Помпей оставил ответственным тебя, а не меня! Это ты живешь в генеральском доме.
— Мои обязанности вполне определенные и ограниченные. Закон предписывает, что организационные решения должен принимать старший.
— Я категорически отказываюсь что-либо решать!
Красивые серые глаза исследовали испуганное лицо Цицерона. Ну почему он труслив, как мышь или овца? Катон вздохнул.
— Ладно, решение буду принимать я. Но при условии, что ты поддержишь меня, когда нужно будет отчитываться перед сенатом и народом Рима.
— Каким сенатом? — с горечью вопросил Цицерон. — Перед марионетками Цезаря в Риме или перед несколькими сотнями, которые разбежались кто куда из Фарсала?
— Рим имеет истинное республиканское правительство, которое соберется в каком-нибудь другом месте и составит новую оппозицию узурпатору народной власти.
— Ты никогда не сдашься, да?
— Пока дышу — никогда.
— И я, разумеется, но не так, как ты, Катон. Я не солдат. Нет у меня этой жилки. Я собираюсь возвратиться в Италию и организовать гражданское сопротивление Цезарю там.
Катон вскочил, сжав кулаки.
— Не смей! — заорал он. — Возвратиться в Италию — значит унизиться перед Цезарем!
— Ну-ну, успокойся, прости мою глупость, — заблеял Цицерон. — Лучше скажи, что мы будем делать?
— Мы возьмем раненых и отправимся на Коркиру, конечно. У нас есть корабли, но надо поторопиться, пока жители Диррахия их не сожгли, — сказал спокойно Катон. — Соединившись с Гнем Помпеем, мы получим известия о других и тогда окончательно определимся.
— Восемь тысяч больных людей да еще все остальное? У нас же недостаточно кораблей! — ахнул Цицерон.
— Если Гай Цезарь мог втиснуть двадцать тысяч легионеров, пять тысяч нестроевых и рабов, всех своих мулов, повозки, материальную часть и артиллерию в триста потрепанных и дырявых посудин, а затем отплыть в океан, чтобы перевезти все это в Британию, — сказал с насмешливым видом Катон, — почему я не могу погрузить четверть всего того же на сотню хороших, крепких транспортов и потихоньку передвигаться вдоль берега в спокойных водах?
— О! Да, Катон! Да, да! Ты абсолютно прав. — Цицерон поднялся и трясущимися руками передал свою чашу Статиллу. — Я должен упаковать вещи. Когда мы отплываем?
— Послезавтра.
Той Коркиры, какую Катон помнил по предыдущему визиту, больше не было. По крайней мере, на побережье. Изумительный остров, жемчужина Адриатики, гористый, покрытый буйной растительностью, окруженный прозрачной, пронизанной солнцем водой, неузнаваемо изменился. Во всех некогда уютных бухточках теснились транспортные и военные корабли. Все деревушки превратились в пункты обслуживания воинских лагерей, со всех сторон их обступавших. На поверхности когда-то прозрачного моря плавали экскременты людей и животных, вонявшие хуже, чем грязевые равнины египетского Пелузия. Усугубляя всю эту антисанитарию, Гней Помпей расположил свою главную базу в узком проливе с видом на материк. Он объяснял это тем, что там можно рассчитывать на хороший улов, когда Цезарь попытается перебросить войска и припасы из Брундизия в Македонию. К сожалению, течение в проливе не уносило грязь, а, наоборот, накапливало.
Катон почти не замечал вони, а вот Цицерон постоянно твердил о ней, демонстративно закрывая платком свое позеленевшее лицо и оскорбленные ноздри. В конце концов он удалился на пришедшую в упадок виллу на вершине холма, где он мог гулять в прелестном саду и срывать фрукты с деревьев, почти забывая о ностальгии. Цицерон, с корнем вырванный из Италии, был в лучшем случае тенью себя самого.
Внезапное появление младшего брата Цицерона, Квинта, и его сына, Квинта-младшего, лишь прибавило ему неприятностей. Не желая вставать ни на чью сторону, эта пара изъездила всю Грецию и Македонию. После поражения Помпея Великого под Фарсалом они поспешили в Диррахий к Цицерону. Найдя лагерь опустевшим и узнав от жителей Диррахия, что, скорее всего, республиканцы отправились на Коркиру, они тоже поплыли туда.
— Теперь ты понимаешь, — ворчал Квинт, — почему я не хотел связываться с этим дураком Магном, явно переоценившим себя. Он недостоин завязывать Цезарю шнурки на ботинках.
— К чему идет мир, — парировал Цицерон, — когда дела государства решаются на поле брани? Ведь не могут они так решаться! Рано или поздно Цезарь должен вернуться в Рим и взять бразды правления в свои руки. И я намерен быть там же, чтобы ему противостоять.
Квинт-младший фыркнул.
— Чепуха, дядя Марк! Как только ты ступишь на землю Италии, тебя арестуют.
— Вот в этом, племянник, ты ошибаешься, — возразил с презрением Цицерон. — У меня есть письмо от Публия Долабеллы, в котором он умоляет меня вернуться в Италию! Он говорит, что мое присутствие будет приветствоваться, что Цезарю в сенате нужны консуляры моего статуса. Чтобы возглавить здоровую оппозицию.
— Как удобно одновременно стоять в обоих лагерях! — фыркнул Квинт-старший. — Один из главных приспешников Цезаря — твой зять! Хотя я слышал, что Долабелла не очень хороший муж для Туллии.
— Тем более мне нужно быть дома.
— А как же я, Марк? Почему тебе, который был ярым противником Цезаря, можно свободно вернуться домой? А мой сын и я, которые против Цезаря не выступали, должны теперь его разыскивать, чтобы получить прощение, ибо все думают, что мы дрались под Фарсалом. И кстати, как быть с деньгами?
Чувствуя, что краснеет, Цицерон попытался принять равнодушный вид.
— Это твое дело, Квинт.
— Cacat! Ты должен мне миллионы, Марк, миллионы! Не говоря уже о миллионах, которые ты должен Цезарю! И ты сейчас же, сию минуту отдашь мне хотя бы часть этих денег, иначе, клянусь, я распорю твой живот до самой глотки! — заорал Квинт.
Это была пустая угроза — при нем не было ни меча, ни кинжала. Но вопрос о деньгах усугубил растерянность Цицерона, всколыхнул в нем тревогу за дочь и негодование на бессердечность мегеры Теренции, его жены. Обладая независимым состоянием, она отказывалась делиться им с расточительным муженьком. Теренция могла пойти на любые хитрости ради денег — от перенесения пограничных камней на своей земле до объявления самых плодородных участков священными, чтобы не платить налоги. И с этими ее действиями Цицерон так свыкся, что считал их нормальными. Чего он не мог простить ей, так это того, как она обращалась с бедняжкой Туллией, которая имела все основания жаловаться на своего мужа Публия Корнелия Долабеллу. Но Теренции не было до этого дела! Если бы Цицерон не знал, что у Теренции, кроме алчности, нет никаких других чувств, он мог бы заподозрить, что она сама влюблена в Долабеллу. И потому выступает вместе с ним против собственной плоти и крови! А Туллия все хворает после потери ребенка. «Моя девочка, моя дорогая!»
Так думал Цицерон, но он, конечно, не смел высказать многое из всего этого в письме к Долабелле. Долабелла был нужен ему!
К середине сентября (по сезону — самое начало лета) адмирал Коркиры созвал небольшой совет.
В свои неполные тридцать два года Гней Помпей был очень похож на своего знаменитого отца, хотя его золотые волосы имели более темный оттенок, а глаза были скорее серыми, чем голубыми. И нос скорее римским, чем картошка Помпея Великого. Командование легко давалось ему. Унаследовав организаторские таланты родителя, он без труда управлялся с дюжиной флотов и многими тысячами моряков экипажа. Чего у него не было, так это отцовского комплекса неполноценности и его чрезмерного самомнения. Мать Гнея Помпея, Муция Терция, была аристократкой со знаменитыми предками, поэтому темные мысли о неясных пиценских корнях, которые так мучили бедного Помпея Великого, никогда не приходили в голову сыну.
Присутствовали только восемь человек. Сам Гней Помпей, Катон, трое Цицеронов, Тит Лабиен, Луций Афраний и Марк Петрей.
Афраний и Петрей командовали легионами Помпея Великого много лет и даже управляли за него обеими Испаниями, пока Цезарь не выгнал их оттуда в прошлом году. Уже поседевшие, они оставались солдатами до мозга костей, ибо годы не властны над теми, в ком жив воинский дух.
Прибыв в Диррахий как раз перед отплытием транспортов на Коркиру, они, естественно, последовали за Катоном, радуясь предстоящей встрече с Лабиеном, тоже уроженцем Пицена.
Они привезли с собой новости, которые очень порадовали Катона, но повергли в уныние Цицерона. Новая оппозиция Цезарю формируется в провинции Африка, где губернаторствует республиканец. Юба, царь соседней Нумидии, открыто вошел с ним в союз. Поэтому всем уцелевшим под Фарсалом надлежит плыть туда, прихватив с собой столько войск, сколько будет возможно.
— Что слышно о твоем отце? — глухо спросил у Гнея Помпея Цицерон, сидевший между братом и племянником.
Он испытывал ужас при мысли о необходимости тащиться в провинцию Африка, когда он так мечтает о возвращении в Рим!
— Я отправил письма в полсотни разных мест по восточной стороне Нашего моря, — тихо ответил Гней Помпей, — но до сих пор не получил отклика. Вскоре попытаюсь еще раз. Есть информация, что он недолго был на Лесбосе, чтобы встретиться там с Секстом и мачехой, но, видно, письмо мое с ним разминулось. Ни от Корнелии Метеллы, ни от Секста известий тоже пока не пришло.
— Что ты сам намерен делать, Гней Помпей? — спросил Лабиен, обнажая большие желтые зубы в оскале, столь же непроизвольном, как лицевой тик.
«А это уже интересно, — подумал Катон, разглядывая адмирала. — Сын Помпея не любит этого дикаря так же сильно, как я».
— Я останусь здесь, пока не подуют пассаты от Сириуса, — по крайней мере еще месяц, — ответил Гней Помпей. — Потом я поведу весь свой флот и людей на Сицилию. Затем навещу Мелиту, Гаудос, Вулкановы острова. Постараюсь успеть повсюду, откуда к Цезарю могут идти поставки зерна, и прекратить их. Рим и Италия, подтянувшие пояса, утратят покладистость, и Цезарю будет труднее держать их в узде.
— Хорошо! — воскликнул Лабиен и, удовлетворенный, сел. — Я отправляюсь в Африку с Афранием и Петреем. Завтра.
Гней Помпей вскинул брови.
— Корабли я могу дать тебе, Лабиен, но к чему такая спешка? Останься подольше и возьми с собой выздоровевших раненых Катона. У меня достаточно транспортов.
— Нет, — ответил коротко Лабиен. Он встал и кивнул Афранию и Петрею. — Дай мне один корабль. Я поплыву на Киферы и Крит и посмотрю, сколько там собралось беглецов. Если достаточно, я реквизирую весь тамошний флот и, если будет нужно, наберу экипажи, хотя солдаты умеют грести. Прибереги свои корабли для Сицилии.
Он тут же вышел. Афраний и Петрей побежали за ним, как два больших старых преданных пса.
— С Лабиеном покончили, — сквозь зубы сказал Цицерон. — Не могу сказать, что буду скучать по нему.
«Я тоже», — хотел сказать Катон, но промолчал. Вместо этого он обратился к Гнею Помпею:
— А что делать с восемью тысячами раненых, которых я привез из Диррахия? По крайней мере тысяча из них уже могут плыть в Африку, но остальным для поправки нужно какое-то время. Все они готовы к дальнейшей борьбе, и я не могу бросить их здесь.
— Кажется, наш новый Великий человек больше интересуется Малой Азией, чем Адриатикой, — презрительно вздернув губу, фыркнул Гней Помпей. — Целует землю Илиона в память о своем предке Энее, как вам это нравится? Освобождает Трою от налогов! Ищет могилу Гектора! — Внезапно он усмехнулся. — Но любой досуг длится недолго. Сегодня прибыл курьер и сообщил, что царь Фарнак покинул Киммерию и направился к Понту.