Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 2 Фрай Макс
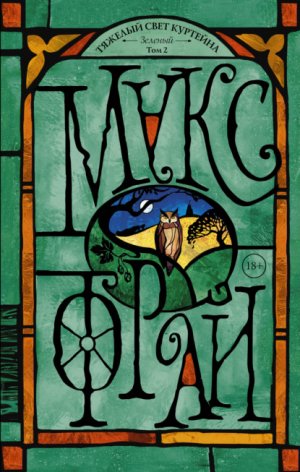
В общем, Цвета рассказала ему о своей дурацкой, нет, правда, совершенно дурацкой беде, в надежде, что Эдо Ланг выступит в роли голоса разума, скажет: «Не выдумывай, дорогая, мне бы твои проблемы. Что значит – ты не имеешь права? Полная чушь». Но вместо этого он кивнул: «Понимаю. Я бы тоже так мучился. Тоже решил бы, что трус не имеет права быть таким распрекрасным мной. И, чего доброго, лишил бы его наследства – всех своих прежних достижений, радостей и заслуг. И влип бы в тысячу неприятностей, лишь бы доказать себе, что снова, как прежде герой».
Пока Цвета краснела, бледнела и пыталась вообразить героические неприятности, в которые ей теперь придется храбро влипать, он добавил: «Твой-то случай довольно простой. Роковых глупостей можно не делать. Всего-то и надо – сходить на Другую Сторону с надежным проводником, испугаться до полусмерти, но взять себя в руки, сделать вид, будто все тебе нипочем, прогуляться, хлопнуть тамошней водки и вернуться домой на свет Маяка. А потом повторить столько раз, сколько понадобится, чтобы это стало рутиной, а не великим подвигом. После чего можно показать Другой Стороне средний палец и заняться своими делами. По крайней мере, я бы на твоем месте поступил именно так».
Больше всего на свете Цвете тогда хотелось отколотить профессора Ланга. Барный табурет об его башку в щепки разбить. Потому что совет был годный. Рабочий. А значит придется ему последовать. Вернуть себе право быть великой Цветой Янович. Ну или дальше трусливой курицей бессмысленно жить.
Драться она, конечно, не стала, но честно ему сказала: «Знал бы ты, как я сейчас хочу тебе врезать!» – а Эдо Ланг рассмеялся, страшно довольный: «Значит, правильно все сказал». И добавил: «Ты Блетти Блиса знаешь? То есть Эдгара Куслевского. Ладно, я вас познакомлю. Он отличный. Будет у тебя лучший в городе проводник».
И теперь лучший в городе проводник вел Цвету за руку по улице Битых Чашек – ну как по улице, по тропинке, с одной стороны ярко раскрашенные заборы, с другой – огороды, где зимой растет только трава. Они специально приехали на эту сонную окраину, где даже в разгар буднего дня пустынно, чтобы никто бродить не мешал. У Эдгара свой способ попадать на Другую Сторону, ему специальных тайных проходов не надо, он просто идет по улице, и вдруг – хлоп! – уже там. Ну это когда один, без попутчиков, просто. А Цвете он сразу честно сказал, что, может, долго гулять придется. А может, совсем недолго. Как повезет.
– Глаза прикрой, тогда будет быстрее, – посоветовал он. – Совсем закрывать не надо, а то начнешь спотыкаться, это нас с толку собьет. Прикрой и смотри сквозь ресницы под ноги. А по сторонам не смотри. И не волнуйся. Вопрос сейчас только в том, быстро мы пройдем или полдня потеряем. А пройдем, или нет – вообще не вопрос. Другая Сторона жадная, и это нам с тобой на руку. Она всегда хочет вернуть обратно всех, кто там побывал. Поэтому с новичками часто возникают проблемы, а с теми, кто идет второй раз – уже нет. И чем дальше, тем легче становится. Но не настолько легче, чтобы случайно во время обычной прогулки туда провалиться. Не беспокойся, так не бывает, нет. Когда я был молодым, мне на эту тему много страшилок рассказывали. О старом контрабандисте, который не мог выйти из дома, потому что попадал на Другую Сторону, просто переступив свой порог. И о девчонке-школьнице, которая засыпала в своей кровати, а просыпалась на Другой Стороне; в конце концов сгинула там бесследно, не вернулась на свет Маяка. И еще много похожих историй. Я верил, конечно. И опасался, что со мной тоже такое однажды случится. Одно дело ходить на Другую Сторону по собственному желанию, и совсем другое – внезапно там оказаться в какой-нибудь неподходящий момент. Но потом выяснилось, это были обычные байки. Страшилки для начинающих. Контрабандисты в этом смысле, как моряки и водители-междугородники, любят запугивать новичков. И полиция еще добавляет; точно не знаю, но говорят, у них в Граничном отделе есть специальный сотрудник, ответственный за создание и распространение пугающих слухов о Другой Стороне. Чтобы наши там особо не расслаблялись, вели себя осторожно и благополучно возвращались домой. Может, оно и правильно, хотя будь я полицейским начальством, не стал бы пугать людей глупыми выдумками, потому что осторожные – они и так осторожные. А рисковые люди, чем больше их напугаешь, тем сильней захотят сделать наперекор…
Говорил, как колыбельную пел – негромко, спокойно, ласково и так монотонно, что Цвета, пожалуй, начала бы дремать на ходу, если бы шли помедленней. Но Эдгар шагал так быстро, словно они куда-то опаздывали. И постепенно ускорял шаг, так что даже у Цветы слегка сбивалось дыхание, поставленное многолетней игрой на трубе.
– Случайно на Другую Сторону попасть нельзя, – говорил Эдгар. – Легко – можно. Я всегда легко туда прохожу. Но для этой легкости необходимо большое желание оказаться на Другой Стороне. Вот про детей говорят, что они часто туда внезапно проваливаются, без опыта, навыков и специальных приемов – хлоп, и уже там! И это правда, но только отчасти. Штука в том, что дети обычно хотят приключений. Ну или просто чего-нибудь необычного. И знают много завиральных историй о Другой Стороне. Поэтому хоть и боятся, а все равно очень хотят туда попасть. А дети умеют хотеть как следует, взрослым с ними тут не тягаться. И вот такой получается результат… А мы с тобой уже давно взрослые, – сказал он, резко остановившись и крепко обняв Цвету. – Но у нас все равно отлично все получилось. Voila!
Это «вуаля» прозвучало так неожиданно, что Цвета сперва рассмеялась, а уже потом осознала смысл сказанного, открыла глаза и огляделась по сторонам. Ей сперва показалось, что они где-то за городом: дома с садами, сейчас по-зимнему голыми, заборы, редкие фонари разгораются в сгустившихся синих сумерках, и полная тишина. Ну да, гуляли-то мы на самой окраине. И оказались тоже на окраине. Логично, – подумала она.
– Это Антоколь, – сказал ей Эдгар. – Отличный район. Мне очень нравится. Одно время даже хотел сюда переехать. Но жене на работу отсюда было бы далеко. С Белой улицы и то ближе, если добираться с таким проводником, как я. – Он улыбнулся так беззаботно, словно не рассказывал о страшном периоде жизни в полном забвении, а вспоминал хорошие времена, и заговорщически подмигнул Цвете. Дескать, оценила проводника?
– Ты крутой, – подтвердила Цвета. – Когда меня Симон сюда вел, мы часа полтора по холму взад-вперед мотались, а ведь это был его любимый короткий проход. А с тобой – раз, и мы уже тут!
– Симон тоже крутой, – серьезно возразил Эдгар. – Ты же сама говорила, что до него на Другой Стороне не бывала, даже в детстве ни разу. Впервые шла. Я бы сам, знаешь, не всякого новичка провел.
Он достал из кармана телефон, объяснил:
– Сейчас такси вызову. Пешком отсюда до центра долго. А доедем буквально за пять минут. Ты как вообще?
– Гораздо лучше, чем думала, – честно сказала Цвета. – Осенью был такой ужас! Мне здесь даже воздух казался отравленным, об остальном уже не говорю. А теперь вроде вполне нормально. Даже плакать пока не хочется. У тебя легкая рука.
– Есть такое, – согласился Эдгар. – Ну и знаешь, первый раз это все-таки первый раз.
В такси они ехали молча, поэтому настроение у Цветы успело немного испортиться. Но по сравнению с тем, как было минувшей осенью – полная ерунда. Когда вышли из машины, Эдгар сказал:
– Мне, конечно, трудно судить объективно. У меня нет проблем с Другой Стороной, как у большинства наших. Я здесь так долго жил, что стал отчасти своим. Но по моим ощущениям, настроение в городе изменилось даже по сравнению с началом осени, когда ты здесь была. И продолжает меняться. Это можно почувствовать, но нельзя объяснить. Иногда мне кажется, что здесь дышится почти так же легко, как дома. А иногда, что я оказался не просто на Другой Стороне, а на другой планете, как в каком-нибудь фантастическом фильме. Но на этой планете по счастливому совпадению тоже виден свет нашего Маяка.
Зоран
Ева часто говорила: «Ты странный». И была совершенно права. Зоран был странным, и сам это признавал. И чувствовал себя странно, особенно в последнее время, особенно вот прямо сейчас. Пожалуй, скорей хорошо, но непонятно, как это «хорошо» описать. Даже себе ничего про себя объяснить не могу, – думал Зоран, лежа в постели и разглядывая потолок, по которому суетливо скакали фонарные блики. На всей Заячьей улице фонари не жестко закреплены на столбах, а подвешены на специальных декоративных петлях, вот и мотаются. Веселое получается зрелище, особенно когда снаружи ветер и дождь.
Всегда, сколько Зоран себя помнил, жизнь казалось ему прекрасной, если хорошо шла работа. Ну и наоборот. Все остальное тоже, конечно, имело значение. Но такое, второстепенное, что ли. Формальное, как справка из канцелярии какого-то небесного банка о состоянии счета, то есть судьбы. Была настоящая, главная жизнь, где кипит работа, или напротив, ни хрена не кипит, и это определяет, счастье тут у нас, или горе, стоим на месте, или несемся, и если несемся, то примерно куда. А все остальное в его восприятии выглядело каким-то отдельным дополнительным списком, вроде того, с которым ходят по магазинам, отмечают по мере приобретения: это у меня в корзине уже есть, а этого еще нет.
Вот и Зоран вполне бесстрастно отмечал в своем списке: жив, здоров (приписка: «можно пахать»), дом – есть, денег – хватает, друзья – есть (скорее все же просто приятели, зато до хрена), путешествия – нет (и это не дело), карьера – есть (хотя К. считает, для художника моего уровня это не карьера, а полная ерунда), семья – нет (сиротой остался так рано, что это просто факт биографии, а не боль), подружка – есть… а, уже нет, ушла.
Собственно, окончательно понял про «главную жизнь» и «дополнительный список», когда Ева сказала, что дальше так невозможно, что так вообще не бывает, что у людей бывает не так, что рядом с ним она чувствует, будто постепенно становится невидимкой, тает, словно уже умерла; короче, нельзя живого теплого близкого человека до такой степени не замечать. Зоран должен был огорчиться, Ева ему очень нравилась, но он почти ничего не почувствовал, только думал: «Я огорчен», – мысленно вычеркивал Еву из списка своих житейских приобретений, ставил пометку напротив пункта «подружка»: «не вышло, как жаль».
На самом деле все его женщины рано или поздно уходили по той же причине, что Ева. Говорили примерно одно и то же: ты живешь со мной рядом, словно нет никакой меня. И были правы, Зоран это и сам понимал. Думал: я, наверное, слишком художник, чересчур вдохновенный, как говорится, не от мира сего. О таких, как я только в книжках читать приятно, а жить рядом, должно быть, кошмар. Все про себя понимал, но не знал, как это исправить. Да и не особо хотел исправлять.
Не то чтобы он рисовал с утра до ночи. Иногда подолгу бездельничал, в смысле, физически ничего не делал, кисти в руки не брал, дни напролет бесцельно слонялся – по дому, по городу, по берегу моря, с друзьями по кабакам. Но все это время, пока лежал на диване, сидел на веранде, ходил по улицам, плавал, нырял, разговаривал, ел и пил, присутствовал в мире только формально, а всем своим существом пребывал на зыбкой границе между зримым светом и незримой внутренней тьмой, где мир соединяется с собственным отсутствием, полнота жизни с загадочной пустотой, в которую мы, – говорил себе Зоран, – после смерти уходим. Никто не знает, что там. Но если долго, внимательно, самоотверженно – в буквальном смысле самоотверженно, отвергая себя и весь свой предыдущий опыт – в эту пустоту смотреть, она становится зримой, кромешная тьма постепенно заполняется видимым глазу светом, и тогда оказывается, что никакой пустоты в мире нет, только прискорбная человеческая неспособность разглядеть восхитительные детали того, что нам, немощным, кажется пустотой.
Быть художником, – думал Зоран – означает преодолевать эту немощь, каждый раз как впервые; на самом деле, не «как», а всегда впервые, всегда. А потом рисовать – не по памяти даже, с натуры. Спешить, стараться успеть, пока на этой зыбкой границе еще стоит хоть какая-то часть тебя.
Звучит отлично. И результат получался отличный. И жизнь на границе между человеческим миром и тайной – отличная жизнь. Но другим людям в этой моей отличной жизни делать и правда особо нечего, – думал Зоран. – Наверное, по-дурацки себя чувствуешь, когда тот, кто рядом, постоянно пялится в пустоту.
Сна не было ни в одном глазу, хотя перед тем, как лечь, выпил – не с горя и не на радостях, а именно ради снотворного эффекта – полбутылки контрабандного сладкого «снежного», так оно называлось, вина. Глупо ворочаться с боку на бок, – решил Зоран и встал. В спальне было прохладно, поэтому он закутался в одеяло, которое волочилось за ним по полу, как жреческий шлейф эпохи Первой Империи. Подумал: жаль, что за мной сейчас никто не подглядывает, такое зрелище зря пропадает! Ну зато самому смешно.
Подошел к окну, прижался лбом к стеклу, потому что оно гладкое и холодное, реальное, как мало что в моей жизни, приятно его ощущать. И еще потому, что за окном – зимний запущенный сад. Ну как – сад, небольшой палисадник, заросший высокими старыми туями. И бурьяном каким-то живучим, которому нипочем зима. А может, не бурьяном, а специальными декоративными зимними травами? Черт разберет. Что выросло, то выросло, раз смогло, пусть живет, – думал Зоран, глядя, как свет уличных фонарей, трепеща, перепрыгивает с ветки на ветку, и улыбался – без причин, просто так.
Честно говоря, особых причин улыбаться у Зорана не было. Умом он понимал, что все плохо, Ева только вчера ушла. Ева такая хорошая, – думал Зоран, – как я теперь без Евы, месяц практически не расставались, я был влюблен, привязался, привык, люди грустят, когда расстаются с любимыми, и мне сейчас надо грустить, – говорил он себе, но все равно почему-то был счастлив, как почти всегда в последнее время. Как-то даже, пожалуй, слишком. Не в том смысле, что хотел бы перестать быть счастливым, а только в том, что к такому состоянию не привык. Каждый день, проснувшись, начинал улыбаться прежде, чем успевал открыть глаза, и это было странно и непривычно. Зоран хорошо помнил, что раньше тяжело вставал по утрам, даже если нормально выспался, все равно поначалу в голову неизменно лезли мрачные мысли о бренности бытия, до первой чашки крепкого кофе он ползал по дому, как сонная зимняя муха, да и потом ему надо было спокойно посидеть часа полтора, чтобы почувствовать себя нормальным живым человеком. Но теперь все изменилось, стало не так. Иногда Зоран думал: это потому, что я наконец-то сюда переехал, любит меня этот город, и климат мне идеально подходит, и море, и воздух, и люди, да все подходит, здесь мое место силы, как в таких случаях говорят, – но тут же спохватывался: ничего себе «наконец переехал»! Почти двадцать лет назад. А счастливая легкость пришла недавно. Кажется, перед открытием выставки, в сентябре. Или уже после открытия? В общем, примерно когда-то тогда.
5. Зеленый огонь
Состав и пропорции:
джин – 45 мл;
тминный ликер «Kummel» – 10 мл;
зеленый мятный ликер «Crme de menthe» – 10 мл;
лед.
Смешать ингредиенты в шейкере со льдом. Процедить в наполненный льдом коктейльный бокал.
Тони, снова Тони, опять
Тони просыпается в сумерках; это, на самом деле, не так уж поздно, в декабре темнеет в четыре, а смеркаться в пасмурный день начинает чуть ли не в два. Получается, мало поспал, потому что уснул уже засветло, примерно в девять утра; это перебор даже для Тони, но так отлично сидели, ничего не хотелось менять, пока Стефан не спохватился, что ему пора на работу. Смешно, конечно: быть неведомо чем, числиться начальником несуществующего отдела полиции, охраняющего незримую, которую и представить-то невозможно, границу между реальностью и ее тайной изнанкой, между явью и сном, но все равно торопиться на службу, как все нормальные люди, с утра.
И я такой же смешной, – думает Тони, укоризненно озирая огромный холодильник, в котором нет сейчас ни черта, кроме собственно холода. – Стал неведомо чем, владельцем несуществующего кафе, где завсегдатаи, в основном, смутные тени сновидцев, заплутавшие гости из иных измерений, демоны, духи, окрестные оборотни и другие невообразимые существа; условно нормальных людей по пальцам пересчитать можно, включая случайных, особо везучих гостей, но все равно почти каждый день приходится закупать обычные человеческие продукты, потому что одной иллюзией сыт не будешь, ее надо материей разбавлять.
И вот все у нас так! – думает Тони, сонно озираясь в поисках джезвы. – Иллюзии, материя, настоящее, несуществующее, невозможное и обыденное, все вперемешку. Анархия и бардак.
Тони редко об этом всерьез задумывается. Жизнь у него такая, что хоть убейся, а не охватишь умом. Поэтому думать лучше не о парадоксальном устройстве наваждения класса Эль-восемнадцать, частью которого Тони, как ни крути, сам является, а обо всем остальном. Например, о меню на вечер, списке продуктов, и о том, куда за ними лучше пойти. Или не полениться, взять машину в каршеринге и доехать до рынка Бенедикта, благо он работает допоздна? И о погоде – в смысле, как одеваться. И о том, где мы сегодня есть, – весело думает Тони. – Вряд ли по-прежнему на Доминикону. Мы там и так задержались на целых два дня.
Вот к чему, конечно, совершенно невозможно привыкнуть, так это к постоянным перемещениям, сегодня здесь, завтра там. В начале декабря вообще на Правом берегу оказались, в глубине проходных дворов на Кальварию, Тони тогда поначалу здорово огорчился: ну уж здесь-то нас никто не отыщет, – однако именно в тот вечер в кафе случился аншлаг. А потом внезапно появились в Жверинасе, и там вышло совсем смешно: вход в кафе выглядел как старый лодочный сарай; он, собственно, и был сараем, на крыше которого лежала старая рассохшаяся байдарка. От такого соседства бедняга настолько одухотворилась, что человеческим голосом попросила чего-нибудь выпить, получила стакан настойки на забытых снах, а под утро куда-то исчезла, причем с концами. Неловко получилось, то-то хозяевам сюрприз. Стефан это дело потом из любопытства расследовал, сказал, байдарка, спьяну расхрабрившись, как-то сползла по склону к реке Нерис, где превратилась в миниатюрный трехмачтовый парусник и уплыла в неведомом направлении, так что одним «Летучим Голландцем» в мире стало больше. Правда, пока никому не известно, в каком.
Тони улыбается, вспоминая спятившую байдарку, натягивает штаны поприличней, все-таки предстоит выход в свет. Придирчиво оглядывает себя в зеркало – я вообще адекватно выгляжу? Как нормальный человеческий человек? Ну, вроде да – одна голова, две руки, две ноги, одет, как большинство прохожих на улице, а что стричься давно пора, так это и с нормальными людьми постоянно случается. Но на всякий случай Тони надевает серую трикотажную шапку, шапка – именно то, что надо, актуальный элемент гардероба, в этом смысле, очень удобное время года зима, – думает он, шнуруя ботинки. В этом смысле зима как раз крайне неудобное время года, в шлепанцах на босу ногу далеко не уйдешь.
Тони Куртейн откладывает в сторону книгу – потом дочитаю, не до пыльных бунтов эпохи Второй Империи мне сейчас – покидает любимое кресло, в котором сегодня ему не сидится, все неудобно, неловко, мешает, как будто задницу чьей-то чужой подменили, пока спал. Он улыбается почти против воли, вообразив подробности преступления века и заголовки в вечерних газетах: «Похищена бесценная задница смотрителя Маяка!» – и отправляется в кухню. Открывает холодильник, снова его закрывает, потом осматривает буфет. Еды в доме даже больше, чем надо одному человеку. Но из того, что есть, ничего не хочется. Хочется непонятно чего.
Весь день сегодня наперекосяк, – думает Тони Куртейн. – А все потому, что разбудили до рассвета, засранцы; это в последнее время какая-то новая мода: нажраться на Другой Стороне до возвращения в детство и в таком виде с песнями вваливаться на Маяк. Сердится, но и сам понимает, что несправедлив: для того и Маяк, чтобы люди на его свет приходили, а в какое время суток и в каком состоянии, их дело, меня не касается, лишь бы возвращались домой с Другой Стороны.
На самом деле, выпроводив тех шумных гуляк, Тони Куртейн снова лег и нормально выспался, ему просто обидно, что не удалось ни досмотреть ни даже толком запомнить прерванный их появлением предутренний сон. Там была какая-то фантастическая вечеринка с фейерверками и драконами на Другой Стороне, в кабаке двойника, а подобные сны Тони Куртейн любит больше всего на свете; как в старину говорили, душу за них бы продал.
Он бы и наяву не оказался от таких вечеринок, да какое уж тут «наяву». Поди до них доберись, – думает Тони Куртейн. – Чуваки на Другой Стороне веселятся, а я здесь сиднем сижу.
На Другой Стороне он был всего дважды, и оба раза как-то само получилось, хотя и этого, по идее, быть не могло. До сих пор считалось, что смотритель Маяка попасть на Другую Сторону вообще ни при каких обстоятельствах не может. И со своим двойником до самой смерти не встретится. Но ему повезло.
Тони Куртейн ставит на плиту чайник – когда голоден, а от еды воротит, чай вполне заменит горячий суп. Пока вода нагревается, Тони Куртейн стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу, смотрит на пустынную улицу. Думает, мысленно обращаясь к своему двойнику: ты бы, что ли, сам в гости зашел, раз уж я не могу. Как тогда, в сентябре. Отлично же посидели. Хотя ты же, наверное, тоже по заказу не можешь, а то бы давно пришел.
И Эдо уже три дня не было, – мрачно думает Тони Куртейн. – Сидит на своей Другой Стороне, как медом ему там намазано. Работа работой, нельзя отвлекаться, это я понимаю, но на полчаса-то всегда можно зайти.
Думает так, но и сам понимает, что несправедлив. Не медом там Эдо намазано, совсем иначе это вещество называется. Например, «суперклей». Зайти на полчаса хорошее дело, когда живешь на соседней улице. А с Другой Стороны на Эту туда-сюда не набегаешься, особенно если не можешь пройти сам, без проводника. Но кому от этого понимания легче, – сердито думает Тони Куртейн. – Уж точно не мне.
Похоже, – с удивлением понимает Тони Куртейн, – я банально соскучился. Даже не столько по Эдо и своему двойнику, сколько по самому себе, тому, каким становлюсь в хорошей компании. Засиделся дома один без друзей, вечеринок и других развлечений, и предсказуемо скис. А это не дело. Мне киснуть нельзя. Я же так все на хрен испорчу. Яркость света совершенно точно зависит от смотрителя Маяка. А вдруг не только она? Скорбь и отчаяние, как показала практика, делу даже на пользу, но может, когда я просто всем вокруг раздражен, идти на мой свет становится неприятно? И люди из-за этого начнут застревать на Другой Стороне? Вроде ни о чем подобном в инструкциях не написано, но Маяк – дело темное. Никто, включая сотни моих предшественников, толком не знает о нем ни черта, только догадываются – каждый о чем-то своем. Ладно. Надо бы мне погулять, что ли, выйти. Я же осенью, было дело, давал себе обещание хотя бы раз в два-три дня выбираться к морю. А потом забил и забыл. Главное, мне же у моря нравится! И настроение сразу делается, как надо. А я все равно туда не хожу, как будто назло ему и себе.
Тони Куртейн достает из буфета бутылку темного рома, батон травяного хлеба, берет недавно заточенный нож и режет хлеб на тонкие ломти. Бутербродов должно быть много; мало ли, что сейчас никаких бутербродов не хочется, у моря что угодно отлично зайдет.
Тони выходит во двор, вдыхает сладкий от сырости воздух, в сумерках синий, кажется, даже на вкус. Отличный сегодня день, очень теплый для декабря, ветер больше похож на весенний, и запах принес совершенно апрельский, травяной и одновременно медовый, словно дикие сливы уже зацвели. Озирается – где мы сегодня? Так сразу, навскидку все равно непонятно. Не был здесь то ли очень давно, то ли вообще никогда. Как долго ни живи в городе, сколько по нему ни броди, всегда останутся белые пятна, неисследованные места.
Ладно, – думает Тони, – двор как двор, дома послевоенной постройки, наверняка где-нибудь в Новом городе, там таких полно.
Тони оборачивается назад: интересно, откуда я вышел? Как сегодня выглядит вход в кафе? За спиной у него не гараж, не дровяной сарай, не заброшенная пристройка, как чаще всего случается, а обычная дверь подъезда, только не коричневая, как все остальные, а цвета морской волны. Без кодового замка и без ручки, как хочешь, так и открывай. Ну, бывает. Пару раз уже точно была обычная дверь подъезда, на Швитригайлос, на Басанавичюс и где-то еще, – вспоминает Тони.
На самом деле, совершено неважно, как выглядит вход в кафе, кому надо, как-нибудь да войдет, остальные его не заметят, а если даже заметят, не обратят внимания, значения не придадут. Но все равно интересно. Каждый раз, как впервые: где мы сегодня и как выглядит вход? Словно узнаешь о себе что-то новое, хотя хрен это знание расшифруешь. Сине-зеленая дверь – почему именно этот цвет? И почему дверь без ручки? Просто для смеху, или это пророчество, что сегодня к нам никто не придет? А двор на… – ага, на Паменкалне, так и есть, в Новом городе, я угадал, – думает Тони, выйдя на улицу и оглядевшись по сторонам; понятно теперь, почему двор незнакомый, мало в этом районе гулял. Вот интересно, то, что мы сегодня в дворе на Паменкалне, это просто так, обычная лотерея без особого смысла, или все-таки что-нибудь означает? И если да, для кого это важно – для меня, или для самой улицы, или для тех, кто сегодня вечером к нам придет? Когда речь о кафе, Тони всегда думает в множественном числе: «мы», «к нам», «у нас», – хотя и хозяин, и повар там только он. Но если бы не было этого «мы», всего остального тоже бы не было. Наваждению нужны те, кому оно может мерещиться, морок немыслим без того, кто его однажды навел.
Тони стоит на улице Паменкалне, напротив холма и никак не может решить, что ему теперь делать: брать машину и ехать на рынок, или топать пешком до большого супермаркета «Максима», благо отсюда недалеко? Ладно, – наконец говорит себе Тони, – чего я на том рынке не видел. Зелень там свежая, лучше, чем в супермаркете. Но с мясом в это время уже не очень. А в «Максиме» какой-никакой выбор всегда есть. И остальное найдется.
И нести покупки вниз, под гору будет легко, – думает Тони, перебегая дорогу в неположенном месте, потому что педантично следовать правилам уличного движения, будучи фрагментом наваждения класса Эль-восемнадцать, все-таки перебор.
Тони поднимается по склону холма Тауро, скользкому от мокрых осенних листьев, облетевших еще месяц назад, в ноябре; мог бы подняться по лестнице, но идти по ступенькам скучно, а от скуки он быстро устает. Думает обо всем понемножку, но в основном – про будущий ужин, составляет меню; ясно, что зимой всегда отлично заходит Немилосердный суп, и варить его просто, а вот что кроме супа? Только не пироги, уже надоели, они в последнее время практически каждый день. Ну не котлеты же, – думает Тони и тут же спрашивает себя: – А собственно, почему не котлеты? Половину можно испечь в духовке, половину пожарить на сковороде. Я сто лет уже котлеты не делал, их сметут на ура.
Приняв решение, Тони наконец замечает, что больше не поднимается на холм, а идет по совершенно ровной поверхности, причем не по траве и не по асфальту, а по песку, по самой кромке прибоя, и к его ботинкам неторопливо, как хищник, уверенный в том, что жертва уже никуда не денется, приближается темная, густая, тяжелая морская волна. Жертва и правда никуда не делась, в смысле, Тони мог бы успеть отбежать подальше, но так охренел, что не стал.
Тони стоит на берегу Зыбкого моря и думает: елки, ну я попал. Это как вообще? Я же ничего специально не делал. Я вообще был не в том настроении… Или как раз именно в том?
Тони счастлив, потому что внезапно оказаться на тайной изнанке города – огромное счастье, тут нечего обсуждать. Но и сердит, как всегда, когда нарушаются планы. И совершенно растерян, очень уж неожиданно получилось. Именно сегодня ни о чем таком не мечтал, не прикидывал, как бы так исхитриться, даже не вспоминал.
Тони думает: ладно, ничего не поделаешь, я уже тут. Будем надеяться, у кого-нибудь всемогущего хватит могущества сегодня меня заменить. Все взрослые лю… непостижимые сущности, как-нибудь не пропадут. Если сильно проголодаются, пиццу навынос закажут, а выпивку сами в буфете найдут, – говорит себе Тони и одновременно прикидывает, что большая Максима работает круглосуточно, так что когда бы отсюда ни выбрался, надо будет зайти туда за продуктами, потому что дома реально шаром покати. Вряд ли стану возиться с котлетами, – думает Тони, – но уж суп-то точно можно сварить.
Откорректировав таким образом планы на вечер и окончательно успокоившись, Тони закатывает до колена штаны, снимает промокшие насквозь ботинки и такие же мокрые, хоть выжимай, носки. Думает: как же все-таки тут тепло! Не лето, конечно, но примерно как у нас в октябре. Интересно, это случайно мне повезло с погодой, или климат напрямую зависит от свойств материи, поэтому здесь каждую зиму так хорошо? Надо же, и песок еще теплый, хотя уже ощутимо стемнело, наверное, был солнечный день. Даже море прогрелось, – думает Тони, с удовольствием шлепая по кромке прибоя. – Нырять я сейчас, пожалуй, все же не стал бы, а вот так погулять – в самый раз.
Тони Куртейн выходит на конечной остановке трамвая; в вагоне он был один. Мало охотников ездить к морю вечером буднего дня в декабре. А может, это Зыбкое море устало от нас за лето и не хочет, чтобы люди к нему толпами ездили? Не удивлюсь, если решает оно, – думает Тони Куртейн, пока идет по улице Пасмурных Вечеров, ускоряет шаг, словно опаздывает на встречу. Хотя ни с кем о встрече не договаривался и прийти к определенному часу не обещал. Однако продравшись сквозь заросли усыпанного крупными, почти черными ягодами шиповника и оказавшись на пляже, он переходит на бег и еще издалека, громко, не стесняясь возможных свидетелей, кричит, обращаясь к Зыбкому морю, как к старому другу: «Это я! Прости, что так долго не приходил, – и добавляет тихо, почти шепотом, потому что уже добежал, встал так близко, что ботинок лижет волна: – Сам, знаешь, честно, не понимаю, почему с сентября ни разу сюда не доехал. Дурак я совсем у тебя».
Море отвечает что-то на своем языке, слов не понять, но, судя по интонации, ласково. С точки зрения моря, – вдруг понимает Тони Куртейн, – времени не то чтобы вовсе нет, но течет оно явно как-то иначе. Иногда наше «каждый день» для него все равно слишком редко. А иногда даже «год назад» – как вчера.
Тони Куртейн стоит на кромке прибоя, босой, закатав штаны до колен. Все-таки Зыбкое море есть Зыбкое море, законы природы ему не писаны, день был солнечный, но холодный, а вода сейчас теплее, чем была в сентябре.
В кои-то веки он ни о чем не думает, то есть правда вообще ни о чем, просто смотрит на темную зимнюю воду, густую, тяжелую, как расплавленное стекло, и сам ощущает себя отчасти водой, а отчасти все еще человеком, потому что будь он совсем водой, вряд ли вот так стоял и смотрел бы на ленивые волны. Будь он водой, он бы тек.
Наконец Тони Куртейн приходит в себя настолько, что совершенно по-человечески расстегивает теплую куртку, достает из внутреннего кармана бутылку темного рома, и рокот прибоя становится отчетливо одобрительным: вот это ты правильно делаешь, вовремя вспомнил, давай угощай. Тони Куртейн отпивает совсем небольшой глоток, щедро плещет ром в море и почти беззвучно, одними губами произносит свой любимый, самый короткий в мире тост: «Будь!» В этот момент на его плечо ложится рука и голос, на этот раз отчетливо человеческий, шепчет в самое ухо: «И мне оставь». Тони Куртейну даже оборачиваться не надо, кто хотя бы однажды ощутил прикосновение двойника, ни с чем другим его не перепутает. Поэтому он только спрашивает: «Это ты вообще как?»
– Увидел тебя и сразу подумал: теперь все понятно, вычитал в своих книжках какое-нибудь древнее заклинание и вызвал меня, как демона из преисподней! – хохочет Тони, вгрызаясь в бутерброд с ветчиной с такой жадностью, словно год сидел на диете. Впрочем, он и правда сегодня не завтракал. Просто не нашел, чем.
– Не-а, не вызвал. Я не умею. Но кстати, как раз сегодня тебя вспоминал и понял, что очень соскучился, – с набитым ртом отвечает Тони Куртейн, который тоже не завтракал и не обедал, потому что ничего не хотел. Но теперь захотел как миленький. Великая вещь морской воздух. И конкуренция тоже великая вещь. – Мне, прикинь, приснилась какая-то вечеринка в твоей бадеге. Там еще то ли дракон запускал фейерверки, то ли из фейерверков родился дракон, теперь уже ничего толком не помню. Невовремя разбудили. Ужасно обидно. Хороший был сон.
– Вечеринка, кстати, была, но вроде бы без драконов, – неуверенно говорит Тони. – А фейерверки… Ай, слушай, так это, наверное, Нёхиси превращался. Он все время во что-нибудь этакое превращается, иногда как раз с фейерверками, мы просто давно привыкли, уже и внимания не обращает никто… Погоди, это, что ли, у нас бутерброды уже закончились?
– Закончились, – подтверждает Тони Куртейн. – Я же на тебя не рассчитывал. Мало сделал. Всего-то двенадцать штук.
– В следующий раз рассчитывай, – ухмыляется Тони. – В твоем положении следует быть оптимистом. Твердо знать, что как бы ни складывалась жизнь, а в любой момент не пойми откуда может вывалиться голодающий допельгангер и слопать все, что найдет.
Валя
Ты будешь дорогой, я – тем, кто так и не вышел из дома. Ты будешь сном, я проснусь и забуду тебя. Ты будешь светом, я закрою глаза. Ты будешь чудом, я – тем, с кем оно не случилось. Ты будешь словом, я – чужеземцем, который его не поймет.
Валя открывает глаза, утыкается лбом в мутное, холодное, мокрое снаружи, пыльное изнутри стекло, думает: дура, дуууууура, я дура, дура это теперь я; хватит, – думает Валя, – хватит, хватит, пожалуйста, хватит уже о нем, хватит корчить из себя поэтессу, сочинять красивые фразы, которые никогда не напишу и не отправлю, и слава богу, что не отправлю, потому что если все-таки да, Лева только плечами пожмет: «Совсем кукуха поехала». Какое, на хрен, «ты будешь светом», кто будет светом – Левочка, да? Вот этот му… да ну нет, на самом деле, никакое не «му», он нормальный, Левка отличный, просто, ну, не любит меня, так бывает – не любит, и все. Меня еще восемь, или сколько нас там сейчас на Земле миллиардов не любят, почему им можно меня не любить, а именно Леве вдруг с какого-то перепугу нельзя?
Валя всматривается в темноту. Давно не ездила в автобусах, всегда сама за рулем, а сегодня вдруг решила отвезти документы тетке автобусом, чтобы сослаться на расписание и не засиживаться в гостях. На самом деле, это была плохая идея, – думает Валя. – В последнее время у меня что-то много плохих идей.
Пока планировала, казалось, ехать автобусом будет очень приятно, дольше, чем на машине, зато напрягаться не надо, почти целый час можно ничего не делать, отдыхать и смотреть в окно. Она, собственно, смотрит, но что тут увидишь, только темнота, изредка фонари и фары встречных автомобилей, без особой нужды за город сейчас никто не поедет, вторник, вечер, дождь моросит, зима, снова зима, ну как же так получается, буквально только что было лето; ладно, осень тоже была, но какая-то слишком короткая, по ощущениям, не больше недели, любимое пальто всего три раза надеть успела, и все, конец, снова гребаная зима, закончен сезон непрактичных нарядов, ты один мне поддержка и опора, о старый, страшный, дешевый и бесформенный теплый пуховик. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние… а с тобой еще легче впасть.
Ты будешь летом, – думает Валя, снова закрыв глаза, – а я старым пуховиком, который убрали в кладовку, чтобы оставался там до зимы.
От этого унылого образа ей становится смешно и наконец-то легко, как будто вот прямо сейчас все наконец-то и правда закончилось, как кнопку нажали, раз – и нет никакой несчастной любви. Валя не особенно обольщается, потому что так уже много раз было – внезапное освобождение, облегчение, граничащее с эйфорией, но потом приходишь домой, а там стул, который вместе раскрашивали, три желтые ножки, четвертая черная с надписью «я дитя тьмы», там плед в зеленую клетку, в который вместе кутались, сидя а августе на балконе, там, собственно, сам балкон, где провели вместе столько прекрасных часов, и ящики с неувядающими мелкими хризантемами, которые принес, никуда не денешься, Левка и сам посадил, как будто собирался навсегда остаться, а на самом деле ничего он не собирался, подумаешь, ерунда какая, посадил хризантемы, хризантемы – не обязательство, а просто цветы.
Когда человек хочет с тобой остаться, он остается, – думает Валя. – А когда человек тебя любит, это – ну, обычно выражается в каких-то практических действиях. Это же только в любовных романах принято из каких-то винтажных соображений чувства скрывать, а жизнь честнее и проще: если человек чего-нибудь хочет, непременно постарается это получить. А если ни разу не попытался, а потом вообще постепенно исчез из поля твоего зрения, значит и не хотел. Не надо гадать, фантазировать, себя уговаривать, не надо придумывать ничего.
От этих печальных, в сущности, мыслей Вале становится еще легче. Совсем легко. Потому что если на самом деле ничего не было, значит и не потеряла я ничего. Ты будешь гипотезой, а я – показаниями приборов, которые ее опровергли. Привет.
Валя открывает глаза и видит, что пока она думала о приборах, гипотезах и любви, которой никогда не было, автобус успел въехать в город; ничего по-прежнему толком не видно, но здесь уже есть светофоры, из-за какого-то оптического искажения они кажутся огромными, как прожекторы, и сейчас за окном сияет ярко-зеленый свет.
В городе водители обычно соглашаются остановиться и высадить пассажиров, где тем удобней, если заранее попросить, но Вале не надо, ей домой от автовокзала ближе всего, можно сидеть спокойно, не опасаясь пропустить свою остановку. Однако повинуясь какому-то безотчетному порыву, она поднимается, медленно идет по проходу, одной рукой цепляясь за поручни, другой волоча за собой чемодан, глядит не под ноги, а в окно, за которым сияет зеленый свет далекого светофора, слишком яркий, слепит глаза, но смотреть на него все равно почему-то приятно, такой красивый, радостный, праздничный свет; Валя идет по пустому вагону и думает: как же странно, что в вагоне никого, кроме меня. Это я что, ехала почти целые сутки и не заметила, что одна? Да ну, нет, ерунда, были еще пассажиры, два молодых человека сидели в конце вагона, всю дорогу играли во что-то на странной, раньше таких не видела, шестиугольной доске, и песьеглавец с улыбчивым толстым младенцем, и пожилая женщина с прозрачным, как на фиранских картинах, лицом всю дорогу просидела с кальяном в курящем купе; наверное все просто вышли час назад в Шелой-Хассе, там же сейчас карнавал в честь прихода зимы, конечно, туда все едут, и только я, как скучная клуша, домой-домой, потому что завтра вечером на работу, так, чего доброго, вся жизнь пройдет без излишеств и наслаждений, – думает Младшая Сумеречная Начальница Во-Ин-Талли; впрочем, это чистой воды кокетство, не жалуется, а хвастается, красуется – за неимением аудитории, перед собой. На самом деле Во-Ин-Талли очень любит свою работу и соскучилась по дому в командировке, хочет поскорее вернуться в свой туманный сад, где пока она ездила, наверняка расцвели первые иринии. Ну или не расцвели.
Состав замедляет ход, ползет вдоль перрона, Во-Ин-Талли, слегка раздосадованная тем фактом, что некоторые процессы подчиняются не ее воле, а чьей-то еще, демонстративно возводит глаза к потолку – сколько можно тащиться? – и нетерпеливо подхватывает чемодан. Наконец поезд останавливается, проводник открывает дверь, Во-Ин-Талли, торжествующе улыбаясь, покидает вагон, вдыхает знакомый, неповторимый, любимый до боли в сердце горький запах цветущих зимних садов, мокрой земли, дыма ночных ритуальных костров, Валя растерянно смотрит вслед удаляющемуся от остановки пригородному автобусу: что я наделала, где я вышла, зачем?
Валя оглядывается по сторонам; ладно, где я, предположим, понятно, Новая Вильня, улица Парко, самая дальняя жопа мира, но родная, знакомая жопа, то есть ясно, как из нее выбираться, рядом конечная остановка семьдесят четвертого, можно без пересадок доехать до центра, даже такси не придется вызывать. Но господи боже, как я сюда попала? – думает Валя. – Что вышла гораздо раньше, чем собиралась, это еще ладно бы, но Новая Вильня – восточная окраина, а я возвращалась из Тракая, значит должна была въехать в город с противоположной стороны!
На самом деле Валя отлично помнит, как выходила из поезда на вокзале и что это был какой-то совсем незнакомый, но для той, которая выходила, знакомый вокзал. Валя помнит даже, кто именно из этого поезда выходил, вернее, какая она в тот момент была – счастливая, нетерпеливая, немного сердитая, привыкшая, господи боже, как сформулировать – командовать? повелевать? Скорее просто к тому, что обычно реальность движется в полном согласии с ее волей, а поезд с волей не согласовывался, слишком долго тормозил, поэтому на него и сердилась – не всерьез, понарошку, как на неласкового, не позволяющего себя погладить уличного кота. Сейчас вспоминать смешно и почему-то совсем не страшно, хотя, наверное, должно быть страшно, когда сходишь с ума.
Что это было вообще? – думает Валя. – Я же нормальная, никогда ничего такого, и вдруг – все, привет. Помню о себе то, чего не случилось, и никак не могло, но от этих ложных воспоминаний мне почему-то так весело и хорошо, как никогда в жизни не было. А если и было, то в раннем детстве, когда еще почти не умеешь думать, только существовать и чувствовать. Очень давно.
В этот момент Валя наконец замечает, что рядом с ней стоит чемодан. Большой, серебристый, тот самый. Тот самый, с которым я – не я, та, другая – ехала в поезде. Та, которая примерещилась. Совсем незнакомая, чужая, очень счастливая, властная, все-таки может быть немножечко я, – думает администратор языковых курсов Валя, пока ее руки, не дожидаясь соответствующей команды, открывают чемодан Младшей Сумеречной Начальницы Во-Ин-Талли. Чемодан наполовину пуст, а наполовину полон туманом, туман клубится над автобусной остановкой «улица Парко», стекает по склонам Павильняйских холмов, плывет над рекой, приближаясь к сердцу Старого города, весь город окутывает этот туман.
Это я, значит, вернулась из командировки, – с холодным спокойствием думает Валя, сидя на автобусной остановке. – И привезла нам туман.
6. Зеленый Каппа[2] в горах
Состав и пропорции:
1 часть ликера TatraTea;
1 часть сакэ;
чайная ложка сока имбиря;
лимонад Ramune со вкусом маття;
сок половины лайма;
сироп зеленого чая.
Охлажденные ингредиенты налить в высокий стакан, наполнить льдом и долить лимонадом. В половинку лайма без мякоти аккуратно налить чайный сироп. Положить в центр стакана.
Сабина
Сабина выходит из пятиэтажного дома на улице Ринктинес, она тут сейчас живет в квартире… ну, вероятно, близкого друга, раз уступил ей свое жилье. Или щедрого мецената, или поклонника, или старого должника; факт, что квартира пока свободна и до какой-нибудь даты моя, – объясняет себе Сабина в тех редких случаях, когда ей приходит охота что-нибудь себе объяснить. Прямо сейчас она понятия не имеет, как завладела этой квартирой, но когда – если – хозяин (хозяйка?) объявится, Сабина его, конечно же, сразу узнает. Не факт, что действительно вспомнит историю их отношений, но скажет то, что от нее ожидают, на том языке, на каком следует говорить. Короче, это точно не повод для беспокойства, пусть идет, как идет. Чтобы удержаться на поверхности моря, не обязательно помнить, как оно называется, где находится пляж, какой дорогой, как и с кем сюда добиралась, кто сторожит одежду, куда потом собиралась, достаточно просто плыть. Сабине нравится думать, что ее жизнь – это море. Она – умелый пловец.
Словно бы в подтверждение, в кармане куртки вздрагивает телефон, сообщение в мессенджере, по-польски, с латвийского номера, от абонента WV: «Если захочешь, в квартире можно остаться аж до пятого января, обнимаю». Сабина отвечает: «Отлично, спасибо огромное», – и улыбается: ну надо же, можно остаться! То есть, получается, раньше было нельзя? И потом, после пятого января снова станет нельзя? Забавно. Интересно, кто придет меня выселять? Впрочем, до пятого января еще далеко, целый месяц, мне столько, наверное, и не надо. Но все равно приятно, что в квартире можно остаться. Неохота прямо сейчас куда-то переезжать.
Когда Сабина о чем-то думает «неохота», – это означает, что время делать это пока не пришло. А когда придет, ей сразу захочется, да так сильно, что никто не удержит; с другой стороны, кому бы могло понадобиться зачем-то меня держать? – весело думает Сабина, перепрыгивая через оказавшуюся на ее пути скамейку, не потому, что давала обет всегда ходить по прямой, это все-таки вряд ли, а просто так, от избытка сил.
Интересно, – думает Сабина, – а я вообще давала какие-нибудь обеты? В обмен на заклинание «атрэ хэоста», бесконечно длящее жизнь? По уму, должна была, да. Это прикол, конечно: дать обет и его не помнить, но неукоснительно исполнять. А может, кстати, в этом и заключается мой обет – обо всем забывать?
Думать об этом Сабине не мучительно, а весело и интересно. Ей часто бывает весело. И интересно практически все.
Сабина идет через двор, вернее, через множество почти одинаковых дворов, застроенных старыми типовыми пятиэтажками и панельными девятиэтажками, чуть поновей. Так себе зрелище, но Сабину оно совершенно устраивает, она с удовольствием смотрит по сторонам – на грязноватые светлые стены, разноцветные автомобили, голые черные ветви деревьев, турники и песочницы, пустые по случаю буднего зимнего дня. Сабине все равно, где ходить и на что смотреть. С ее точки зрения, красивых и некрасивых домов не бывает, дома это – ну, просто дома. Они нужны, чтобы люди жили не на улице, а под крышей, в тепле, и в этом смысле все дома, кроме заброшенных и недостроенных, одинаково ценны – в них живут. Впрочем, в заброшенных жили раньше, а в недостроенных будут жить когда-то потом.
И ко всему остальному, что можно увидеть, когда идешь по городу – дворам, тротуарам, деревьям, троллейбусам, клумбам, витринам, автомобильным стоянкам, трансформаторным будкам, ангарам, фонарным столбам и мостам – у Сабины такое же отношение. Если есть, значит зачем-то нужны, спасибо, пусть будут. А как что при этом выглядит, особой разницы нет.
Не то чтобы Сабина была нечувствительна к красоте. Просто красоту она видит в движении света, пронизывающего весь мир. Людям обычно это зрелище недоступно, Сабина в курсе, поэтому вслух о невидимом свете не говорит. Иногда ей жаль, что не с кем его обсудить. Было бы здорово. Все равно что пойти на выставку с понимающим другом, чтобы шептаться: «Смотри какое!» – и хором огорченно вздыхать: «Ой нет, здесь надо было не так». Но тут ничего не поделаешь, Сабина одна.
По правде сказать, движение света редко бывает настолько красиво, что стоишь и смотришь, забыв, как дышать. Хотя, справедливости ради, в этом городе красивых фрагментов встречается больше, чем в других городах. Но чаще тайный невидимый свет не льется, а дергается, мелькает, мигает в таком утомительном ритме, что поневоле позавидуешь тем, кто не способен его воспринять.
Ну, это, положим, просто для красного словца сказано – «позавидуешь». На самом деле, конечно же, нет. Нечему тут завидовать. Не видеть несовершенство мира – не выход. Выход – все видеть и по возможности исправлять. Сабина умеет. Это ее любимое занятие – дирижировать невидимым светом, выравнивать его яркость и ритм. Сабина знает (она не помнит, откуда, то ли где-нибудь научилась, то ли изобрела сама) специальные жесты, почти незаметные посторонним, а если даже кто-то заметит, не придаст значения – подумаешь, какая-то тетка на улице резко взмахнула рукой. От этих жестов мучительно мельтешащий невидимый свет начинает плавно течь и ровно сиять. Иногда всего на минуту, а иногда надолго. Может быть, вообще навсегда. Но это не проверишь, конечно. Чтобы проверить, надо вечно жить в одном городе, а Сабине нравится часто переезжать.
Но проверять и не надо. Как получилось, так получилось, любое мнимальное изменение лучше, чем совсем ничего. А самой Сабине для радости нужен не результат, а сам процесс исправления, когда от одного движения руки устанавливается гармония и рождается ей одной очевидная красота. В такие моменты она не то чтобы вспоминает, скорее, всякий раз заново понимает, зачем вообще родилась.
Поэтому когда Сабину спрашивают о профессии – очень редко, она производит впечатление человека, к которому с вопросами лучше не приставать – так вот, если все-таки спрашивают, Сабина всегда говорит, что она художница. Кем еще считать себя человеку, которого, по большому счету, интересует только одно – красота. А что эту красоту никто не увидит глазами – дело десятое. Все равно как-то, да чувствуют. Люди чувствуют гораздо больше, чем способны осознавать.
Сабина выходит на улицу Кальварию и направляется к Зеленому мосту. Когда покидала дом, никаких особых планов у нее не было – пойти, куда понесут ноги, посмотреть, как по-разному в разных местах светится мир, внести исправления, где и когда захочется; в общем, все как всегда. Но вот прямо сейчас она ощущает желание погадать, сильное, простое и скорее приятное, как голод, который легко утолить. Гадание для Сабины тоже способ изменять течение света – в человеке, который к ней за этим придет. Особое удовольствие, не каждодневное, можно сказать, праздничное усилие. Человек – объект уникальный. Микроскопический, незначительный и одновременно – целый огромный мир. Такой парадокс.
Сегодня, – думает Сабина, – как раз подходящее настроение. Сегодня Канон Перемен мне отлично зайдет. Пойду в ту кофейню с камином… нет, лучше поеду. Хочу побыстрее! Остановка через дорогу, автобусы меня любят, нужный сразу придет.
Остановка украшена рождественской рекламой: мужчина везет на санках ребенка с кучей подарков в разноцветных пакетах. Сабина на миг застывает перед рекламным щитом – что это? Почему так счастливо колотится сердце? Почему мне кажется, будто эта бесхитростная картинка – про меня? И уже в автобусе вспоминает: снег, зима, санки, темнота, огни вдалеке. Когда я была маленькая, мама катала меня на санках. Или не мама? Неважно, кто-то хороший катал. У меня было отличное детство, какое счастье, что это так! Даже если я только что сочинила про снег и санки, все равно теперь оно – правда. В моем положении нет особой разницы, придумывать, или вспоминать.
Я
Я сижу на крыше дома, доставшегося мне когда-то в наследство от деда. Когда дед умер, мне едва исполнилось восемнадцать, только-только школу закончил; на самом деле, большое ему спасибо за то, что продержался так долго. Я – поздний ребенок, и мать тоже поздняя, даже по нынешним меркам, то есть дед уже совсем старым был, когда умер, девяносто два года, не кот чихнул.
Я почему говорю спасибо – да потому, что без деда, к которому можно было прийти в любое время и оставаться, сколько захочешь, и жаловаться, и хвастаться напропалую, врать с три короба, выдавать свои самые тайные тайны и просто молчать, – в общем, не уверен, что без дедовской беспечной усмешки и убежища в его доме я бы пережил превращение из ребенка во взрослого человека. До сих пор помню, какой это был лютый ужас – словно лучшую часть тебя положили под пресс и выжимают из нее жизнь, силу, смысл и все остальное, что имеет значение, причем даже не потому, что оно кому-то понадобилось, а просто чтобы у тебя всего этого больше не было. То есть все твое драгоценное даже не пожирают какие-то жуткие чудища, оно просто так утекает, потому что время пришло, и ты сам постепенно становишься жутким чудищем под названием «обычный взрослый человек». Все понимаешь, отчаянно, всем собой не соглашаешься превращаться, но превращаешься все равно.
Ну, правда, я тогда не до конца превратился. Слегка подпортился, но все-таки уцелел. Остался невыносимым упертым психом, способным желать исключительно невозможного, ежедневно грозить кулаком небесам и просить, а убедившись в полной бесполезности просьб, отчаянно требовать причитающихся мне по праву – то есть просто по факту рождения – невообразимых чудес, наполняющих смыслом всякую жизнь.
Короче, дед меня натурально спас – и своей долгой жизнью, и оставленным после смерти наследством. Где бы я сейчас был, если бы не этот дедовский дом. Да пожалуй, нигде бы уже и не был, – вот о чем я думаю, сидя на крыше дома, который служил мне убежищем в самые черные дни, то есть практически всю мою человеческую жизнь. И до сих пор остается, хотя быть сейчас моим домом – дело нелегкое. Но он как-то справляется. Специально ради меня научился скитаться с места на место по речным берегам, становиться незаметным для человеческих глаз, а тем, кто все-таки его разглядит, казаться нежилой, негодной развалиной, которую вот-вот снесут. Давным-давно уже не от чего, да и некому убегать, а убежище все равно осталось. И это, конечно, гораздо лучше, чем наоборот. Был бы дом, а что с ним делать – найдется. Например, безлунной пасмурной зимней ночью сидеть на крыше, до ушей закутавшись в одеяло. Впрочем, судя по тому, что у меня даже кончик носа не мерзнет, на улице сейчас довольно тепло.
Угревшись, я почти начинаю дремать и лениво думаю, что следовало бы вернуться в дом и там уже дрыхнуть, сколько душе угодно, потому что тело у меня этой ночью вполне человеческое, надо его беречь.
Думать о том, как я вот сейчас, буквально через минуту встану и куда-то пойду, легко и приятно, а вставать и идти – не очень. Я бы с удовольствием превратился в туман, вот уж кому ни вставать, ни куда-то ходить не надо, но какой из меня сейчас, к лешим, туман.
Ладно, ладно, – лениво думаю я, – встаю, вот уже встал практически, – и даже начинаю понемногу разматывать кокон из одеяла, но в этот момент из ночной темноты возникает перламутрово-белая маска с пустыми прорезями для глаз, за которыми плещется зыбкая, явственно влажная тьма.
Покажи мне такое лет двадцать назад, я бы с перепугу коньки отбросил, хоть и считался на общем фоне почти возмутительно храбрым, да и сам себя таковым наивно считал. Но с тех пор я много чего интересного навидался и успел убедиться, что в мире есть только одно по-настоящему страшное зло – полное отсутствие чудесных видений. Так что грех придираться к их оформлению. Лишь бы одолевали почаще, спасибо, беру.
К тому же конкретно это ужасающее лицо и тьма, которая у него вместо глаз, очень хорошо мне знакомы. Поэтому я улыбаюсь и говорю:
– Вот это здорово ты придумал – наконец объявиться. Где тебя черти носили целых четыре дня?
– Никто меня никуда не носил, – надменно отвечает Нёхиси. – Я сам носился, где душа пожелает. И сюда тоже сам принесся. Прикинь, всего в жизни добился сам! – и страшно довольный собой, хохочет всей своей белоснежной маской и всей тьмой, которая у него вместо глаз, и той тьмой, которая нас окружает, и безлунной ночью, и погасшими окнами соседних домов, и не выпавшим, хоть и обещанным всеми прогнозами снегом, и отсутствием уличных фонарей. Но тут же хмурится: – Погоди, а разве прошло аж четыре дня? Ты серьезно? Прости, я был совершенно уверен, что загулял всего-то на вечер. Вечно я во времени путаюсь. Хоть часы носи!
– Так ты уже загубил три штуки, – напоминаю я. – Последние почти полтора часа продержались, зато потом разлетелись даже не на куски, а практически на молекулы…
– На самом деле не полтора, а почти целых восемь часов! – возмущается Нёхиси.
От возмущения Нёхиси обычно становится антропоморфным; вероятно, человеческая форма наиболее хорошо приспособлена к возмущению, и испытывать его так удобней, и проявлять. Вот и теперь у Нёхиси сразу появляются руки с ногами, а на месте пустых темных прорезей сверкают пока рубиново-красные, но в остальном вполне человеческие глаза.
Спорить бессмысленно: мы оба правы. Когда Нёхиси нацепил на себя часы, время пришло в такое смятение, что стало течь по-разному в разных точках городского пространства. У меня дома, где мы тогда сидели, действительно прошло почти восемь часов, в окрестных кварталах – от четырех до шести, в Старом Городе около трех, а, к примеру, возле Стефановой конторы – меньше полутора, это я точно знаю, он же потом ругаться ко мне прибежал. И в кои-то веки был совершенно прав. Город есть город, тут кроме нас еще и нормальные люди живут. Сколько народу в тот день безнадежно опоздало на разные важные встречи и просто с работы домой, мне даже навскидку подсчитывать страшно. То есть не то чтобы именно страшно, скорее, совестно, хотя это была не моя идея – на Нёхиси часы надевать. Он сам захотел обновку, а я только восхищенно взирал.
– В общем, забей на часы, – говорю я Нёхиси. – От них одни неприятности. Хочешь впасть в ересь тайм-менеджмента, ориентируйся на колокольный звон.
Взгляд рубиновых глаз становится просветленным.
– А. Так колокола не когда попало звонят? А чтобы обозначить время? – восхищенно переспрашивает Нёхиси. – Ну надо же, как все в мире разумно устроено! Какие они молодцы!
В ответ на его похвалу начинает трезвонить колокол ближайшего к нам костела Святого Варфоломея, к нему немедленно присоединяются колокола костелов Святого Франциска и Святой Анны, просыпается Кафедральный собор, ну и все, пошло дело, их теперь не заткнешь. Как в деревне – одна собака залает, остальные тут же подхватят. Вот и у нас по всему городу начался перезвон.
– Сейчас не считается, – поспешно говорю я. – Это колоколам просто понравилось, что мы о них говорим. Но обычно они все-таки звонят четко по часам.
– Можно подумать, у нас тут бывает «обычно»! – хохочет Нёхиси. – Ну и как им теперь доверять?
Он прав. Собственно, мы сами немало сделали для того, чтобы в нашем городе не было никакого «обычно». И теперь пожинаем плоды.
– Да ладно, не парься, – наконец говорю я. – Подумаешь, великое дело – время. Кто оно такое, чтобы ты ради него хлопотал? Ну будешь и дальше путаться, тоже мне горе. Так даже интересней: пропал куда-то – ура, объявился! – оп-па, опять пропал.
– Тогда ладно, – легко соглашается Нёхиси. И, помолчав, добавляет: – Мне показалось, ты какой-то подозрительно мрачный. Прямо как в старые времена.
– Не мрачный. Просто устал. С утра внезапно человеком проснулся. И весь день занимался делами. Оказывается, пока мы с тобой развлекались, у меня скопились разные типично человеческие дела.
– Да ладно, – недоверчиво говорит Нёхиси. – Какие у тебя могут быть человеческие дела?
– Во-первых, диван, – я демонстративно загибаю палец на левой руке. – Его надо было выбросить еще лет двадцать назад, да все руки не доходили. Ну вот, наконец дошли. Я как раз удачно проснулся в совершенно отвратительном настроении. Но не в унылом, как раньше, а в боевом. Тони в таких случаях говорит: «злой как черт», но по-моему, он преуменьшает мои достижения. Людям свойственно недооценивать старых друзей.
– Преуменьшает, факт, – тоном знатока подтверждает Нёхиси. – Чертям, кого бы этим словом ни называли, до тебя далеко.
– Спасибо, друг. Всегда приятно лишний раз получить высокую оценку своих заслуг от эксперта. В общем, дивану не повезло, под горячую руку попался. Я его порубал топором. Можно сказать, мелко нарезал. Как чеснок для салата. И спалил на заднем дворе. Это оказалось настолько духоподъемно, что я озверел окончательно…
– Ох, я бы на это посмотрел!
– Да ну, смотреть там как раз было не на что. Ничего интересного я не творил. Просто отыскал телефон…
– И завел Инстаграм? – с нескрываемым ужасом перебивает Нёхиси. – Так и знал, что нельзя тебя надолго одного оставлять!
– Зачем сразу предполагать худшее? Не настолько плохи были мои дела. По телефону я позвонил Стефану и сообщил, что у него проблемы. Точнее, у Граничной полиции города Вильнюса, которой он якобы мудро руководит. Пока они там одуревших от скуки леших гоняют с холма на холм и ловят мелких демонов по подвалам, Старший городской дух-хранитель мало того, что без единого путного алтаря голодный сидит, так еще и вынужден спать, как сирота на голом полу. И какие сны в том смертном сне приснятся всему городу сразу, пан начальник Граничной Полиции сто пудов не хочет узнать. Стефан хохотал как гиена, но, будучи человеком, не лишенным воображения, убоялся зла и отправил меня в Икею на служебном автомобиле. И под конвоем. В смысле, с помощником, чтобы мне одному мебель на горбу не таскать.
– То есть тебя отвезли в магазин? – изумленно переспрашивает Нёхиси. – Ты был в магазине? Ну и дела!
– Можешь себе представить. Я провел там четыре часа своей жизни. Причем отличных часа! Оттянулся по полной программе. Перемерил всю мебель. В смысле, на всем, включая столы и коробки, как следует полежал. Альгирдас говорит, что поседел так рано исключительно от предчувствия, что ему однажды предстоит претерпеть. Врет, конечно. На самом деле, он тоже неплохо провел там время: купил беспредельно полезные рюмки по имени «Svalka» и арестовал чуть ли не два десятка посторонних кошмаров, контрабандой завезенных из Белоруссии. Не представляю, как это возможно технически, но факт остается фактом: в новеньких икейских подушках прятались белорусские страшные сны и ждали, пока их кто-нибудь купит и унесет домой. Я предлагал проявить лояльность к трудовым мигрантам из соседней тоталитарной страны, но Альгирдас, конечно, не проявил. У него вместо сердца камень. Возможно, точильный; вот совершенно не удивлюсь. Выдворил бедные маленькие кошмарчики за пределы граничного города; ладно, на самом деле все правильно сделал, это я и сам понимаю. Наши родные кошмары в сто раз интересней и веселей. В общем, мы отлично размялись, гоняясь за взбесившимися подушками. Уж не знаю, на что эти кошмары рассчитывали, но они реально пытались прилюдно от нас удирать! Я, между прочим, уж на что был в тот момент человек человеком, а пятерых негодяев собственноручно поймал. Альгирдас теперь говорит, мне с такими способностями надо было не дурью столько лет маяться, а сразу после школы наниматься к ним в Граничный отдел.
– Надо же, как, оказывается, интересно ходить по магазинам! – восхищается Нёхиси. – На будущее учту. Так это подушки так тебя доконали? Ты за ними гоняться устал?
– Да ну, подушки – не работа, а удовольствие. А вот собирать кровать по инструкции – реально трындец. Нам тебя мучительно не хватало. В смысле, твоего всемогущества. Следует быть беспредельно всемогущим, когда берешься самостоятельно собирать мебель из Икеи. Но мы все равно победили. Альгирдас присвоил себе титул великомученика и требует поставить ему в саду памятник в полный рост. Имеет право. Скульптором-монументалистом я отродясь не был, но ничего, где наша не пропадала. Правильный ответ – везде пропадала и отлично себя чувствует. Короче, выкручусь как-нибудь.
– То есть у тебя все в порядке, просто устал собирать мебель? – заключает Нёхиси.
– Ну да. А еще больше – быть человеком, который ее полдня собирал. Ладно, по крайней мере, тебя-то я вижу и слышу. Значит, не так уж плохи мои дела.
– Ты спать иди давай, – строго говорит Нёхиси. – Я много лет изучал особенности устройства людей и сделал удивительное открытие: когда человек устал, ему непременно надо поспать. В этом смысле, – с воодушевлением продолжает он, – люди совершенно не отличаются от духов! Во всем такие разные, поначалу кажется, будто вообще ничего общего. А в главном, можешь себе представить, одинаковые совсем!
– А сказку на ночь расскажешь?
– Чего?! – изумленно переспрашивает Нёхиси.
– Сказку. Жили-были, все вот это вот. Ты же сам когда-то придумал, что зимой надо читать книжки спящим деревьям. А чем я хуже дерева? Мне тоже иногда хочется послушать сказку. Вот прямо сейчас точно отлично зайдет.
– Жили-были, – бодро начинает Нёхиси и надолго умолкает, задумавшись над сюжетом. Оно и понятно: нелегко сочинять человеческие истории, будучи котом, в которого он превратился, едва моя голова коснулась подушки. У всех нас свои пристрастия и привычки, так что не мне его упрекать.
– Да ладно, – говорю я, – забей. «Жили-были» – тоже вполне себе сказка. Благородный минимализм, оставляющий полную свободу воображению слушателя. И мое уже заработало в полный рост… Когда я был маленький, мне дед примерно так сказки рассказывал. «Жил да был крокодил, и что он, как думаешь, делал?» – и я сразу подхватывал: «Ходил по дворам, воровал с веревок простыни и трусы и ими питался, чтобы людоедом не быть».
– Так это ты изобрел веганство? – возмущается Нёхиси.
Его недовольство вполне понятно. Сложно одобрительно относиться к идее пищевых ограничений, когда ты – кот.
– Не изобрел, а всего лишь предчувствовал. И пытался предупредить человечество. Но, сам видишь, не преуспел.
– Да, быть пророком – дело неблагодарное, – соглашается Нёхиси. – Как говорят в таких случаях, врагу не пожелаешь. Хотя если бы у меня вдруг завелся враг, я бы, может, и пожелал.
– Слушай, а вообще можно узнать, как мой дед после смерти устроился? Что с ним стало? Он же… ну, хоть как-нибудь где-то живет? – спрашиваю я.
– Жизнь сознания бесконечна, – отвечает Нёхиси, с трудом подавляя зевок. – Поэтому «как-нибудь где-то» совершенно точно живет – и твой дед, и вообще кто угодно. Но котом про такие вещи говорить сложно. Да и не котом я тебе тоже ничего особо интересного не расскажу. Такие, как я, живут непрерывно, по прерывистому существованию я не специалист. Просто никогда об этом не задумывался. У меня и знакомых-то таких не было, пока сюда не попал. Но я неоднократно слышал из разных авторитетных источников, что, по большому счету, особой разницы нет.
– Ладно, – говорю, – это уже неплохо. Мне, знаешь, почему-то стремно было тебя на эту тему расспрашивать. На самом деле, только потому и решился, что ты сейчас – сонный кот и вряд ли много расскажешь. Ну, ты и не рассказал.
– Я, наверное, понимаю, – неожиданно соглашается Нёхиси. – Незнание – это как слишком короткая сказка. Тоже дает свободу воображению. И вместо одной правды у тебя становится много разных прекрасных правд. Я сам совсем недавно, благодаря ограничению всемогущества, понял, как это бывает интересно и здорово – чего-то не знать.
7. Зеленое болото
Состав и пропорции:
смесь для коктейлей «Margarita Mix» – 45 мл;
дынный ликер «Мидори» – 45 мл;
текила – 30 мл;
сливки – 30 мл;
лед; свежая мята;
оливки – 2 шт.
В охлажденный бокал хайбол положить мяту. «Margarita Mix», «Мидори», текилу и лед смешивать в блендере в течение нескольких секунд. Налить в бокал «тумблер» (tumbler). Аккуратно добавить густые сливки. Нанизать оливки на шпажки и использовать для украшения.
Подавать немедленно.
Александра
Александра открывает глаза и смотрит на море. Море – первое, что она видит, проснувшись, не только сегодня, всегда, и это, конечно, лучшее из всего, что с нею тут происходит. Море – больше, чем утешение, пока смотришь на море, жизнь почти слаще, чем сон, даже тот, который снился сегодня – волшебное королевство, куда можно уехать на каком-то тайном метро.
Между домом Александры и морем – узкая полоса песчаного пляжа, окно в спальне огромное, почти в половину стены, Александра никогда его не завешивает, даже если ложится под утро. Свет не мешает ей спать; впрочем, темнота тоже ей не мешает, и музыка, которая каждую ночь играет в пляжном баре поблизости, и громкие голоса. Александра только теоретически знает (на самом деле, конечно, не просто «знает», а помнит), что людям, в принципе, что-то может помешать спать. От былых бессонниц и следа не осталось, теперь сон – лучшее, что ей удается, единственный оставшийся смысл и такое удовольствие, что ради возможности спать в этом доме стоит жить дальше так долго, сколько получится. То есть не-жить. Существовать, бодрствовать, пережидать паузы между снами. Потому что настоящая жизнь начинается, когда засыпаешь. Сны Александры очень похожи на жизнь.
Александра встает с постели легко, как в детстве; приятно, что больше ничего никогда не болит. Александра еще молодая, ей не исполнилось сорока (и теперь уже не исполнится, разве только формально, можно отсчитывать годы и справлять дни рождения, да непонятно, зачем), но со спиной она успела намучиться так, что каждое утро с неизменным удовольствием отмечает: «Надо же, не болит».
Александра подходит к большому зеркалу, в нем она отражается в полный рост. Сама попросила его здесь повесить, хотя никогда не считала себя красивой, да и никто не считал; это больше не имеет значения, но все равно до сих пор обидно. Самая несправедливая штука в мире – красота. Однако теперь зеркало неизменно радует Александру – сам факт, что она по-прежнему в нем отражается. Высокая, узкобедрая, узкоплечая, слишком тощая даже по меркам эпохи повальной моды на худобу, а лицо как у всей материнской родни круглое, с двойным подбородком, словно к костлявому телу для смеху приставили голову какой-то толстухи. У этой толстухи, про которую почти невозможно думать «я», слишком маленький нос, слишком пухлые губы, слишком глубоко посаженные глаза. Но зато она есть, теперь только это и важно. Я есть, – думает Александра, снимая ночную рубашку и оглядывая свое нескладное тело с выпирающими ребрами и ключицами. – Я есть, а не «была». А что просвечивает насквозь, ничего не поделаешь; впрочем, это даже красиво. Как будто тело отлито из дымчатого стекла.
Александра надевает длинное красное платье с розовыми и голубыми цветами; сказал бы ей кто-то, что она будет такое носить, ни за что не поверила бы; во все остальное – черт его знает, Александра всегда была фантазеркой. Но что станет одеваться в такие безвкусные платья – нет, нет и нет. Однако носит, и дело не в местной моде, которая, во-первых, настолько разнообразна в своих проявлениях, что ее и модой-то трудно считать, а во-вторых, никто не обязан следовать моде, какой бы она ни была. Просто дурацкие платья почему-то кажутся Александре гарантией безопасности, будто пока на тебе платье в цветочек, ничего страшного не случится, женщины в платьях в цветочек не исчезают бесследно, не истаивают, как дым; на самом деле оно, конечно же, так не работает, нет.
На завтрак – Александре нужна еда, как обычному человеку, и это очень удачно вышло, одним удовольствием больше, говорят, далеко не всем ее предшественникам так везло – так вот, на завтрак сегодня у нее мандарины, традиционный омлет с картошкой, свежие, еще теплые булки и горячий густой шоколад. Александра завтракает на открытой веранде, благо погода располагает – почти всегда, не только сегодня. Зимой здесь обычно тепло, а летом не так жарко, как дома; впрочем, «дома» это теперь и есть здесь.
– Кофе точно не надо? – спрашивает Марина.
Марина работает у Александры с самого первого дня, то есть уже третий год, а все не может привыкнуть, что кофе не надо, каждый раз обязательно переспрашивает. А Александре правда не надо, ей не нравится кофе. Лучше уж морскую воду хлебать, чем его. В юности, конечно, пила за компанию с домашними и друзьями, щедро сдабривая то сахаром, то молоком в надежде постепенно привыкнуть к горькому вкусу, или хотя бы понять, что в нем люди находят, не преуспела ни в том, ни в другом и однажды решила больше себя не мучить. Жизнь и без кофе сложна. И не-жизнь сложна.
– Спасибо, точно не надо, – говорит Александра. И спрашивает: – Ты-то сама уже ела? Если хочешь, садись со мной.
Марина знает, что это на самом деле не столько великодушное предложение, сколько просьба. Александра не любит подолгу оставаться одна. И отвечает:
– Я как раз кофе допить не успела. Схожу за чашкой. И, пожалуй, стащу у тебя круассан.
– Давай, – улыбается Александра. И дождавшись ее возвращения, одобрительно говорит: – Уже совсем не хромаешь. Прошла нога?
– Да конечно прошла, что ей сделается! – беззаботно отвечает Марина.
Хотя с ногой у Марины еще недавно была беда. С такими серьезными переломами обычно сперва долго лежат, пока кость срастется, а потом заново учатся ходить. Но Марина всего пару дней полежала, потом бодро запрыгала по всему дому на одной ножке, еще неделю хромала, а теперь уже и незаметно никакой хромоты, даже если специально очень придирчиво приглядываться. А все потому, что лечилась здесь, а не в госпитале. В этом доме раны и переломы заживают почти мгновенно. И другие болезни быстро проходят, даже у тех, от кого отказались врачи. Ну, то есть как – отказались. Просто прямо сказали: «Ступайте, проситесь пожить в доме Маркизы Мертвых, это ваш единственный шанс».
Местные вообще редко болеют – ну, сравнительно редко, по все еще привычным для Александры меркам. И, по тем же меркам, выздоравливают обычно легко, как по волшебству. Но все равно в дальних комнатах этого дома почти всегда кто-нибудь да живет в надежде на скорое исцеление. Александре не жалко, дом большой, соседи ей не мешают; честно говоря, с ними тут даже спокойней и веселей, хотя мало кто попадается ей на глаза. И совсем уж редко выходят посидеть вместе, поужинать, выпить, поговорить. Стесняются, да и побаиваются, все-таки Александра им совсем чужая, родом с Другой Стороны. Но человеческое присутствие в доме все равно ощущается, и это приятно. А что они тут каким-то образом выздоравливают, так вообще отлично. В детстве Александра мечтала стать врачом, у нее все куклы вечно сидели перебинтованные с картонными градусниками под мышкой; потом передумала, а детская мечта все равно взяла и сбылась, вот таким причудливым образом, но это лучше, чем ничего, – говорит себе Александра. Хотя, конечно, в голове не укладывается, что лечить людей можно самим фактом своего зыбкого существования, ничего для этого специально не делая, просто быть.
– Тебе вообще нормально здесь так долго работать? – спрашивает Александра Марину. – Не тоскливо жить в этом доме? Не тяжело на душе?
Александра давно хотела об этом спросить, да все не решалась. Боялась, вопрос прозвучит бестактно, как будто она намекает, что Марине пора увольняться. Но теперь-то, наверное, можно, – думает Александра. – После того как Марина сломала ногу, поскользнувшись на мокрой лестнице, а я наотрез отказалась даже на короткое время кем-то ее заменять, еще и суп ей сама варила, и чертов кофе, и носила в кровать, как родной сестричке, вряд ли она решит, что я хочу от нее избавиться. Скорее, лишний раз убедится, что боюсь ее потерять; ну так это правда, а правду не скроешь. Да и зачем скрывать.






