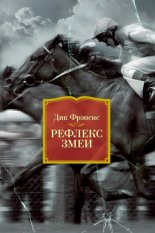Лучшие рассказы Гейман Нил

А некоторые говорят (но это ее ложь, не моя), что когда мне принесли ее сердце, я его съела. Ложь и полуправда падают, как снег, засыпая то, что я помню, то, что я видела. Пейзаж, который невозможно узнать после снегопада; вот во что она превратила мою жизнь.
Остались лишь шрамы на моей любви, на бедрах ее отца, на его мошонке, его члене.
Я не пошла с ними. Ее взяли днем, когда она спала, когда была совсем без сил. И отвели в чащу леса, и там разорвали на ней блузку и вырезали ей сердце, и оставили мертвое тело в овраге, чтобы лес мог поглотить ее.
Лес – темное место, граница многих королевств; нет таких глупцов, кто отважился бы в нем распоряжаться. В лесу живут преступники, грабители, а еще волки. Невозможно ехать по лесу больше десяти дней и не встретить ни души; там за тобой неотступно кто-то наблюдает.
Мне принесли ее сердце. Я знаю, что это было именно ее сердце, ни у свиньи, ни у голубя сердце не может биться после того, как его вырезали из груди, а это билось.
Я взяла его в свои покои.
Я его не ела: я повесила его над своей кроватью, на ту же бечевку, на которой висели гроздья рябины, оранжево-красные, как грудка у малиновки, и головки чеснока.
А снег за окном падал, скрывая следы моих охотников, засыпая маленькое тело в лесу в овраге.
Я велела кузнецу снять с моих окон решетки, и все те короткие зимние дни проводила в своей комнате, глядя на лес, пока не наступит темнота.
Как я уже говорила, в лесу жили люди. И они выходили, некоторые из них, на Весеннюю ярмарку: жадные, дикие, опасные люди; одни были низкорослыми карликами и лилипутами, и горбунами; у других были огромные зубы и бессмысленный взгляд идиота; пальцы третьих напоминали плавники или клешни. Волоча ноги, каждый год они выходили из леса на Весеннюю ярмарку, которая проходила, когда таял снег.
Юной девушкой я участвовала в ярмарке и боялась их, этот лесной народец. Я предсказывала судьбу по неподвижной воде в пруду; а позднее, став старше – по зеркалу с серебряной амальгамой, подарку торговца, чью лошадь я помогла найти, увидев ее в разлитых чернилах.
Торговцы на ярмарке тоже боялись лесного народца; они прибивали гвоздями свой товар к прилавку, огромными железными гвоздями они прибивали имбирные пряники и кожаные пояса. Они говорили, если товар не прибить, лесной народец схватит его и убежит, жуя на ходу имбирный пряник, опоясываясь кожаным поясом.
А ведь у лесного народца были деньги: монета там, другая тут, порой позеленевшая от времени или от земли, и изображения на тех монетах не узнавали даже древние старики. А еще им было чем торговать, и так проходила ярмарка, служа изгоям и карликам, разбойникам (если они были осмотрительны), охотившимся на одиноких путников из лежавших за лесом земель, и на цыган, и на оленей. (Что было грабежом в глазах закона. Олени принадлежали королеве.)
Медленно шли годы, и мой народ утверждал, что я – мудрая правительница. Сердце все висело над моей кроватью и слабо пульсировало по ночам. Если кто и оплакивал то дитя, я о таком не слышала: тогда она еще наводила ужас, и все верили, что избавились от нее.
Весенние ярмарки сменяли друг друга: их было пять, и каждая следующая была печальнее, беднее и скуднее предыдущей. Все меньше людей выходили из леса за покупками. А те, кто выходил, казались подавленными и вялыми. Торговцы перестали прибивать гвоздями к прилавку свой товар. И на пятый год из леса вышла жалкая горстка лесного народца, несколько испуганных волосатых карликов, и больше никого.
Когда ярмарка закрылась, ко мне пришел ее хозяин со своим пажом. Я немного знала его прежде, когда еще не была королевой.
– Я пришел к тебе не как к королеве, – сказал он.
Я ничего не ответила. Я слушала.
– Я пришел к тебе потому, что ты мудра, – продолжил он. – Когда ты была ребенком, ты нашла заблудшую лошадь, глядя в лужицу чернил; когда была девушкой, глядя в свое зеркало, ты нашла потерявшегося ребенка, далеко отставшего от матери. Тебе ведомы тайны, и ты умеешь находить сокрытое. Моя королева, что происходит с лесным народцем? – спросил он. – В следующем году Весенней ярмарки не будет. Путников из других королевств стало совсем мало, и лесной народец почти повывелся. Еще один такой год, и нам придется голодать.
Я велела служанке принести мое зеркало. Оно было совсем обычное, стеклянный круг с серебряной амальгамой, и я хранила его обернутым в замшу, в сундуке, в моих покоях.
Мне принесли его, я взглянула и увидела.
Ей было двенадцать – уже не ребенок. Ее кожа была все такой же бледной, глаза и волосы угольно-черными, а губы – кроваво-красными. На ней по-прежнему была та одежда, в которой она покинула замок: блузка и юбка, хотя они и были ей малы и сплошь штопаны. Сверху на ней был кожаный плащ, а вместо обуви на крошечных ногах – кожаные мешки, подвязанные бечевкой.
Она была в лесу и стояла за деревом.
Пока смотрела, мысленным взором я видела, как она крадется, и ступает, и проскальзывает и прыгает, как зверь, как летучая мышь или волк. Она кого-то преследовала.
Это был монах. На нем была хламида, он был бос, ноги в струпьях и ссадинах, а борода и тонзура заросшие и неухоженные.
Она наблюдала за ним из-за деревьев. Наконец он остановился на ночлег и стал разводить огонь, собрав прутья и разбив для растопки гнездо малиновки. С собой у него был кремень, и он бил им до тех пор, пока не добыл искры и не поджег трут, и пламя не занялось. В гнезде он нашел два яйца и тут же съел их, хотя вряд ли они могли насытить такого крупного человека.
Так сидел он при свете костра, и тогда она вышла к нему из укрытия. Она присела к огню, глядя на него не мигая. Он улыбнулся, видимо, давно уже не видел людей, и жестом подозвал ее к себе.
Она встала и приблизилась, и ждала, вытянув руку. А он порылся в своем одеянии, пока не нашел монетку, крошечный медный пенс, и бросил ей. Она поймала, кивнула и подошла. Он дернул за веревку, которой был подпоясан, и обнажилось его тело, поросшее шерстью, как у медведя. Она подтолкнула его, чтобы он лег на мох, и стала шарить рукой в густых волосах, пока не нашла член; другой рукой она теребила его левый сосок. Он закрыл глаза и сунул свою огромную руку ей под юбку. Она наклонилась к соску, который ласкала, ее гладкая белая кожа ярко выделялась на его волосатом загорелом теле.
И глубоко вонзила зубы в его грудь. Он открыл глаза, потом вновь закрыл, и она пила.
Она уселась на него и пила его кровь. А когда напилась, между ног у нее потекла прозрачная черноватая жидкость…
– Известно ли вам, почему путники обходят стороной наш город? И что происходит с лесным народцем? – спросил меня хозяин ярмарки.
Я убрала зеркало в футляр и сказала, что самолично займусь тем, чтобы лес снова стал безопасным.
Я должна была это сделать, хоть и боялась ее. Ведь я была королевой.
Будь я совсем глупой, я тут же пошла бы в лес и попыталась захватить это существо; но я уже однажды совершила глупость, и мне не хотелось снова оказаться в дураках.
Я целыми днями просиживала над старинными книгами. И целыми днями говорила с цыганками (которые проходили через нашу страну через горы на юг, вместо того чтобы идти через лес на север и запад).
Я подготовилась и узнала о том, какие мне потребуются предметы, и когда начал падать первый снег, я была готова.
Голая, я была одна в самой высокой башне дворца, на ее вершине. Ветры обдували меня; мои руки, и бедра, и груди покрылись гусиной кожей. Со мной были серебряная миска и корзина, куда я положила серебряный нож, серебряную булавку, щипцы, серый плащ и три зеленых яблока.
И так я стояла, раздетая, на башне, смиренная перед ночным небом и ветром. Если бы хоть один человек увидел меня там, я вырвала б ему глаза; но некому было шпионить за мной. По небу неслись облака, и сквозь них то проглядывала, то снова скрывалась убывавшая луна.
Я взяла серебряный нож и полоснула им по левой руке, один раз, другой, третий. Кровь, капавшая в миску, казалась черной в лунном свете.
Я добавила порошок из пузырька, что висел на веревке у меня на шее. Это была коричневая пыль, приготовленная из сухих трав и кожи редкой жабы, и из некоторых других вещей. Он смешался с кровью, не давая ей свернуться.
Я взяла три аблока, одно за другим, и легонько проколола на них кожуру моей серебряной булавкой. Потом я положила яблоки в серебряную миску и оставила там, а первые в том году снежинки медленно падали на мою кожу, и на яблоки, и на кровь.
Когда занялась заря, я закуталась в серый плащ, взяла из серебряной миски красные яблоки, одно за другим, серебряными щипцами, стараясь их не касаться. В серебряной миске ничего не осталось от моей крови и коричневого порошка, почти ничего, кроме черного осадка, похожего на ярь-медянку.
Я закопала миску в землю. И заколдовала яблоки (как когда-то, на мосту, заколдовала саму себя), и теперь они были, без всяких сомнений, самыми замечательными яблоками на свете, а темно-красный румянец на их кожуре был теплого цвета свежей крови.
Я надвинула капюшон низко на лицо, и положила в корзину, поверх яблок, ленты и украшения для волос, и пошла одна в лес, пока не нашла ее жилье: высокий песчаный утес, испещренный глубокими норами, что вели в скальную породу.
Вокруг утеса были деревья и валуны, и я шла спокойно и плавно от дерева к дереву, не хрустнув веткой и даже упавшими листьями не шурша. И наконец нашла, где мне спрятаться, и там я ждала, и наблюдала.
Через несколько часов из главного входа в пещеру выбрались на свет несколько карликов, уродливых, кособоких, волосатых маленьких мужчин, старых обитателей этой страны. Теперь их редко встретишь.
Они исчезли в лесу, и никто меня не заметил, хотя один из них остановился помочиться возле скалы, за которой я пряталась.
Я ждала. Больше никто не вышел.
Я подошла ко входу в пещеру и покричала в нее, старым надтреснутым голосом.
Шрам на холме Венеры зудел и пульсировал, и наконец она вышла ко мне из темноты, совсем голая.
Ей было тринадцать, моей падчерице, и ничто не портило совершенную белизну ее кожи, кроме мертвенно бледного шрама на левой груди, откуда было вынуто ее сердце много лет назад.
А на внутренней поверхности бедер были какие-то грязно-черные пятна.
Она уставилась на меня, но из-под моего плаща меня было почти не видно. Она же смотрела с жадностью.
– Ленты, хозяюшка, – я прохрипела. – Красивые ленты для ваших волос…
Она улыбнулась и поклонилась. Я напряглась; шрам на руке словно притягивал меня к ней. Я сделала, что собиралась сделать, но у меня это получилось чересчур проворно: я бросила корзинку, завизжала, как не может визжать бессильная старая торговка, какой я притворялась, и побежала.
Мой серый плащ не выделялся на фоне леса, и бежала я быстро, и она меня не поймала.
Я вернулась во дворец.
Я не видела, как это было. Можно лишь представить, как девочка, расстроенная и голодная, вернувшись обратно к пещере, нашла мою корзинку валяющейся на земле.
Что она сделала?
Мне приятно думать, что вначале она поиграла с лентами, вплела их в свои иссиня-черные волосы, обернула вокруг своей бледной шеи или тоненькой талии.
А потом, из любопытства, сдвинула салфетку, посмотреть, что еще есть в корзинке, и увидела красные-красные яблоки.
Естественно, они пахли свежими яблоками – и еще они пахли кровью. А она была голодна. Я представляю себе, как она взяла яблоко, прижала его к щеке, кожей чувствуя холодную гладкость его кожуры.
А потом открыла рот и глубоко вонзила в него зубы…
К тому времени, когда я добралась до моих покоев, сердце, что висело на веревке вместе с яблоками, и окороком, и вялеными колбасами, уже не билось. Оно висело спокойно, без движения, без жизни, и я снова почувствовала себя в безопасности.
В ту зиму снега были высоки и глубоки, а сошли они поздно. Когда пришла весна, все мы были голодны.
Весенняя ярмарка в том году была немного более успешной. Лесной народец был немногочислен, но зато их было видно, и путников из земель, что за лесом, также.
Я видела, как маленькие волосатые люди из лесной пещеры покупали, торгуясь, стекло, и хрусталь, и кварц. Я не сомневалась, что за все это они платили серебряными монетами из награбленного падчерицей. Когда горожане сообразили, что именно у них покупают, они помчались домой и вернулись со своим хрусталем на счастье, а некоторые даже принесли большие стекла.
Я было хотела приказать перебить лесной народец, но не сделала этого. Пока сердце висело, тихое, неподвижное и холодное, в моих покоях, я была в безопасности, а потому и лесной народец, да и городской, – все были в безопасности.
Мне исполнилось двадцать пять, и моя падчерица съела отравленное яблоко две зимы назад, когда ко мне во дворец приехал принц. Он был высок, очень высок, с холодными зелеными глазами и смуглой кожей, и приехал он из-за гор.
Он прибыл со свитой: достаточно многочисленной, чтобы защитить его, и в то же время не настолько большой, чтобы другой монарх, например я, мог рассматривать его отряд как потенциальную угрозу.
Я была расчетлива: я подумала о союзе наших земель, подумала о королевстве, простершемся от лесов на юг до самого моря; я подумала о моем златоволосом возлюбленном, умершем уже восемь лет назад; и тогда, ночью, я пошла к принцу в опочивальню.
Я не невинна, хотя мой покойный супруг, который был когда-то моим королем, в самом деле был моим первым мужчиной, что бы кто ни говорил.
Вначале принц как будто возбудился. Он предложил мне снять рубашку и заставил стоять перед открытым окном, далеко от огня, пока моя кожа не стала холодна как лед. Потом он попросил меня лечь на спину, руки скрестить на груди, а глаза держать открытыми и смотреть только вверх, на свет. Он велел мне не двигаться, а дышать как можно реже. И умолял не произносить ни звука. А потом раздвинул мне ноги.
И только тогда вошел в меня.
Когда он начал двигаться во мне, я почувствовала, как двигаются мои бедра, в ритме его движений, толчок за толчком, толчок за толчком. Я застонала. Я не смогла сдержаться.
Его достоинство выскользнуло из меня. Я протянула руку и прикоснулась к этой крошечной, скользкой вещице.
«Прошу вас, – сказал он мягко. – Вы не должны ни двигаться, ни говорить. Просто лежите на камнях, такая холодная и такая прекрасная».
Я пыталась, но он потерял всю силу, которая делала его мужественным; и очень скоро я покинула его комнату, и в моих ушах все звучали его проклятья, а перед глазами стояли его слезы.
На следующий день рано утром он уехал, со всей своей челядью, и они направили коней через лес.
Я представляю себе его чресла, теперь, когда он скачет в лес, и напряжение в его достоинстве, так и не получившее разрядки. Я представляю себе его крепко сжатые бледные губы. А потом – его маленький отряд, как он едет через лес и натыкается на пирамиду из стекла и хрусталя, под которой покоится моя падчерица. Такая бледная. Такая холодная. Обнаженная, под стеклом, почти дитя, мертвое дитя.
В моем воображении я явственно ощущаю, как внезапно отвердело его достоинство, и как его охватила похоть, и слышу молитвы, которые он бормочет себе под нос, благодаря небо за счастливый случай. Я представляю, как он договаривается с маленькими волосатыми людьми, предлагая им золото и пряности за красивое тело под хрустальным могильным холмом.
Охотно ли они взяли его золото? Или вначале посмотрели на всадников с обнаженными мечами и копьями и поняли, что выбора у них нет?
Не знаю. Меня там не было; и в зеркало я не смотрела. Я могу лишь вообразить…
Руки, поднимающие из-под глыб стекла и кварца ее холодное тело. Руки, нежно ласкающие ее холодную щеку, гладящие ее холодное плечо; радость при виде тела, такого свежего и гибкого. Взял ли он ее сразу, на глазах у всех? Или велел отнести в укромный уголок и только потом обладал ею?
Не могу сказать.
Вытряс ли он яблоко у нее из горла? Или ее глаза медленно открылись, когда он входил в ее холодное тело; и раздвинулись ли ее губы, ее красные губы, обнажив острые желтые зубы, которые вонзились в его смуглую шею, и кровь, то есть жизнь, потекла в ее горло, смывая и вымывая кусок яблока, мою, мою отраву?
Я могу лишь вообразить; точно я того не знаю.
Зато знаю другое: ночью меня разбудило ее сердце, которое снова пульсировало и стучало. Соленая кровь капнула с него мне прямо на лицо. Я села. Рука у меня горела и зудела так, словно я ударила камнем по основанию большого пальца.
В дверь колотили. Я испугалась, но ведь я королева, и я никогда не выкажу страха. Я открыла.
Вначале вошли его люди и окружили меня, с обнаженными мечами и длинными копьями.
Потом вошел он и плюнул мне в лицо.
Наконец в мои покои вошла она, как когда-то, когда я была королевой, а она шестилетней девочкой. Она не изменилась. Почти не изменилась.
Оборвав бечеву, на которой висело сердце, она сбросила с нее одну за другой кисти рябины, сбросила высохшую за все эти годы головку чеснока; наконец она взяла свое собственное, свое пульсирующее маленькое сердце, размером не больше, чем сердце козы или медведицы, и оно набухло кровью, и кровь эта перетекла в ее руку.
Ее ногти были остры, как стекло: она разодрала ими грудь, прямо вдоль побагровевшего шрама. И теперь ее грудь зияла, пустая и бескровная. Она облизала сердце, и кровь потекла по ее рукам, и засунула сердце в самую глубину грудной клетки.
Я смотрела, как она это делала. Я видела, как плоть на ее груди сомкнулась. И как шрам начал бледнеть.
Ее принц, кажется, немного обеспокоился, но все же обнял ее, и они стояли бок о бок и ждали.
Она оставалась холодной, и дыхание смерти слетало с ее губ, и потому его похоть нисколько не уменьшилась.
Они сказали мне, что поженятся и королевства в самом деле объединятся. И еще они сказали, что в день их свадьбы я буду с ними.
Здесь уже становится жарко.
Людям они рассказывали обо мне всякие гадости; немного правды в качестве приправы, совсем немного правды, смешанной со многими неправдами.
Меня связали и отвели в крошечную каменную клетку в подвалах дворца, и там продержали всю осень. Сегодня же вытащили из клетки; они содрали с меня тряпье, смыли грязь, обрили мне голову и лоно и натерли мою кожу гусиным жиром.
Падал снег, когда меня выволокли четверо, за руки и за ноги, на глазах у всех, распластанную и холодную, через толпу, и принесли к этой печи.
Моя падчерица стояла там со своим принцем. Она смотрела на меня и мое унижение, не произнося ни слова.
И когда они заталкивали меня в печь, под свист и улюлюканье, когда они это делали, я увидела снежинку, которая опустилась на ее белую щеку и так и не растаяла.
Они заперли за мной дверцу. И здесь становится все жарче, а там, снаружи, поют и веселятся, и барабанят по моей печи.
Она не смеялась, не свистела и ничего не говорила. Она не улюлюкала и не отворачивалась. Она просто смотрела, и на краткий миг я увидела в ее глазах свое отражение.
Я не стану кричать. Я не доставлю им такого удовольствия. Они получат мое тело, но моя душа и моя жизнь останутся со мной и со мной умрут.
Гусиный жир начал плавиться и растекаться по коже. Я не пророню ни звука. Я больше не стану об этом думать.
А стану я думать о снежинке на ее щеке.
И об угольно-черных волосах. О губах, что краснее крови, и о коже, что белее снега.
Просто еще один конец света
День начался ужасно: я лежал голый в постели, живот сводило судорогой; должно быть, так чувствуешь себя в аду. Ощущение от света, тягуче-металлическое, цвета мигрени, подсказывало, что уже день.
В комнате все по-настоящему смерзлось: окна изнутри покрылись тонкой коркой льда. На разметанных простынях, ветхих и изодранных, звериная шерсть. Кожа зудела.
Я намеревался оставаться в постели всю неделю, я всегда чувствую усталость после трансформации, но приступ тошноты заставил меня выпростаться из простыней и, спотыкаясь, поспешить в крошечную ванную.
Новый спазм настиг меня на пороге. Ухватившись за дверной косяк, я покрылся липким потом. Предположив, что у меня температура, я понадеялся, что не подцепил инфекцию.
Живот пронзила судорога. Голова закружилась. Я рухнул на пол и, прежде чем смог найти глазами унитаз, начал блевать.
Вместе с вонючей желтой жижей из меня исторглись: лапа собаки, кажется, добермана, правда, я в собаках не разбираюсь; кожура помидора; немного порезанной кубиками моркови и сладкой кукурузы; несколько кусочков непрожеванного мяса; и несколько пальцев. Это были бледные маленькие пальчики, очевидно, детские.
– Блин.
Спазмы ослабели, и тошнота отступила. Я лежал на полу, изо рта и носа вытекала липкая зловонная слизь, а из глаз – слезы, как всегда в таких случаях, которые тут же высыхали на щеках.
Когда стало немного легче, я достал из блевотины лапу и пальцы и, бросив в унитаз, нажал на слив.
Открыв кран, прополоскал рот соленой иннсмутской водой и сплюнул. Оставшуюся блевотину вытер, как было сподручнее, губкой для мытья посуды и туалетной бумагой. Потом включил душ и стоял в ванне как зомби, подставляя тело потокам горячей воды.
Я намылился с головы до ног. Скудная пена сделалась серой; должно быть, я запачкался. Волосы слиплись, словно были вымазаны в запекшейся крови, и я намыливал их мылом до тех пор, пока все не смылось. А после стоял под душем, пока вода не стала ледяной.
Под дверью я нашел записку от хозяйки. В ней говорилось, что я задолжал за квартиру за две недели. Еще говорилось, что все ответы я найду в Откровении. И что я слишком шумно возвращаюсь домой под утро, и она будет признательна, если впредь я буду вести себя тише. Еще там говорилось, что когда Старшие Боги восстанут из океана, вся пена Земли, все неверующие, весь людской сор, все прожигатели жизни и бездельники будут сметены, а мир очистится льдом и водой из пучины. И что, как ей кажется, мне необходимо напомнить, что в холодильнике она выделила мне полку и будет признательна, если впредь я буду занимать только ее.
Я смял записку и бросил на пол, где уже валялись упаковки из-под биг-мака и пиццы и засохшие куски самой пиццы.
Пора было на работу.
Я жил в Иннсмуте уже две недели, и мне здесь не нравилось. Здесь пахло рыбой. Это был крошечный, вызывающий клаустрофобию городок: на востоке болото, на западе скалы, а в центре – гавань с несколькими полусгнившими рыбачьими лодками, которая не радовала взгляд даже на закате. Тем не менее в восьмидесятых сюда приехали яппи и купили здесь колоритные рыбацкие домики с видом на гавань. Яппи давно уехали, а оставленные ими домики обветшали.
Обитатели Иннсмута жили тут и там вокруг города в трейлерах, на стоянках, забитых этими отсыревшими домиками на колесах, никогда никуда не ехавшими.
Я оделся, надел ботинки, пальто и вышел из комнаты. Хозяйку я не встретил. Это была коротышка с выпученными глазами, которая мало говорила, но зато оставляла мне многословные записки, прикрепляя к дверям в тех местах, где я наверняка должен был их заметить; ее дом был пропитан запахом морепродуктов: на плите вечно булькали огромные кастрюли, заполненные существами со множеством ног или вообще безногими.
В доме сдавались и другие комнаты, но, кроме меня, здесь никто не жил. Ни один человек в здравом уме не приехал бы зимой в Иннсмут.
Но и снаружи запах был не намного лучше. Зато было холодно, и морской воздух превращал мое дыхание в пар. Грязный снег на улицах покрылся коркой, а в небе нависли свинцовые тучи.
Холодный соленый ветер дул с залива. Печально кричали чайки. Мне было гнусно. В офисе тоже задубеешь. На углу Марш-стрит и Ленг-авеню был бар «Первая встреча», приземистое строение с темными оконцами, мимо которого я каждый день проходил последние две недели. Прежде я туда не заглядывал, но теперь нуждался в выпивке, и потом, там могло быть теплее. Я толкнул дверь и вошел.
Там и в самом деле было тепло. Потопав, чтобы стряхнуть с ботинок снег, я прошел в зал. Бар был почти пуст, и в нем пахло несвежими пепельницами и несвежим пивом. Двое пожилых мужчин играли у стойки в шахматы. Бармен читал потрепанный, в зеленой коже с золотым тиснением, томик стихотворений Альфреда, лорда Теннисона.
– Эй, как насчет «Джека Дэниэлса» без льда?
– Сию минуту. Вы здесь недавно, – сказал он, положив книгу на стойку лицом вниз и наливая мне выпить.
– Это заметно?
Он улыбнулся и передал мне «Джека Дэниэлса». Стакан был замызганный, с сальным следом большого пальца; пожав плечами, я все-таки выпил. И почти не почувствовал вкуса.
– Клин клином? – спросил он.
– В некотором смысле.
– Существует поверье, – сказал бармен, чьи рыжие, как лисья шерсть, волосы были гладко зализаны назад, – что оборотень принимает нормальный облик, если его поблагодарить, когда он в зверином обличье, или окликнуть по имени.
– Да? Ну спасибо!
Он налил мне еще, хоть я и не просил. Он немного походил на Петера Лорре[14], правда, и большинство обитателей Иннсмута тоже походили на Петера Лорре, включая мою хозяйку.
Я опрокинул «Джека Дэниэлса», и на этот раз, как и положено, он прожег мне желудок.
– Так говорят. Я ведь не сказал, что в это верю.
– А во что вы верите?
– Надо сжечь ремень.
– Простите?
– У оборотней ремень из человечьей кожи, который дают им после первой трансформации хозяева ада. Надо сжечь ремень.
Тут один из игроков в шахматы обратил ко мне свои огромные слепые навыкате глаза.
– Если выпьешь дождевой воды из следа вервольфа, сам станешь вервольфом в полнолуние, – сказал он. – Единственно верное средство – выследить волка, что оставил этот след, и отрезать ему голову ножом из самородного серебра.
– Ах вот как? – Я улыбнулся.
Его партнер по игре, лысый и морщинистый, покачал головой и коротко, печально крякнул. Пошел ферзем и снова крякнул.
Таких, как он, в Иннсмуте полно.
Я заплатил за выпивку и оставил доллар на чай. Бармен вновь вернулся к своей книге и не обратил на это внимания.
На улице падали большие липкие хлопья, оседая в волосах и на ресницах. Ненавижу снег. Ненавижу Новую Англию. Ненавижу Иннсмут: здесь нет места, где стоит быть одному, а если и есть, я его еще не нашел. Однако бизнес задерживал меня здесь на столько лун, что мне и думать об этом не хотелось. Бизнес и еще кое-что.
Я прошел несколько кварталов по Марш-стрит в сторону центра, таких же, как весь Иннсмут: нелепая смесь американской готики восемнадцатого столетия, низеньких коричневых домиков конца девятнадцатого и сборных серо-кирпичных коробок конца двадцатого, – прежде чем добрался до закрытой закусочной «Куры гриль», и отпер ржавую металлическую дверь.
Через дорогу был винный магазин; на втором этаже практиковал хиромант.
На металлической поверхности – черным маркером – небрежное граффити: ПРОСТО УМРИ. Легко сказать.
Лестница была деревянной; штукатурка потрескалась и осыпалась. Мой офис, состоявший из одной комнаты, находился наверху.
Я нигде не задерживаюсь так надолго, чтобы вывешивать на двери солидную табличку. Моя была написана от руки печатными буквами на куске картона, который я приладил к двери.
ЛОРЕНС ТАЛБОТ
РЕШАЮ ВОПРОСЫ
Я отпер дверь офиса и вошел.
Какое-то время осматривался, а в моей голове проносились прилагательные типа «убогий», «мерзкий» и «запущенный», и наконец сдался, не сумев подобрать подходящее. Там стояли удивительно непотребные стол, офисный стул, шкаф для хранения документов; а из окна открывался жуткий вид на винный магазин и пустую приемную хироманта. Запах старого пригоревшего жира от закусочной на первом этаже. Мне стало интересно, как давно закрылись «Куры гриль», и я представил себе полчища черных тараканов, шныряющих подо мной, в темноте нижнего этажа.
– Таков образ мира, каким вы сейчас его представляете, – произнес низкий темный голос, столь низкий, что его вибрации отдались у меня в животе.
В углу стояло старое кресло. Сквозь патину и потертости проступал прежний узор обивки цвета пыли.
В кресле сидел толстяк, глаза его были плотно закрыты, а между тем он говорил:
– В замешательстве глядим мы на наш мир, с чувством неловкости и тревоги. Мы считаем себя учеными, оказавшимися в плену у ритуалов, одинокими людьми, не по собственной воле попавшими в ловушку мироздания. Правда много проще: внизу, во тьме земной, есть силы, которые желают нам зла.
Его голова откинулась, а из уголка рта показался язык.
– Вы читаете мои мысли?
Человек в кресле медленно, глубоко вздохнул, и в его горле что-то пророкотало. Он действительно был чрезвычайно толст, с короткими бесцветными пальцами, похожими на колбаски. На нем было грубое старое пальто, некогда черное, а теперь неопределенно серого цвета. Снег на его ботинках еще не растаял.
– Возможно. Конец света – странная идея. Мир вечно заканчивается, и его конец вечно переносится, то из-за любви, то из-за глупости, то благодаря старой тупой удаче. Ну что ж. Уже слишком поздно: Старшие Боги выбрали себе суда. Когда взойдет луна…
Из уголка его рта тонкой струйкой вытекла слюна, истончаясь до похожей на серебряную нити, упавшей на воротник. Что-то поспешно убежало с воротника и укрылось в складках его пальто.
– Да? И что же случится, когда взойдет луна?
Человек в кресле дернулся, открыл свои маленькие глазки, красные и выпученные, и моргнул, словно пробудившись.
– Мне снилось, что у меня много ртов, – сказал он, и его новый голос оказался странно тихим и хриплым для такого огромного тела. – И каждый рот открывается и закрывается независимо от других. Некоторые рты говорили, другие шептали, третьи ели, а иные молча ждали.
Он осмотрелся, вытер слюнку в уголке рта, выпрямился в кресле, озадаченно мигая.
– Кто вы?
– Тот парень, что арендует этот офис, – ответил я.
Он внезапно громко рыгнул.
– Простите, – сказал он хриплым голосом и тяжело поднялся из кресла. А когда поднялся, оказалось, он ниже меня ростом. Он стоял и потерянно оглядывал меня с ног до головы и с головы до ног.
– Серебряные пули, – наконец произнес он после короткой паузы. – Старинное средство.
– М-да, – ответил я. – Это настолько очевидно, что, возможно, поэтому я о нем и не вспомнил. Ну и дела, я ведь мог бы сам в себя пальнуть! В самом деле!
– Вы смеетесь над стариком, – сказал он.
– Вовсе нет. Извините. Ну а теперь вам пора. Кое-кого ждет работа.
Он вышел, с трудом волоча ноги. Я сел за стоявший у окна стол и очень скоро, крутясь и вращаясь, обнаружил, что когда поворачиваюсь налево, стул теряет опору и я могу упасть.
Присмирев, я ждал, когда зазвонит пыльный черный телефон на моем столе, покуда свет на зимнем небе окончательно не померк.
Звонок.
Мужской голос: Как насчет алюминиевого сайдинга? Я повесил трубку.
В офисе не было отопления. Мне стало интересно, сколько времени толстяк спал в кресле.
Через двадцать минут телефон зазвонил снова. Плачущая женщина умоляла меня отыскать ее пятилетнюю дочь, накануне ночью похищенную прямо из кроватки. Живший у них пес тоже исчез.
Я не разыскиваю пропавших детей, ответил я. Простите: тяжелые воспоминания. Я повесил трубку, и меня вновь затошнило.
Становилось темно, и впервые с тех пор, как я оказался в Иннсмуте, через дорогу вдруг замигала неоновая вывеска. Она сообщила, что МАДАМ ИЕЗЕКИИЛЬ[15] гадает на КАРТАХ ТАРО И С ПОМОЩЬЮ ХИРОМАНТИИ.
Красный неоновый свет окрасил падающий снег в цвет свежей крови.
Армагеддон можно предотвратить самыми простыми действиями. Только так. Только так и может быть.
Телефон зазвонил в третий раз. Я узнал голос: снова алюминиевый сайдинг.
– Знаете, – сказал он развязно, – поскольку трансформация человека в зверя и обратно по определению невозможна, нам следует поискать иные решения. Очевидно, деперсонализация, и возможно, какие-то виды перепрограммирования. Ушиб головного мозга? Может быть. Псевдоневротическая шизофрения? Не смешите меня! Правда, некоторые случаи поддаются лечению тиоридазина гидрохлоридом, внутривенно.
– И каков результат?
Он тихо рассмеялся:
– Вот это я люблю! Человек с чувством юмора. Уверен, мы сможем вместе работать.
– Я уже сказал. Мне не нужен алюминиевый сайдинг.