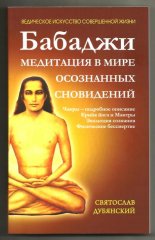День восьмой Уайлдер Торнтон
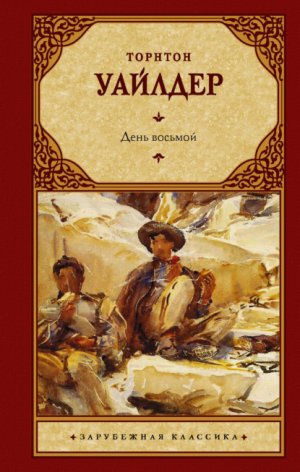
– Нет, Роджер, ты должен попрощаться с мамой! Ты ведь у нас единственный мужчина в доме. Пожалуйста!
Сглотнув комок в горле, он расправил плечи.
– Ладно, Софи, будь по-твоему.
– Она в гостиной шьет, – как и вчера вечером.
Поднявшись по ступенькам к задней двери, Роджер сделал вид, будто что-то забыл, и, миновав передний холл, вошел в гостиную.
– Мама, мне пора.
Покачнувшись, та поднялась. Она прекрасно знала, что сын – как и все Эшли – не любил целоваться, терпеть не мог праздновать день рождения и Рождество, ненавидел выносить сор из избы. Беата опять стала задыхаться, поэтому слова ее были едва слышны, тем более что произнесла она их на языке своего детства:
– Gott behutte dich, mein Sonn![2]
– До свидания, мама.
Он ушел. В первый – и единственный раз в жизни – Беата Эшли упала в обморок.
Что-то так и осталось невысказанным в разговоре Софии с братом на крикетной площадке.
Тех, кто не может платить налоги, отправляют в приют для неимущих. Таковой имелся в Гошене, в четырнадцати милях от Коултауна, и был словно черная туча, висевшая над жителями Кангахила и Гримбла. Даже оказаться в тюрьме считалось менее позорным, чем переехать в Гошен, однако его постояльцы наслаждались комфортом, которого у них никогда не было. Кормили здесь регулярно и сытно. Постельное белье меняли два раза в месяц. Виды с просторных веранд поднимали настроение. В воздухе не висело угольной пыли. Женщины занимались шитьем для больниц штата, мужчины работали на молочной ферме и в огороде, а зимой мастерили мебель. Правда, в коридорах постоянно воняло кислой капустой, но этот запах не казался отвратительным тем, кто жил в нужде. Здесь тоже можно было приятно проводить время, но никто не улыбался, не проявлял доброты – тяжесть стыда сокрушала людей. Пять дней в неделю заведение было тюрьмой, а в дни посещения родственников превращалось в ад. «Как ты себя чувствуешь, бабуля?» «Они хорошо с тобой обращаются, дядя Джо?» Переехать в Гошен означало, что ваша жизнь потерпела крах. Христианская религия, как ее понимали в Коултауне, устанавливала тесную связь между любовью Бога к человеку и деньгами. Бедность не только несчастье в глазах общества, это еще и очевидное свидетельство отпадения от Божественной благодати. Бог ведь обещал, что не допустит страданий выше человеческих сил, и получалось, что неимущие оказывались и вне земного, и вне небесного порядка вещей.
Для детей Гошен обладал своеобразной притягательностью пополам с ужасом. Среди одноклассников Роджера и Софии было несколько таких, чьи родственники жили в приюте. Им частенько приходилось испытывать на себе проявления детской жестокости: «Эй, ты, вали к себе в Гошен!» Все в городе слышали разговоры о том, как в приют отправили миссис Кавано. Она жила в огромном, заложенном и перезаложенном доме рядом с масонской ложей. И не платила налоги годами. Кормили ее прихожане баптистской церкви, которые по очереди приходили и оставляли ей пакеты с едой у задней двери. Но роковой день все-таки настал. Она кинулась на чердак, чтобы спрятаться там, пока объявившаяся вдруг в доме матрона принялась паковать ее вещи. Миссис Кавано буквально вытащили на улицу: когда несли по ступенькам, она, поджав ноги, цеплялась за косяки дверей и вопила что есть мочи. Потом старуху погрузили на телегу, как бодливую корову. Стоял июнь месяц, и окна у соседей были нараспашку. При криках женщины, огласивших улицу: «Помогите! Хоть кто-нибудь способен мне помочь?» – Когда-то миссис Кавано была гордой, счастливой и богатой, но Бог отвернулся от нее. Роджер и София знали, что их мать сойдет вниз и сядет в телегу из Гошена, как королева, и понимали, что только они могут уберечь ее от этого.
София сразу же нашла себе занятие. Была середина лета. Купив дюжину лимонов, – с небольшой тележкой, на которой возила корм для кур, она отправилась в лавку Биксби и купила на пять центов льда, потом написала два ценника: «Мятный лимонад – 3 цента» и «Книги – 10 центов». Из ящика для апельсинов устроив прилавок, София ставила его возле железнодорожной станции за пятнадцать минут до прибытия и отправления каждого из пяти дневных поездов, которые делали здесь остановку. У нее имелось также ведро с водой для мытья стаканов. На прилавок рядом с кувшином лимонада она ставила букетик цветов. Начальник станции лично принес ей второй столик, и на нем София разложила несколько книг, которые нашла на чердаке и в старых сундуках: одни книги когда-то принадлежали Эрли Макгрегору, а по другим ее отец учился в колледже. На второй день она еще кое-что нашла на продажу, написала новые ценники: «Музыкальная шкатулка – 20 центов», «Кукольный домик – 20 центов», «Кукольная кроватка – 40 центов», – и с обезоруживающей улыбкой встала за прилавок. Через пару часов об этом предприятии узнал весь город. Женщины пришли в возбуждение: «Кто-нибудь купил что-нибудь? На сколько она наторговала?», – а мужчины испытали жуткую неловкость. Улыбка Софи задевала их и сбивала с толку. Дитя позора и преступления имеет наглость улыбаться! Зрелище огромной беды, ниспровержения счастья, отчаянной борьбы за существование вызвало прямо противоположные эмоции. Даже те, кто едва ли не сочувствовал семейству, обнаружили, что отчасти испытывают облегчение, даже торжество, смешанное со страхом или дрожью отвращения. Очень часто подобная перемена в настроениях именуется рассудительностью.
Толпа бездельников, у которых было заведено приходить на станцию и встречать поезда, увеличилась вдвое. Маленькая продавщица стояла за своим прилавком в одиночестве, как актриса на сцене. Первый стакан лимонада купил Порки. Он никак не показал, что они знакомы, но простоял возле ее прилавка минут десять, медленно смакуя напиток. За ним последовали другие. Проезжий торговец купил «Математические вычисления на первом курсе», а начальник станции мистер Грег приобрел «Проповеди» Робертсона. На следующее утро группка мальчишек устроила на платформе игру в мяч. Верховодил ими Сай Лейендекер. Мяч летал туда-сюда над столиками Софии, и было ясно, что ребята нацелились на кувшин с лимонадом.
– Сай, – попросила Софи, – не могли бы вы играть в другом месте?
– А ты мошенничать?
Те, кто мог их слышать, не вмешивались – просто молча наблюдали. Неожиданно со стороны главной улицы на платформу вышел высокий мужчина с курчавой бородой и коротко, голосом, не терпящим возражений, остановил игру. Софи подняла на него глаза и чинно, как леди джентльмену, сказала:
– Благодарю вас, сэр.
Мужчина не был ей знаком, однако София понимала, что в ее положении только от мужчины и можно ждать помощи, а никак не от женщины.
Четыре дня она ни о чем не говорила матери, а на пятый, уходя из дому утром, оставила на столе записку:
«Дорогая мама, я сегодня немного задержусь: продаю лимонад на станции. Люблю, София».
Вечером, когда она вернулась домой, мать сказала:
– София, ты не должна торговать лимонадом на станции.
– Но, мама, я заработала три доллара десять центов.
– Да, хорошо, но я не хочу, чтобы ты этим занималась.
– Если ты испечешь несколько овсяных лепешек, то, я уверена, что их тоже продам.
– Возможно, просто люди жалеют тебя, но это скоро закончится. Прошу, перестань этим заниматься.
– Да, мама.
Через три дня Беата Эшли нашла на кухонном столе еще одну записку:
«Я поужинаю у миссис Трейси».
– Что ты там делала? – спросила она у дочери.
– Ей нужно было съездить в Форт-Барри, и она попросила приготовить ужин ее детям, за что дала мне пятнадцать центов. Мама, миссис Трейси просила, чтобы я провела эту ночь в ее доме, и обещала заплатить за это еще пятнадцать центов. Она очень беспокоится из-за того, что Питер играет со спичками.
– Миссис Трейси ждет тебя и сегодня?
– Да, мама.
– Сегодня, так и быть, сходи к ней, но когда она вернется, поблагодари и скажи, что ты нужна своей матери дома.
– Да, мама.
– И не бери у нее денег.
– Но, мама, почему я не могу взять деньги за свою работу?
– София, ты еще слишком молода, чтобы понять такие вещи. Мы не нуждаемся в доброте этих людей. Она нам не нужна.
– Но скоро наступит зима.
– И что? Что ты хочешь этим сказать? Запомни: я старше, опытнее, а значит, знаю лучше тебя.
Через три недели после отъезда Роджера, 16 августа, почтальон принес в «Вязы» письмо. София получила его в дверях и поступила так, как принято у мусульман: приложила ко лбу и к сердцу. Внимательно осмотрев конверт, она поняла, что его открывали, а потом опять заклеили, и отнесла матери на кухню.
– Мама, похоже, это письмо от Роджера.
– Правда? – Беата медленно вскрыла конверт, и на пол спланировала двухдолларовая бумажка. Она проводила ее взглядом и передала письмо дочери. – Читай… ты. Прочти мне письмо, София.
– «Дорогая мама, у меня все хорошо. Надеюсь, что и у тебя тоже. Скоро я заработаю много денег: работу здесь найти вовсе не трудно. Чикаго – очень большой город. Прости, но адрес пока дать тебе не могу, потому что еще не знаю, где остановлюсь. Ты будешь смеяться, но я еще вырос. Интересно, когда перестану? Люблю вас всех: тебя, Лили, Софию, Конни. Роджер».
– Значит, у него все хорошо? – хрипло проговорила Беата.
– Да, мама.
– Покажи письмо сестрам.
– Там упали деньги.
– Да? Припрячь их.
София поступила в точности так, как велел брат: отправилась на главную улицу. Календарь был на месте – в окошке Порки. Сразу после полудня, когда на улицах пустынно, она прихватила пару старых туфель Лили и вернулась в город. Клиент в одних носках дожидался, когда ему починят обувь, поэтому Порки разыграл перед Софи сцену с длинным диалогом о каблуках, подметках и набойках, и письмо из его руки перекочевало к ней. Покинув мастерскую, прогулочным шагом она направилась в южную сторону и, дойдя до монумента Гражданской войны, села на ступеньки и вскрыла конверт. В нем лежал еще один конверт, с маркой и адресом: «Мистеру Тренту Фрейзеру, Центральный почтамт, Чикаго, Иллинойс», – а также лист писчей бумаги, один доллар и письмо. У него все в порядке. Он вырос так, что она его не узнает. Нашел работу: сначала мыл тарелки в ресторане, но потом его продвинули по службе и сейчас помогает повару на кухне. Каждую минуту зовут: Трент, сделай то, Трент, сделай это. Подумывает перейти на работу в отель клерком. Чикаго очень большой город: в тысячу раз больше Коултауна. Он с нетерпением ожидает, когда она приедет к нему в Чикаго. На днях он видел на одном из домов вывеску «Школа медсестер». «Вот туда ты и поступишь, Софи». Только Роджер, доктор Джиллис и ее отец знали, что София мечтала выучиться на медсестру.
«Как ты знаешь, я прислал маме два доллара. Скоро смогу посылать больше. Сюда вкладываю один доллар для твоего тайного банка. Сходи к мистеру Бостуику и узнай, не захочет ли он покупать у нас каштаны. На несколько миль вокруг наши каштаны единственные. Здесь, в Чикаго, они идут по двенадцать центов за бушель. Правда, это цена на прошлогодние. Если тебе потребуются карандаши, попроси у мисс Томс. У нее их предостаточно. Пиши плотнее, Софи, уместишь больше слов. Ответь в тот же день, как получишь это письмо. Наверное, никто так не обрадуется, как я, когда получу твой ответ. Как у мамы с голосом? Что вы едите? Когда читаете вслух, смеетесь ли хоть иногда? Не забывай, что я тебе говорил: не поддавайся унынию. Мы справимся. Забыл предупредить, чтобы ты не говорила маме про эти письма, но, думаю, ты и так догадалась.
PS. Сейчас я уже начинаю жалеть, что сменил имя. Нам должно быть все равно, что думают миллионы людей. Папа не сменил бы.
PPS. Я думаю о тебе, маме, о нашем доме каждый вечер в девять часов, поэтому отложи это в своей памяти.
PPPS. Как там поживают дубки, которые посадил папа? Измерь их и напиши.
Роджер».
Дни шли за днями. Их кормили огород и курятник. Они пили чай из липового цвета, собранного с собственного дерева. София больше не покупала кофе – жестокое лишение для матери, хотя та никак на это не отреагировала, – а деньги все равно утекали: мука, молоко, дрожжи, мыло… Задолго до начала зимы София как вся городская беднота, начала собирать уголь у товарного двора на железной дороге. Часто в ранние сумерки городские кумушки прогуливались неподалеку от «Вязов», демонстрируя полное безразличие. Шесть вечеров в неделю в доме не горел свет. Весь Коултаун с напряженным интересом ждал, как долго вдова – фактически вдова! – с тремя подрастающими дочерьми сможет просуществовать без денег.
Констанс, будучи еще ребенком, не могла понять, почему ее забрали из школы или почему ей запрещается ходить с Софи в город за покупками. В определенные часы она могла тайком подняться по лестнице к окну, посмотреть на главную улицу и понаблюдать за бывшими подругами, когда те возвращались домой.
Лили всегда была мечтательницей. Даже во время процесса девушка мало что замечала из происходящего у нее перед глазами. Нет, она не спала – просто отсутствовала. Лили лишилась самого важного для нее: музыки, нескончаемого потока новых лиц и общения с молодыми людьми, главной привилегией которых было обожать ее. Она не была ни меланхоличной, ни угрюмой, с готовностью и аккуратно выполняла все, о чем ее просили, но взрослела медленнее остальных детей Эшли. Ее кажущееся отсутствие на самом деле было ожиданием. Так морская анемона остается инертной и лишенной цвета до тех пор, пока ее не подхватит прилив.
Беата Эшли старалась, чтобы все было как прежде. В «Вязах» не поощрялась лень. Дом сверкал чистотой. Чердак и подвал привели в порядок. При уборке нашли много вещей, вполне пригодных для использования, если их починить. Больше внимания стали уделять саду, огороду и курятнику. Регулярно проходили уроки. Теперь ужинали рано, чтобы успеть почитать вслух до темноты. Они прочли четыре романа Диккенса, которые оказались в доме, три романа Вальтера Скотта, а также «Джейн Эйр»[3], потом отыскали еще и «Les Miserables’ («Отверженных») Виктора Гюго. Лучшей в чтении Шекспира была единогласно признана мисс Лили Эшли. По четвергам говорили только по-французски, а свечи горели до десяти часов. Балы, которые проходили каждый второй четверг, были роскошны. А какие балы без танцев? Танцевали под граммофон с огромной трубой. Вокруг красавицы Лили Эшли, конечно, толпилась армия красавцев кавалеров. Каждое событие знаменовалось тем, что на нем присутствовали почетные гости – то прекрасная миссис Теодор Рузвельт, то посол Франции. После танцев всех приглашали к изысканному souper[4]. Меню выставлялось перед гостями на проволочной подставке: «Consomme fin aux tomates Imperatrice Eugenie»[5], «Puree de navets Bechamel Lilt Ashley»[6], и «Coupe aux surprises Charbonville»[7]. К изысканным блюдам подавалось «Vin rose Chateau des Ormes»[8] 1899 года. Все дети Эшли с самого раннего возраста немного говорили по-немецки.
Празднование годовщин немецких поэтов и композиторов сопровождалось соответствующими церемониями. Лекции читала несравненная фрау Беата Келлерман-Эшли, которая по памяти могла часами легко цитировать Гете, Шиллера и Гейне. К сожалению, рояль пришлось продать торговцу подержанным товаром из Сомервилла, однако девочки столько раз слушали сонаты Бетховена и прелюдии Баха, что достаточно было напеть небольшой фрагмент, чтобы у них в ушах опять начинала звучать музыка.
События, которые обрушились на семью, не удивили Беату, не вызвали недоумения: для нее это стало катастрофой, к тому же совершенно бессмысленной, – однако она не показывала, что страдает, никого не обвиняла, и никак не проявляла обиду – ну разве что перестала выходить в город. Казалось, что она полностью владеет собой, хотя одной способности все-таки полностью лишилась – планировать дальнейшие шаги. Ее разум отказывался заглядывать в будущее. Оно ускользало от нее, стоило задуматься о завтрашнем дне, о наступающей зиме, о следующем годе. То же самое происходило и с прошлым. Она начинала говорить о муже после длительной паузы и с видимым усилием. Хрипота, которая исказила чудесное звучание ее голоса, постепенно отступила, но в те дни, когда Беату вызывали в полицию для допроса, возвращалась, хотя и не во время этой жесткой процедуры, а уже после нее.
Она несла в себе груз, о котором никому не говорила, – груз бессонницы, причем бессонницы такого свойства, когда будущее представляется длинным коридором без единого огонька и поворота: бессонницы по причине одинокой, не разделенной ни с кем постели. Это было настоящим несчастьем, потому что Беата понимала, что бессонница быстро ее состарит и изнурит, а еще может привести к сумасшествию. Ночи без сна было трудно переносить еще и потому, что она не могла позволить себе зажечь свечу, чтобы почитать.
И еще один груз Беата несла в себе – глубокую тревогу, для которой никак не находилось подходящего названия ни на одном из трех языков, которыми владела. Беате Эшли, женщине строгих моральных правил, казалось, что она дрейфует в сторону какой-то опасности. В сторону апатии? К бездеятельности? Нет! К бесчувствию? Нет. Это принимало форму вспыхивавшего время от времени раздражения всем, что было противоположно ее представлениям: стремлением Софии выжить; желанием Констанс общаться со своими школьными подружками; уверенностью, что впереди у нее сияющая будущность, хоть и не высказываемой Лили вслух.
Всем известно, что каждая мать любят своих детей, но любовь эта похожа на погоду: она всегда вокруг нас, и мы быстро понимаем, когда начинает меняться. Если метеорологи могут сделать прогноз на предстоящую неделю, то проявления материнской любви в «Вязах» были почти незаметны и непредсказуемы. Констанс как-то сказала своей ближайшей подруге Энн Лансинг: «Мама любит нас больше всего, когда мы болеем. Я была самой любимой, когда сломала руку». Потерять ребенка было бы страшнее для Беаты Эшли, чем лишиться мужа, потому что переживания становятся еще сильнее, если сопровождаются самобичеванием. Лили была любимицей матери и принимала это как само собой разумеющееся. Любовь Беаты к мужу была такой глубины и такой природы, что не оставляла пространства для другого чувства. Кроме того, она привнесла в свое общение с дочерьми неуловимое и неопределенное, но собственное женское отношение – в чем, впрочем, не была уверена до конца. Как часто бывает, это она получила в наследство от своей матери. Клотильда Келлерман, урожденная фон Дилен, была невысокого мнения о мужчинах, не говоря уже о женщинах, зато обладала огромным самомнением. Беата сначала боялась ее, потом сопротивлялась, наконец смогла одержать победу, но так и не сумела освободиться от предвзятого отношения к представительницам своего пола. Ей не нравился образ мыслей женщин и темы для разговоров, не нравилась жизнь, которая была им уготована. К слову, муж ее придерживался прямо противоположного мнения. Ему было скучно говорить с мужчинами, если речь не шла о деле: так, общение, например, с мастерами в шахтах было выше всяческих похвал. (И это единственное, что вызывало раздражение Беаты.) Многие месяцы после столь драматичных перемен в жизни Беаты раздражало общество, в котором ей теперь приходилось существовать: сплошь девицы со своей непорочностью, – и она с горечью признавалась в том, что несправедлива и ненавидела себя за это. Это отношение не ускользнуло от девочек. Они чувствовали, – даже Лили! – что не подходят ей, не соответствуют ее требованиям и, возможно, не соответствуют требованиям самой жизни. И это создавало им трудности даже в общении между собой.
София попыталась успокоить сестер, предположив, что во всех семьях отношения такие: отцы больше любят дочерей. Прошло уже пять месяцев с того момента, как Джон Эшли в последний раз переступил порог своего дома, а София вела себя так, будто ничего не изменилось. Энергичная и предприимчивая, она и в самом деле была для матери постоянным источником раздражения. Поручение брата наполняло ее ощущением счастья. Это были месяцы, когда Беата Эшли, при всей своей внешней безмятежности, отвернувшись лицом к стене, тихо скользила к собственному концу, к благословенной смерти. Она теперь походила на пассажира утлой лодчонки, который с членами своей семьи оказался посреди океана. Голод и жажда вызвали у нее оцепенение, и ее возмущало, что спутники выкинули флаг, взывая о спасении, что постоянно откачивают воду из лодки, не давая ей затонуть, что то и дело разглядывают горизонт в надежде увидеть остров с пальмами.
А тем временем София не пожелала впасть в уныние и все свои помыслы направила в сторону долларов – таких привлекательных и редких, и так много обещавших. Во всем, что попадалось ей на глаза, она находила подтверждение своим действиям. В романах Диккенса, например, вычитала, что можно зарабатывать швеей или модисткой, но свою клиентуру в их городке составить было невозможно, о чем красноречиво говорили каменные взгляды коултаунских дам, обращенные к ней. Кроме того, в городе уже была портниха – их добрая знакомая мисс Дубкова. В Коултауне имелось два места, где подавали еду: таверна «Иллинойс» и забегаловка рядом со станцией, – и других не требовалось. Белье горожане стирали сами, а для коммивояжеров и холостяков имелась китайская прачечная. Наконец у нее возникла идея, от которой невозможно было отказаться. София оценила ее со всех сторон: препятствия казались непреодолимыми, – и тем не менее нашла сначала один позитивный фактор, потом другой, затем еще один. На южной окраине города, как раз напротив усадьбы Лансингов «Сент-Китс», стоял пустой и пришедший в упадок дом, который когда-то имел более презентабельный вид, а теперь двор его зарос сорняками. Со столба на веранде свисали два закопченных объявления: «Продается» и «Комнаты со столом». Задолго до этих дней дом уже использовался в качестве пансиона, где предоставлялось убежище тем, кто не имел постоянного места жительства, безработным шахтерам, больным и «бессознательным», инвалидам и старикам. София вспомнила, как они все вместе читали книгу «Ковчег миссис Уиттимур», в которой говорилось о том, как вдова, обремененная большой семьей, открыла пансион на берегу моря. Сестер книга немало позабавила: среди постояльцев пансиона были трогательные, выжившие из ума старички, а также привередливые, но с добрыми сердцами старушки. Был еще молодой красивый студент-медик, который влюбился в старшую дочь миссис Уиттимур. Как-то раз эта юная леди отправилась в мрачную лавку ростовщика, чтобы продать оправленный жемчугом медальон матери. София не могла понять, почему это преподносилось как самый последний, унизительный и отчаянный, способ раздобыть денег. Ей хотелось, чтобы лавки ростовщиков в Коултауне были на каждом углу. Роман заканчивался счастливо: богач предложил миссис Уиттимур место экономки в своем особняке. София опять отыскала на чердаке книжку и перечитала еще раз, внимательнее, и обнаружила много полезного. В частности, у хозяев пансионов могли возникнуть проблемы с постояльцами, которые собирались улизнуть среди ночи, не заплатив по счетам. Миссис Уиттимур решила эту проблему, натянув поперек лестниц бечевки и подвесив на них колокольчики. Если недобросовестный жилец, в ужасе от поднятого грохота, все-таки прорывался к выходу, то обнаруживал, что изобретательная миссис Уиттимур намазала дверные ручки мылом. А бывали такие постояльцы, от которых ей самой хотелось избавиться (мистер Хейзелдин, например, перекладывал на свою тарелку половину поданного на стол мяса, а миссис Ример все время капризничала). В таком случае она подговаривала детей и своих друзей бесцеремонно пялиться на несносных постояльцев – это называлось выкуриванием – и те очень быстро начинали подыскивать место жительства поспокойнее. На кухне миссис Уиттимур берегла спички и разводила огонь с помощью кремня; предлагала тушеного кролика вместо курятины; сама варила мыло из свиного жира с добавлением очищенной древесной золы. То, что она вновь открыла для себя эту книгу, показалось Софии знамением: она решила, что откроет в «Вязах» пансион, и не теряя времени, отправилась к мисс Томс. Всю свою жизнь мисс Томс, несмотря на все свои таланты и способности, существовала на грани нищеты, и с трудом содержала саму себя. К идее она отнеслась без особого энтузиазма, но пообещала два стула, немного посуды и этажерку. После этого София устроила тайную встречу с Порки. Тот долго думал, потом наконец сказал:
– Да, начинайте прямо сегодня. Надо в передней комнате по вечерам зажигать лампу. Когда дом стоит с темными окнами, это плохо выглядит со стороны. – (В тот же вечер он оставил бидон керосина у задней двери.) – У меня есть две циновки: мать плетет, – я их отдам вам, а еще стул. Сходите в таверну к мистеру Сорби и поделитесь с ним своими замыслами: не стоит в его лице наживать врага. И нельзя опускать цены ниже, чем у него. В таверне постоянно толпится народ, посетителям не всегда хватает места, и, я думаю, кого-то он сможет отправлять к вам. А еще у моего дядьки есть кровать, которой никто не пользуется.
Потом София навестила мистера Кенни – плотника, маляра и гробовщика.
– Мистер Кенни, полдоллара и дюжины яиц будет достаточно, если я попрошу вас сделать вывеску?
– Что на ней следует написать, юная леди?
София вытащила кусочек обоев, который заготовила заранее: «Пансион «Вязы». Комнаты внаем со столом».
– Понял. Когда вы хотите ее получить?
– Завтра вечером, если можно?
– Да, вполне возможно. – (Как интересно! Девочка – копия отца. Так значит, они решили брать жильцов на постой. Ну-ну! Выглядит как-то сомнительно.) – И можете не торопиться с оплатой – к Новому году меня вполне устроит.
– Благодарю вас, мистер Кенни, меня вполне устроит, – чинно произнесла София, как и положено леди обращаться к джентльмену.
По пути домой она встретила Порки, и тот быстро проговорил:
– Я узнал расценки. В таверне комнаты стоят от пятидесяти до семидесяти центов. Завтрак – пятнадцать центов, со стейком – двадцать пять, а ужин тридцать пять. Вот вам кнопки. Повесьте объявление на почте: там, где сообщают о пропавших собаках и потерянных кошельках, – туда постоянно заходят коммивояжеры. Специально укажите: «Еда домашняя». Школьным учителям, например, не нравится, как кормят в таверне. Я все время слышу эти разговоры.
– Спасибо, Порки.
– Софи, у вас все получится: только запаситесь терпением, – может, не сразу, а через какое-то время. Если у меня возникнут какие-нибудь идеи, непременно поделюсь. Вы ведь не рассчитываете на огромную прибыль прямо сразу?
– О, нет! Конечно, нет.
Именно благодаря действенной надежде Софии было спасено семейство Эшли – так охарактеризовали ее поступок брат и сестры.
Она очень долго лелеяла надежду в себе. Надежда (если она идет из глубины сердца, а не представляет собой случайный всплеск эмоций, вопли, которые мы издаем в экстремальной ситуации и которые ближе к отчаянию) – это состояние ума и умение быстро все схватывать. Отец Софии тоже был человеком веры, хотя и не подозревал об этом, и ее надежда и вера сформировались еще в детстве. В свои четырнадцать лет София уже несла ответственностью за близких, на ее плечах лежала забота о целой лечебнице. Она понимала толк в ветеринарии. В дополнение к выращиванию цыплят накладывала шины собакам на сломанные лапы; спасала кошек от издевательств мальчишек, которые долгими летними сумерками не знали, куда себя деть; подбирала птенцов, выпавших из гнезд, голеньких, без перьев, валявшихся по обочинам дорог; выкармливала лисят, барсучат и сусликов, а потом выпускала на волю. Ей было известно, что такое жестокость, что такое смерть, что такое уход от реальности и что такое начало новой жизни. Она понимала, что наряду с хорошей погодой существует ненастье, с удачей – поражение: она знавала его вкус.
Весьма сомнительно, что надежда – или любое проявление творческого начала – может существовать сама по себе, без побудительного импульса любви. Вот такой абсурдной и не имеющей оправдания является надежда. Софию взрастила любовь: матери, сестер, – но главным образом двух дальних изгнанников – отца и брата.
Перед судом разума надежда предстает настолько беззащитной, что ей постоянно приходится самоутверждаться, а для этого обращаться к героическим песням и историям; порой даже к суевериям. Она съеживается от льстивых утешений; она любит с трудом одержанные победы, но окружает себя церемониями и фетишами. Укладываясь спать, София клала рядом три зеленых наконечника от стрел. В узкой теснине, где располагался Коултаун, не бывало радуги, но два раза в жизни она видела ее во время пикника при дороге к старой каменоломне и поняла, что это значит. Над тайником, где были спрятаны деньги, она начертила едва заметную дугу и написала: «Дж. Б.Э. и Р.Б.Э». Надежде свойственна иррациональность, поэтому ее привлекают проявления сверхъестественного: София обрела силу от необъяснимого и таинственного освобождения отца, но у надежды, помимо взлетов, есть падения. В такие моменты девушка замыкалась в себе и, опустив голову, пережидала: так ведут себя животные в метель. Ее семья посещала церковь каждое воскресенье, но дома никто никаких религиозных обрядов не совершал и мольбу о чуде София сочла бы проявлением слабости. Ее молитва не простиралась дальше просьб послать удачу для следующего рабочего дня или просветить ее разум для новых идей.
На следующий вечер после визита к мистеру Кенни София с зажженной свечой в одной руке и превосходно выполненной вывеской: «Пансион «Вязы». Комнаты внаем со столом», – в другой, проскользнула в спальню Лили.
– Эй соня, проснись!
– Что такое? – встревожилась сестра.
– Посмотри!
– Что это? – Лили прочла надпись и воскликнула: – Ты сошла с ума!
– Ты должна помочь мне убедить маму, что это очень важно, даже необходимо. Она тебя послушает. Если мы этого не сделаем, то просто умрем с голоду. И еще: мы будем встречаться с людьми, и стариками и молодыми, – нельзя жить и ни с кем не общаться, – станет весело. Вы с мамой можете готовить еду, а мы с Констанс – убирать комнаты.
– Но, Софи, эти люди могут быть ужасными!
– Все не могут быть ужасными. Мы всюду развесим лампы, а ты будешь для гостей петь. Я знаю, где можно достать пианино.
Лили приподнялась на локте.
– Но что, если мама не захочет кого-то пустить в дом.
– Если ей кто-то не понравится, она всегда может сказать, что свободных комнат нет. Ты мне поможешь ее уговорить?
Лили опустила голову на подушку и обреченно выдохнула:
– Да.
На следующий день после ужина Лили вслух читала «Юлия Цезаря», Беата занималась шитьем, а Констанс и София на полу распускали старое вязаное детское одеяльце и сматывали пряжу в клубки. Лили дочитала сцену до конца и взглянула на Софию.
– Что, устали глаза, дорогая? – спросила Беата. – Давай я почитаю.
– Нет, мама, София хочет тебе кое-что сказать.
– Мама, – осторожно начала та, – у нас большой дом, для нас он велик. Как ты отнесешься к тому, что мы устроим здесь пансион?
– Ты о чем?
София поставила вывеску на колени. Беата некоторое время смотрела на нее в полнейшем недоумении, потом поднялась и с тревогой проговорила:
– Дорогая, мне кажется, у тебя что-то не так с головой. Не представляю, где ты могла набраться таких мыслей. А эту кошмарную вещь где взяла? Убери ее сейчас же! Ты еще слишком молода и не понимаешь, о чем говоришь. Я просто поражена!
Последнюю фразу она едва ли не выкрикнула. В «Вязах» никогда не повышали голос, и Констанс заплакала.
– Мамочка, дорогая, не торопись, подумай, – вступила в их диалог Лили.
– Подумать? О чем?
Оторвав глаза от пола, София твердо посмотрела на мать и заявила с тщательно отмеренной прямотой:
– Папа не стал бы возражать и наверняка поддержал бы нас.
Беата вздрогнула, словно ее ударили.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Люди, которые любят, все время думают о тех, кого любят. Папа думает о нас, поэтому, я уверена, надеется, что мы обязательно найдем выход.
– Девочки, оставьте нас с Софией.
– Нет, я хочу остаться! – возразила Лили. – Констанс, выйди на минутку в сад.
Девочка бросилась к матери и, уткнувшись ей в колени, захныкала:
– Я не хочу. Мамочка, не отсылай меня, пожалуйста!
Эффект от слов Софии был такой, что Беата все еще не могла прийти в себя и сказать хоть слово. Содрогаясь всем телом, она отошла к дальнему окну, почувствовав себя загнанной в угол, в то время как ее заставляли вернуться к жизни.
– Мамочка, папа не позволил бы нам сидеть в темноте и ходить в обносках. Он наверняка надеется, что у нас все в порядке, что мы счастливы. На носу зима. Да, мы запаслись овощами и фруктами, но нам нужно еще покупать муку и все остальное. И, кроме того, Констанс в ее возрасте необходимо есть мясо. Об этом пишут в тех книгах, что лежат наверху. Мамочка, было бы еще здорово избавить Роджера от необходимости присылать нам деньги: они наверняка нужны ему больше нашего. Ты же прекрасная хозяйка, так что буквально через минуту поймешь, как вести дела в пансионе.
Лили подошла к матери, поцеловала и поддержала сестру:
– Мама, я считаю, нам нужно попытаться.
– Но как вы обе не понимаете: никто к нам не пойдет!
– Мистер Сорби из «Иллинойса» всегда очень добр ко мне. Как-то раз, когда на улице шел дождь, он разрешил мне торговать лимонадом в вестибюле, а еще сказал, что я могу прийти снова, когда захочу. Иногда у него в таверне бывает так много народу, что мужчины, да и дамы тоже, вынуждены сидеть всю ночь в вестибюле. Обычно он отправлял таких к миссис Блейк, но та сломала ногу и сейчас больше не принимает постояльцев. Еще я от кого-то слышала, что школьные учителя недовольны кухней в таверне, так что поужинать они могут приходить сюда. Я думаю, они захотят и поселиться здесь, а не у миссис Бауман или миссис Хобенмахер.
Мать покачала головой.
– Но, София, у нас нет ни стульев, ни столов, ни кроватей! Да что там – столового и постельного белья тоже нет.
– Нам с Лили больше не нужны наши письменные столы, да и спать мы можем в одной кровати. Мисс Томс обещала дать два стула, еще один – Порки, а также кровать, стол и две циновки. Он к тому же может починить кровать, которую мы нашли на чердаке. У нас есть все для двух комнат: для начала неплохо.
– Давай попробуем! – присоединилась к сестре Лили.
Констанс тоже подскочила к матери:
– Значит, мы сможем наконец-то жить как другие?
– Ладно, – сдалась Беата. – Зажги свечу, пойдем посмотрим комнаты.
– Давайте лучше зажжем лампу: у меня есть немного керосина, – а то никто и близко не подойдет к дому, который производит впечатление замка Синей Бороды, – предложила София.
В полдень следующего дня, 15 сентября, Лили, забравшись на стул, прибивала вывеску к вязу возле ворот. Местные матроны, тут же возобновившие свои вечерние прогулки перед их домом, отнеслись к действиям как к дурачеству.
– Им надо было назвать это место «Насест тюремных пташек», – фыркнула одна.
– Нет, «Приют каторжников», – усмехнулась другая.
На следующий день доктор Джиллис, притормозил свой тарантас на главной улице, заметив Софию.
– Привет, Софи! У тебя вид как у мясницкого кота. Есть новости?
– Доброе утро, доктор Джиллис.
– Да-да, пожалуй.
– Что это за сплетни по поводу пансиона?
– Это не сплетни. Так что если кому-то из ваших пациентов захочется пожить в спокойной обстановке, направляте к нам? Мама чудесно готовит, а мы с сестрами обеспечим самый хороший уход…
Доктор Джиллис хлопнул себя по лбу и обрадованно воскликнул:
– Как раз то, что надо! Передай миссис Эшли, что я заеду сегодня в семь вечера поговорить насчет миссис Джилфойл. Она как раз выздоравливает, и с радостью остановилась бы в «Вязах» на пару недель. Ей нужен лишь куриный бульон, иногда немного вашего знаменитого яблочного пюре и время от времени яйцо всмятку.
София, распрощавшись с доктором, отправилась к мистеру Сорби в «Иллинойсе», чтобы поделиться своими планами.
– Если ваша таверна вдруг окажется переполненной, не могли бы вы направить тех, кому не хватит места, к нам, мистер Сорби?
Через три дня хозяин таверны прислал к ним объезжавшего свой округ проповедника брата Юргенсона, который почему-то решил спасать заблудшие души в баре и от этого становился совершенно несносным.
Как-то на улице София встретила новую школьную учительницу и, представившись, сказала:
– Мисс Флеминг, мы открыли в «Вязах» пансион: его даже отсюда видно – вон за теми деревьями. Мы подаем обед в двенадцать часов по цене тридцать пять центов, но если вы будете приходить каждый день, то один раз в неделю получите обед бесплатно. Моя мама чудесно готовит.
Дельфина Флеминг появилась уже на следующий день к обеду и попросила показать ей комнату (где и осталась на два года). Эта новость вызвала неудовольствие в школьном совете, но мисс Флеминг приехала с востока – а именно из Индианы, – поэтому все решили, что она не обладает острой интуицией в вопросах морали. Кое-кто из уже бывавших в городе коммивояжеров открыл для себя это место самостоятельно. Тушеные цыплята с клецками и ростбиф никого не оставляли равнодушными, а про таланты Лили и вовсе ходили легенды: «Джо, честно тебе скажу, никогда не слышал ничего подобного: «После странствий нет места прекрасней!» А ведь она дочь убийцы, подумать только!»
Привели в порядок еще две комнаты. София уговорила мать начать выпекать обожаемое всеми немецкое имбирное печенье, которое потом продавала в вестибюле таверны. Следуя примеру миссис Уиттимур, она откладывала деньги впрок и старалась заработать где только можно. В дни забоя скота она взяла маленькую тележку и отправилась за три мили на ферму к Беллам (Роджер во время летних каникул ходил сюда обрабатывать землю, косить траву, и его поили молоком). Из свиного жира, который привезла оттуда, потом наварили мыла, и миссис Эшли облагородила его отдушкой из лаванды. Она сама готовила закваску. Кухонную плиту зажигали, высекая искру от удара кремния о сталь.
Экономить на мелочах – занятие совсем не скучное, и София без зазрения совести торговалась в лавках. Жалость и снисходительность их скоро сменилась уважением и даже восхищением. Мужчины сердечно здоровались, а потом и некоторые дамы начали отвечать на ее приветствия коротким кивками. Бывшие одноклассницы шептались и хихикали ей вслед. Мальчишки глумились: «Старые ковры, пустые бутылки, дырявые мешки! Все купит наша Софи».
Но при этом в городе начались некие странности.
Примерно неделю спустя, после того как стало известно, что в «Вязах» сдают комнаты с питанием, Юстейсия Лансинг, одетая в глубокий траур, который очень шел ей, посетила Порки в его будке. Для визита она выбрала два часа пополудни, когда улицы Коултауна практически вымирали, чтобы сдать в ремонт туфли Фелисите. Уже возле двери, прежде чем уйти, дама вдруг спросила:
– Порки, вы ведь видитесь с семейством Эшли, ведь так?
– Иногда.
– Это правда, что они открыли пансион?
– Люди говорят – да.
– Мне кажется, что вы умеете хранить секреты. Не могли бы вы сделать кое-что для меня и сохранить это в тайне?
Порки не выразил ни малейшего интереса, а Юстейсия продолжила:
– Не привлекая внимания, нужно забрать из моего дома большой пакет и отнести его к задней двери дома Эшли. Там по дюжине простыней, наволочек и полотенец. Сможете ли вы найти время для этой услуги, Порки?
– Да, мэм.
– Вы сможете забрать его, как только стемнеет: он будет лежать у ворот.
– Да, мэм.
– Спасибо, Порки. Вот эту карточку: «От доброжелателя», – просто положите на пакет.
В другой раз мисс Дубкова, портниха, обшивавшая весь город, принесла туфли, требовавшие ремонта, и тоже, будто невзначай, поинтересовалась:
– Порки, вы ведь знаете семью Эшли, не так ли?
– Да, мэм.
– У меня есть два стула, которыми я не пользуюсь. Не могли бы вы забрать их сегодня вечером и перенести к задней двери Эшли?
– Да, мэм.
– Но только чтобы никто не знал, кроме нас с вами.
В эти первые недели у черного хода на заднем дворе были найдены кресло-качалка, три одеяла – не новые, но чистые и аккуратно заштопанные, – большая картонная коробка с разного размера ложками, ножами и вилками, а также чашки с блюдцами и супница, – все, возможно, от прихожанок методистской церкви.
Молодые мужчины редко обращались с просьбой остановиться в «Вязах»: не могли себе этого позволить, – и ночевали в большой, продуваемой сквозняками общей спальне на верхнем этаже таверны по двадцать пять центов за ночь. А тех, которые обращались, миссис Эшли отсылала прочь: в доме жили три девочки, и город был рад позлословить, – но одним январским вечером отступила от своих правил и впустила в дом мужчину лет тридцати, у которого при себе был саквояж и небольшой чемодан с образцами товаров. В девять тридцать Беата Эшли загасила печь, закрыла переднюю и заднюю двери и погасила лампы, а ближе к двум ночи проснулась от запаха дыма. Быстро разбудив дочерей и обитательниц пансиона, она спустилась вниз и поняла, что дымом тянет с кухни. Учительница, опередив всех, ворвалась в кухню и, закашлявшись, распахнула заднюю дверь. Дым со странным запахом валил из плиты, в которой лежала кучка тлеющей бумаги розового цвета. Огонь быстро потушили, и пока помещение проветривалось, женщины сварили себе по чашке какао. После того как все вернулись в свои комнаты, миссис Эшли поняла, что ее спальню обыскали. Содержимое ящиков секретера лежало на полу; в шифоньере вспороли подкладку ее пальто; ножом прошлись по матрацу, подушку располосовали на куски, картины вырвали из рам.
Полковник Стоц из Спрингфилда ненавидел всех Эшли, будучи совершенно уверенным в том, что где-то в комнате хозяйки дома хранится информация о том, как и кто освободил ее мужа. Это могут быть какие-нибудь письма, записки, фотографии…
После женитьбы Джон Эшли всего четыре раза разлучался со своей женой больше чем на двадцать четыре часа, а письма, которые хранились у нее, были те самые, что он ежедневно писал ей из тюрьмы. Теперь эти письма исчезли. Пропала и единственная фотография мужа, имевшаяся у нее: нечеткий голубоватый снимок, на котором смеющийся Джон высоко поднимает на руках их двухлетнего сына.
Утром дочери вопросительно поглядывали на мать, но на ее лице, как обычно, не было никаких следов растерянности или страха: казалось, неприятности только делали ее сильнее.
Шли месяц за месяцем, и Беата Эшли постепенно стала пробуждаться от своего оцепенения, чего требовала каждодневная работа. Владельцы пансионов не имеют ни дня для отдыха. Для Констанс это было чем-то вроде возбуждающей игры. Она никогда не уставала, даже вечерами по понедельникам, после целого дня стирки. Лили, судя по всему, вернулась из далекой страны, куда ее увели мечты. Дни проходили за готовкой, уборкой, сменой постельного белья и мытьем посуды. София была единственным членом семьи, кто выходил за ворота усадьбы. Констанс не терпелось составить компанию старшей сестре для походов по городу, однако та понимала, что девочка пока не готова встретиться с враждебностью школьных подруг. Денежные переводы матери от Роджера увеличились до десяти, а потом и двенадцати долларов в месяц. Он сообщал, что у него все в порядке, но так и не прислал адреса, на который ему можно было бы ответить. София занималась покупками, получала деньги от постояльцев, приобретала мебель, готовила к открытию новые комнаты и фонтанировала идеями, а еще писала брату длинные письма.
Это был день особой гордости, когда она сообщила ему, что заплатила налоги. Горожане наблюдали за ее активной деятельностью с завистливым обожанием и даже называли ее острым ножом для снятия скальпов. Аукционы в Коултауне устраивали редко, но между своими очень быстро становилось известно, что такая-то семья устраивает распродажу вещей – либо из-за того, что уезжала из города, либо за смертью хозяев. И тут появлялась София. Когда огонь вкупе с чрезмерным энтузиазмом добровольной пожарной команды разваливал дом или чердак, тут тоже объявлялась София и быстро скупала постельное белье, оконные занавески, старые скатерти, матрацы и даже ночные горшки. Баптистская церковь, в конце концов, прекратила свое существование, и София купила в рассрочку пианино, которое стояло у них в воскресной школе, с выплатой по три доллара в течение пяти месяцев. Прошло еще немного времени, она приобрела вторую корову, и, потерпев неудачу с индейками, начала разводить уток. К маю 1904 года отремонтировали восьмую комнату. В теплую погоду постояльцы даже выходили посидеть в беседке. Удалось уговорить миссис Свенсон вернуться на работу в качестве прислуги. После происшествия в спальне миссис Эшли у Лили возникла идея – вернее, все решили, что это была ее идея, – предложить Порки поселиться в «Вязах», в маленькой комнатке за кухней. За питание и кров он выполнял тяжелую работу по дому и помогал семье улаживать проблемы, которые всегда возникают в гостиницах и пансионах: то сердечный приступ у кого-то случится, то припадок. Бывало, что и лунатики бродили, и выпивкой злоупотребляли, и воровали. Миссис Эшли начала понимать психологию коммерсантов: то, что называют потерей корней, а также их вынужденное хвастовство, тяжесть бремени забот, которые они тащат на себе каждый день, сражаясь за ослепительный успех («Миссис Эшли, у меня сегодня столько заказов, не представляю, как их исполнить»), или стремление напиться, чтобы заснуть, или их ночные кошмары, в которых человеческое бытие предстает пустотой или насмешкой. Теперь она могла предчувствовать тот темный час, когда лезвие бритвы дрожит в руке. В первые месяцы существования их предприятия мать и дочери придерживались прежнего обычая: после того как перемоют тарелки, все поднимались в ее комнату и читали вслух, – но Беате вскоре стало понятно, что нельзя предоставлять жильцов самим себе в такой час. До нее вдруг дошло, что в пансионе обитают живые существа, беспокойные, раздраженные и даже неистовые, и после захода солнца в них начинает накапливаться некая напряженность, поэтому вечерами она с дочерьми стала оставаться в большой гостиной и аккомпанировала Лили. Один за другим жильцы спускались вниз, с удовольствием слушали пение Лили, многие оставались на чтения вслух. В жаркие месяцы этот час коллективного общения переносили в беседку; а когда глаза чтеца уставали, вся группа могла сидеть в молчании, завороженная отражением луны или звезд в пруду под приглушенные жалобы уток Софии, неторопливо скользивших по воде.
Беата Эшли замечательно справлялась с обязанностями хозяйки пансиона, хотя жесткая дисциплина и введенные ею стандарты поведения порой переходили границы реальности. От постояльцев требовалась пунктуальность, мужчины должны были к столу появлятьсь в пиджаках и при галстуках, строго соблюдалась благопристойность в выражениях, трапеза начиналась с чтения молитвы, запрещалось грубить дамам или высказывать недовольство прислуживавшим за столом. Если кого-то из коммерсантов во второй раз в «Вязах» не принимали, и потом они похвалялись в таверне, что им удалось избежать удавки на шее, их никто не поддерживал. О пансионе начали ходить легенды: там подают прекрасно зажаренных цыплят и лучший в Иллинойсе кофе; там простыни пахнут лавандой; там по утрам не будят постояльцев резким стуком в дверь, а ангельскии голоском зовут по имени. Во время суда и в течение нескольких месяцев после исчезновения Эшли девочки видели, что матери не до чтения вслух, даже в те моменты, когда до нее доходила очередь, однако начиная с лета 1903 года все изменилось. По четвергам они читали «Дон Кихота» по-французски. Беата Эшли не видела в романе ничего смешного, только правду, в описании приключений рыцаря, которому предстояло изменить мир, полный горькой несправедливости. Иголка застывала над шитьем, когда Беата слушала любовные признания рыцаря крестьянской девушке, которую он объявил прекраснейшей из дам. И пусть страшно уставала от работы по дому, чтение так ее успокаивало, что теперь она могла спать.
Вложенные труды стали приносить прибыль, пусть и не бог весть какую, но Эшли все же сумели приподнять голову.
Постояльцы приходили и уходили, но в «Вязах» их мало кто навещал. Время от времени заезжал доктор Джиллис, но исключительно по делу, обменивался с ними парой фраз, но никогда не задерживался. Иногда под вечер в воскресенье появлялась миссис Джиллис или Вильгельмина Томс, однако была и постоянная гостья: мисс Ольга Дубкова, городская портниха, – которая приходила каждую вторую среду вечером. Ее визиты не доставляли особого удовольствия миссис Эшли, но девочки всегда были ей искренне рады. Мисс Дубкова всегда приносила множество новостей о происходящем не только в городе, но и в мире.
Сложные жизненные обстоятельства забросили Ольгу Дубкову – русскую княжну, как утверждали некоторые, – в Коултаун. Ее отцу, которого власти преследовали за революционную деятельность, пришлось бежать в Константинополь вместе с больной женой и двумя дочерьми. Присоединившись к соотечественникам, мистер Дубков со всем семейством сначала поселился в одном из шахтерских городков на западе Канады, но слабое здоровье жены не выдерживало тамошнего сурового климата и ему пришлось переехать в Коултаун. В двадцать один год Ольге Дубковой пришлось самой зарабатывать на жизнь, и здесь ей очень пригодилось умение держать в руках иголку с ниткой. Большинство коултаунских дам шили сами! И для себя и для детей. Свадьбы всегда были важным событием в жизни Коултауна, а мисс Дубкова придала им еще большее значение и стала непререкаемым авторитетом в том, что касалось наряда невесты и приданого; ее советы по проведению церемонии ценились так же высоко, как и искусство портнихи. Очень немногие мамаши невест решались отвергнуть ее помощь и выбрать наряды по своему усмотрению. Свадьбы в Коултауне превратились в грандиозные спектакли, но основным источником ее доходов, к счастью, была все же работа в таверне «Иллинойс», где она шила белье. Мисс Дубкова была иностранкой, поэтому город снисходительно относился к ее чудачествам. Так, она курила длинные желтые сигареты. В углу ее гостиной висело несколько икон, перед которыми горела лампадка, и она крестилась на них, когда входила в комнату и прежде, чем выйти. Мисс Дубкова отличалась предельной откровенностью в выражениях, так что ее «перлы» полушепотом передавались из уст в уста. Это была высокая худая дама, прямая как палка. Кожа туго обтягивала скулы на ее землистом лице, а длинные узкие глаза, похожие на кошачьи, пугали детей. Рыжеватые волосы она собирала в пучок на затылке, украсив его маленькими бантиками из черного бархата. Одета мисс Дубкова всегда была очень элегантно: в шуршащие шелка, которые ее обтягивали как вторая кожа. Зимой она носила высокую меховую папаху, узкий в талии драгунский редингот, украшенный аксельбантами и эполетами, но при всем этом была бедна, о чем знал весь город. Поговаривали, что ее рацион состоит из овсянки, капусты, яблок и чая да отбивной по воскресеньям. Ее расточительность не знала границ, если это касалось единственного торжественного чаепития, которое она устраивала по случаю русской Пасхи. Это событие внушало трепет своей необычностью: великолепный кекс-кулич, традиционные приветствия «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», церемонные поцелуи, раскрашенные яйца, зажженные лампады у икон. Все знали, что она копит деньги для возвращения в Россию, но копить, когда копить не из чего, то же самое, что бежать наперегонки со временем. Ольга Сергеевна не собиралась возвращаться в Россию нищей, да и была она вовсе не княгиней, а графиней, и фамилию имела другую.
Мисс Дубкова никогда не была слишком близко знакома с семейством Эшли: в ее подругах числилась миссис Лансинг. Сама Юстейсия и ее старшая дочь Фелисите шили намного лучше мисс Дубковой, однако все равно советовались с ней, делали ей заказы и получали удовольствие от общения. Втроем они создали множество модных и изысканных туалетов. Ольга Дубкова обожала Юстейсию и считала ее образцом стиля и элегантности («Девушки, – не раз говорила она невестам во время примерок подвенечных платьев, – самое важное в женщине – шарм. Учитесь у миссис Лансинг!»), – но совершенно не выносила Брекенриджа Лансинга и не делала из этого секрета. Однажды и вовсе устроила ему выволочку в его собственном доме из-за презрительного замечания, которое тот позволил себе в адрес Джорджа: прочла лекцию о воспитании мальчиков, надела шляпу и плащ, поклонилась Юстейсии и Фелисите и покинула «Сент-Китс» – как ей казалось, навсегда. И пусть ее знакомство с Эшли не было близким, весь Коултаун считал, что она от них без ума: «У их детей самые лучшие манеры в городе»; «В «Вязах» хозяйство поставлено на самом высоком уровне». Миссис Эшли до тех пор относилась к ее визитам по средам подозрительно, пока до нее не дошло, что они не вызваны любопытством или жалостью. Причина этих посещений заключалась в воспитании мисс Дубковой. Будучи аристократкой, она не вмешивалась в дела посторонних, но когда пришло несчастье, сочла своим долгом их поддержать. Во время судебного процесса, несмотря на то что зал всегда был переполнен, рядом с миссис Эшли и ее сыном несколько мест пустовало – возможно, из уважения, а возможно, из-за того, что преступление и несчастье воспринимаются как зараза. Эти места по очереди занимали то мисс Дубкова, то мисс Томс, то миссис Джиллис (после короткого кивка в сторону миссис Эшли, как это бывает на похоронах).
У мисс Дубковой имелась еще одна причина для вечерних посещений «Вязов». Как и София, она жила в постоянной надежде. Мы уже говорили, что надежда питается расчетом на чудо. Таким чудом, по ее мнению, было освобождение Эшли. Для мисс Дубковой оно стало повторением самого важного события и в ее жизни и подтверждало необходимость не оставлять надежд на будущее. Ее отец в России тоже был приговорен к смертной казни, но сумел ускользнуть из лап полиции. Оказавшись в Коултауне, она думала, что только чудо поможет выбраться из этих мест, вернуться на Родину, увидеть своих родственников и до конца дней служить соотечественникам. Перед ней не стояла цель вернуться для того, чтобы похвастаться своими достижениями: ей лишь не хотелось испытывать снисхождения, жалости и покровительственного к себе отношения. Она уже скопила денег на железнодорожный билет до Чикаго (на это ушло три года – самых первых и трудных, проведенных здесь), на билет до порта Галифакс в Новой Шотландии (еще семь лет) и на пароход до Санкт-Петербурга (двенадцать лет). Теперь предстояло накопить на жизнь в России, пока она не получит там место учительницы или гувернантки. Ей уже исполнилось пятьдесят два – вполне достаточно, чтобы научиться поддерживать в себе надежду. В любой момент болезнь и смерть могли помешать замыслам; пожар или воры – лишить сбережений; кризис в масштабах всей страны их обнулить. Надежда, как и вера, превращается в ничто, если не хватает храбрости, пусть даже нелепой, чтобы защищать ее. Крах надежды ведет не к отчаянию, а к полной капитуляции, но даже в капитуляции те, кто был когда-то в объятиях надежды, сохраняют в себе эти прежние силы.
Задолго до чрезвычайного происшествия на железнодорожном полустанке недалеко от Форт-Барри Ольга Сергеевна не сомневалась, что в атмосфере «Вязов» ощущается нечто особенное. Она была не единственной женщиной в городе слегка влюбленной в Джона Эшли, несмотря на то что внешне он ничем не выделялся. Ее иногда приглашали в «Вязы» на ужины; в течение почти семнадцати лет они обменивались приветствиями и общими фразами при встречах на улице. Странные события, которые обрушились на него весной и в начале лета 1902 года, лишь подтвердили ее интуицию: он был избранным, отмеченным судьбой. Теперь, когда приходила в этот дом, она чувствовала, что ее силы восстанавливаются. Во время каждого своего визита сюда мисс Дубкова просила Лили спеть. Девочка практиковалась в пении, подражая австралийской оперной звезде мадам Нелли Мелба, чей голос раздавался из похожего на колокольчик рупора практически развалившегося граммофона. Результат был поразительный. У мисс Дубковой возникло предчувствие, что в один прекрасный день Лили станет великой певицей и весь мир окажется у ее ног, она заказала для нее в Чикаго знаменитую книгу мадам Альбанезе «Метод бельканто», потратив часть своих медленно растущих сбережений. Она показывала девочке, как оперная дива мадам Карвальо выходила на авансцену, чтобы поклониться аплодирующей публике, и как еще одна дива, Пикколомини, во время концерта стояла в молчании, чтобы в зрительном зале установилась тишина. Мисс Дубкова познакомила девочек, чей французский был слишком книжным, с более неформальными выражениями, свойственными светскому разговору. Она восхищалась Беатой Эшли, но не любила ее, и в этом не было ничего необычного: мисс Дубкова вообще не любила женщин. Она совершенно не понимала, почему миссис Эшли отказывалась выходить в город. Так, сама бы мисс на ее месте шествовала по главной улице с гордо поднятой головой и бросала уничтожающие взгляды на тех, кто не пожелает с ней здороваться. София ее не интересовала. Она, конечно, понимала, сколько сделала девочка для того, чтобы поддержать семью, но не предлагала ей ни помощи, ни совета. Мисс Дубкова сама прошла через множество испытаний, поэтому не считала нужным обсуждать такие темы. Сталь существует для того, чтобы выдерживать нагрузку. Хотя правда заключалась в том, что ее интересовали только мужчины, пусть даже большинство из них были существами презренными. С тех пор как умер отец, а жених самым постыдным образом исчез, в ее жизни не было мужчин, но жила она только для того, чтобы производить на них впечатление своими острыми суждениями об их природе, а еще своим здравым смыслом и своим элегантным видом. Женщины вызывали в ней скуку.
Бельевая в таверне «Иллинойс» располагалась в полуподвале. Помещение было узким, душным, с низким потолком. Свет едва проникал сквозь зарешеченное окошко у самого потолка, которое мыли редко. Несколько раз в неделю по утрам мисс Дубкова спускалась сюда с двумя керосиновыми лампами и подвешивала их на крюки, торчавшие из потолка. Вдоль стен по всей комнате тянули полки, на которых лежали стопки белья, прикрытые холстиной от пыли. Свет от ламп падал на длинный стол, который она тщательно вытирала при каждом визите сюда. Однажды утром, в июне 1903 года, она, как обычно, пришла на работу, и тут раздался стук в дверь. Чтобы в комнату не надуло черной пыли из ларя с углем, стоявшего в коридоре, она чуть приоткрыла ее и в щелку спросила:
– Что вам угодно?
– Мисс Дубкова?
– Да. А вы кто?
– Если вы сейчас заняты, могу я войти и подождать, пока вы сможете уделить мне минутку?
– Я занята всегда. Что вам нужно-то?
– Меня зовут Фрэнк Радж. Я хотел бы поговорить с вами конфиденциально.
– Надо же – конфиденциально! Заходите. Садитесь вон там, подождите, пока я не закончу.
Мужчина оказался симпатичным, лет тридцати пяти и явно знал себе цену. Ему же через минуту стало ясно, что мадам неравнодушна к симпатичным молодым людям, и это качество может принимать форму язвительности или даже откровенной грубости. И мисс Дубкова его не разочаровала. На полу стопками лежало свежевыстиранное и выглаженное белье, и она приказала переложить его на стол, а сама продолжила копошиться в дальнем конце помещения. Наконец, закончив, она прикурила сигарету и обратилась к нему:
– Так что вы хотите?
– Для начала – предложить очень несложную работу за тридцать долларов в месяц.
– И?..
– И подсказать, как можно заработать еще несколько тысяч.
– Даже так?
– Я хочу поговорить с вами о Джоне Эшли.
– Но мне не известно о Джоне Эшли ни-че-го.