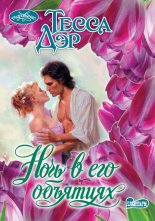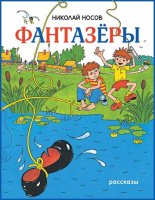Часы, идущие назад Степанова Татьяна
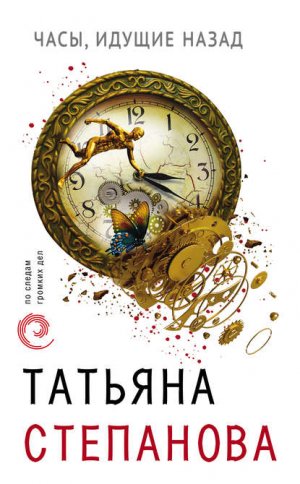
© Степанова Т. Ю., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
* * *
Глава 1
Стрелки и циферблат. Логово
Тихо и сыро. Предрассветная мгла. Жемчужный свет летних сумерек. Диск луны – над речкой. Над башней.
Луна выглядит плохо. Луна похожа на лик после долгой изнурительной болезни или безумия, прижатый к толстому оконному стеклус той, другой стороны.
Луна пялится сверху и не отражается в реке. Мглистая дымка июня одеялом укутывает чахлую речку и берега, заросшие кустарником и осокой.
Острый шпиль башни черен на фоне больной безумной луны. Тусклые блики лунного света – словно потеки светящейся краски на белом круге циферблата башенных часов.
Черные стрелки часов похожи на ножницы.
Сколько времени до рассвета?
Нисколько.
Часы на башне не знают. Они молчат так давно, что разучились считать минуты и мгновения.
Громада высокой квадратной башни, увенчанной шпилем, заслоняет небо. На фоне приземистых кирпичных фабричных корпусов башня с часами смотрится органично и монолитно.
Но с берега реки, на фоне вяло текущей воды, башня с часами выглядит как чужеродный предмет. Как древний замок – заброшенный с начала времен, где хозяйничают лишь ночные тени, старые грехи, кровавые грезы, могильная тишина и неисполненные желания.
Тысячи тысяч теней, детей ночи, иллюзий, кошмаров, обещаний, надежд.
Тысячи тысяч всхлипов, криков… Содранные до крови о железную решетку пальцы… Остатки яда в кофейной чашке саксонского фарфора, следы рвоты… Кровь на белом пикейном покрывале девичьей постели… Кровь на персидском ковре, ошметки плоти, вырванной из трепещущего тела…
Никакой ремонт, никакая перепланировка помещений, никакие новые пластиковые окна не могут изгнать то, что помнят кирпичные стены башни.
То, что не знают точно, но о чем догадываются мертвые стрелки.
У мертвецов – сложности с теорией относительности.
Категориивремени – в избытке. А вот категория пространства ограничена могилой на городском кладбище, такой старой, что и сам след ее потерян.
В городе поговаривают, что в лунные летние ночи… такие как эта… и в зимние вьюжные ночи, и в осенние безлунные ночи, насквозь пропитанные северным ветром, башня с часами становится убежищем…логовом для мертвецов.
Слышите?
Разве вы не слышали? Вот сейчас…
Что это было?
Кваканье лягушек в реке? Многоголосый хор озерных лягушек, мечущих икру в юной изумрудной ряске?
Прислушайтесь…
Это голоса не реки.
Это на башне – там, наверху, под часами, где часовой механизм.
Хрип…
Кто-то глухо хрипит, словно не может вздохнуть.
Лунный свет косо льется в пластиковое окно.
В лунном свете на фоне кирпичной стены пляшет тень.
Дикая пляска – пятно на стене дергается, мечется, дрожит.
Потом судорожная пляска постепенно сходит на нет.
На каменном полу валяются окровавленные предметы. Их впоследствии будет пристально, весьма дотошно изучать местная полиция.
А если взглянуть вверх, на высокий потолок, можно увидеть чрево башенных часов – старый часовой механизм. Зубчатые колеса, валики, медные трубы…
На медной трубе в петле висит тело.
Пляска смерти окончилась. Лишь ноги висельника как-то странно дрожат. Внезапно по телу проходит сильная судорога, и оно выгибается так, что позвоночник чуть не переламывается пополам. Голые ноги сгибаются в коленях. Подол платья обнажает ляжки. Ноги по-паучьи вздергиваются, сучат в последней агонии.
А тело в петле начинает раскачиваться, вращаться, вращаться, вращаться, вращаться.
Мертвец всем своим весом в петле давит на металлический поршень, как будто пытается привести его в действие и завести механизм башенных часов.
Но зубчатые колеса, шестеренки, поршни и валики не подчиняются мертвому телу.
Механизм не включается. Часы на башне не возобновляют свой ход.
Мертвец в петле все еще раскачивается, как маятник.
А луна медленно тает, растворяясь в утренних сумерках.
По пустынной улице мимо фабричных корпусов проезжает оранжевая машина городских коммунальных служб. Ее черные щетки тихонько щекочут разбитый асфальт проезжей части.
Кроме урчания мотора в предрассветной мгле – больше никаких звуков. Лягушки в реке молчат. Их что-то сильно напугало.
Глава 2
Дом у реки
– Молодой. Жить бы да жить парню.
Это сказал полковник полиции Федор Матвеевич Гущин, стоя над трупом. Катя – Екатерина Петровская, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, не произнесла ни слова. Она вообще решила пока помалкивать, потому что происходящее ей совершенно не нравилось.
А дом, где нашли тело, вообще пугал. Что было странно, ведь с виду это была обычная заброшенная провинциальная развалюха – старинный кирпичный особняк с мезонином и тремя пузатыми ампирными колоннами на входе.
– Голову размозжили в лепешку. Это с какой силой надо было бить. – Полковник Гущин, кряхтя, наклонился.
– Не один удар – минимум два. Били, добивали. – Патологоанатом из межрайонного бюро экспертиз – женщина средних лет, незнакомая Кате, – работала в паре с местным экспертом-криминалистом.
– Крови много. – Полковник Гущин хмуро заглядывал в лицо трупа.
Черная лужа крови растеклась из-под тела по полу, представлявшему собой свалку из щебенки, битого кирпича, мусора и темных деревянных плашек – остатков наборного дубового паркета. В луже крови валялись два увесистых кирпича и какой-то металлический предмет.
Катя разглядывала железку с содроганием. Что-то вроде «кочерги» – часть арматуры с прилипшими к ней темными волосами и мелкими осколками черепной кости.
Эксперт-криминалист начал делать снимки, патологоанатом сама брала образцы с ран на голове. Помощь ей оказывал местный сотрудник розыска. Они молча возились над телом, как стая падальщиков в саванне.
Полковник Гущин повернулся к трупу спиной и медленно пересек помещение, взгляд его скользил по облупленным стенам. Под подошвами новых щегольских ботинок Гущина хрустел щебень. Катя двинулась за ним. Сразу же нога ее попала в выбоину в полу и почти по щиколотку утонула в сгнившем мусоре. Катя вздрогнула от отвращения. Вязкое вонючее месиво пружинило и одновременно засасывало – кажется, еще миг – и провалишься куда-то вниз, в темный подвал.
– Что это за развалины? – спросил Гущин, вроде бы ни к кому не обращаясь.
Ответил ему один из местных полицейских, стоявший у двери и хмуро изучавший «вид с трупом» издалека:
– Дом у реки.
– Чей дом? – уточнил Гущин.
– Сейчас ничей. Памятник городской архитектуры.
– Это памятник?! – Полковник Гущин обозрел стены и потолок.
Катя тоже огляделась. В потолке зияли дыры. Выщербленные стены были исписаны граффити, исчерканы углем, заляпаны чем-то подозрительно похожим на окаменелые экскременты. Дом представлял собой анфиладу комнат. В большинстве из них двери были сорваны с петель и отсутствовали. И лишь в этой, центральной комнате дома, где лежало тело, дверь все еще сохранилась. Местный полицейский постучал по ней костяшками пальцев – тук, тук.
– Памятник истории города Горьевска, Дом у реки, – повторил он. – Сломать нельзя, он в списках Архнадзора. Перестроить и надстроить тоже нельзя. Инфраструктуры никакой давно не осталось – ни водопровода, ни канализации. На отшибе расположен. Трижды на аукцион выставляли для продажи и реставрации. Никто не хочет вкладываться. Он всегда стоял заколоченным и пустым. Я еще пацаном здесь по улицам гайкал, и Дом у реки уже тогда пустовал.
Катя глянула на говорившего – почти ровесник Гущина, за пятьдесят. В штатском, не в форме. Брюхо пивное переваливается через ремень, и амбре за километр.
Выходной сегодня, суббота. Понятно, что выдернули толстяка на убийство прямо из дома, может, даже из-за обеденного стола. Но ощущать пивной дух в месте, где лежит окоченевший труп с размозженной в лепешку башкой, – это чересчур. От этого не просто коробит, это вызывает ярость.
Данная деталь была лишь одной в череде весьма странных обстоятельств, открывшихся Кате в городе Горьевске почти сразу, едва машина полковника Гущина остановилась у Дома у реки.
И не собиралась Катя ни на какое убийство! Да, в эту субботу пришлось поработать, но ехала Катя не в Горьевск, а в тихие Озеры, где в уютном лесном отеле собралась на подведение итогов Ассоциация частных детективов Подмосковья. Катю как своего криминального обозревателя пресс-центр ГУВД отрядил освещать это событие – среди членов ассоциации было немало недавних полицейских из области. И связи всегда сохранялись. Полковник Гущин ехал на совещание как лицо официальное, представитель Главка. И Катя тут же, естественно, прилипла к нему, как рыба-прилипала к киту – не пилить же в такую даль, в Озеры, на своей машине, если можно с комфортом расположиться на заднем сиденье служебного внедорожника шефа криминальной полиции Подмосковья.
Ну, в общем, все как обычно. В лучших традициях совместной плодотворной работы, когда она как криминальный репортер путалась под ногами хмурого, хрипатого, лысого, часто нелюбезного полковника Гущина.
На слет детективов полковник Гущин нарядился, как на свадьбу. Надел свой лучший черный костюм, яркий галстук, до блеска начищенные дорогие ботинки. Кроме парадного прикида, он вез с собой также теплую куртку и туго набитую спортивную сумку. Посиделки ассоциации планировалось продолжать все выходные: в субботу – доклад и перевыборы руководства, а в воскресение – отдых на природе, рыбалка, банкет.
Катя подозревала, что Гущин, кроме официальной части и рыбалки, хочет навести в ассоциации личные мосты. Какая рыбалка в конце октября?! В Главке давно говорили, что Гущин вот уже который год собирается на пенсию. Возможно, он хотел понаблюдать жизнь частных детективов в неформальной обстановке, встретиться с «зубрами», потолковать о перспективах организации своего собственного частного агентства после отставки.
Но все эти планы канули в небытие.
Гущин сидел за столом президиума в конференц-холле отеля, когда у него в кармане пиджака завибрировал мобильный. Он тогда не ответил. Но сигнал повторился снова, и он, извинившись, достал телефон. Глянул на дисплей. И сразу же встал и направился к выходу.
По его лицу Катя, отчаянно скучавшая на этом токовище, поняла: что-то случилось.
И моментально тоже выскользнула из зала.
Гущин в холле отеля у кого-то уточнял по телефону:
– Точно убийство?
Потом лицо его перекосилось так, словно он хлебнул чего-то кислого и отвратного.
– Ну, это же Горьевск, – молвил он загробно. – Ладно, ждите, я тут неподалеку. Выезжаю лично.
Катя покрепче ухватила свою сумку и помчалась на стоянку отеля, к гущинскому джипу. Встретила полковника уже там, молча, преданно пялясь в глаза.
– И я, я, я с вами тоже, Федор Матвеевич!
– А твоя статья про этих хмырей как же? – спросил Гущин, кивая на отель, где продолжался глухариный ток частных детективов Подмосковья.
– А, там все уже ясно. Я сочиню некролог.
– Ловкачка.
– Я хочу с вами, Федор Матвеевич! Это намного интереснее. Там убийство, да? А кого убили? В Горьевске, да? А где это? И потом, мы же вернемся сюда, в Озеры, вечером. И завтра здесь целый день.
Гущин ничего не ответил. Кате показалось – в тот момент он ее даже не услышал.
Вот так Катя и оказалась в подмосковном городе Горьевске вместо ведомственного уик-энда с банкетом и отдыхом в загородном отеле.
Горьевск… Нет, не от слова «горы» название городка. А от слова «горе». Почему-то в Главке над городом Горьевском всегда измывались – ну, типа «Если смешать Рязань с Москвой». Или даже хуже: «Какого свекольного хрена мешать Рязань с Москвой». Или уж совсем гадкое, нетолерантное, стебное: «Туалеты на этажах на ключ закрывайте, а то как понаедут из Горьевска и Луховиц, не то что ручек дверных – унитазов недосчитаешься».
Это все лживые сказки для обывателей-простецов, что полиция нынешняя, как встарь, единый, сплоченный ведомственный организм. Все печали и конфликты нашего времени, вся злость, весь стеб социальных сетей, насмешек, оскорблений, презрительных прозвищ – «нищеброды», «лохи», «деревенщина», «быдло», «понаехавшие» – словно чума, проникают и в полицейскую среду. И на этом фоне всеобщего презрения всех ко всем и тотальной озлобленной травли по любому, самому пустяковому бытовому вопросу особенно отчего-то в Главке доставалось несчастным Луховицам и Горьевску.
Луховицы, бедные, вообще никого никогда не трогали, жили себе, были. А Горьевск…
Возможно, что-то было не так с самим этим подмосковным городком. Что-то неладно.
Но до поры до времени Катя прояснить это для себя не могла.
Одно ее сразу же поразило при осмотре места убийства: в Доме у реки был лишь полковник Гущин да горстка – вялая и какая-то неадекватная – местных полицейских. И приезжий патологоанатом. И никого из местного руководства – ни из ОВД, ни прокурора. Следователь, правда, дежурный нарисовался – стажер лет двадцати двух. Он тыкался, как глупый щенок, ко всем, а его все игнорировали.
Это настолько было не похоже на обычную, привычную для Кати, четкую и слаженную работу на месте такого серьезного происшествия, что она лишь диву давалась.
– Дверь входную видели, Федор Матвеевич? – обратился к Гущину пузатый полицейский «под мухой». – Вроде как следы взлома.
Гущин через анфиладу комнат зашагал к входной двери. Он оглядывал толстые стены заброшенного здания. Пару раз подходил почти вплотную к стене. Трогал осыпавшуюся штукатурку, выбоины. Растирал крошку кирпича и штукатурку в пальцах, даже нюхал.
Они вышли на крыльцо. Уже смеркалось. В быстро накатывающих на Горьевск осенних промозглых сумерках Катя видела полицейские машины с мигалками, берег реки, заросший высохшим ковылем, что-то вроде мусорной свалки.
Слева во мгле мерцали огни городских кварталов. Узкая речка плескалась в десяти шагах от ступеней разбитого крыльца. Справа вдалеке выстроились старые кирпичные фабричные корпуса. Над ними небо выглядело темным, почти по-ночному черным. И на фоне мрака что-то возвышалось, устремляясь к тучам. Что-то большее, нелепое и громоздкое.
Но дверь Дома у реки выглядела новой и… действительно взломанной. Дешевая филенчатая дверь, приткнутая к старинной, источенной жучком дубовой дверной раме. На филенках четко выделялись следы ударов. На дверном косяке – свежие ссадины. Дверь пытались отжать. На битом кирпиче валялся сорванный дешевый дверной замок. Подошедший эксперт-криминалист поднял его и аккуратно убрал в пластиковый пакет.
Возле крыльца – прислоненный к стене мужской велосипед, весьма дорогая модель. На ступеньках – монтировка. Эксперт и ее поднял, начал упаковывать как вещдок.
– Дверь взломали. Парня убили, – сказал полковник Гущин. – Велосипед потерпевшего?
– Там, в комнате, еще и сумка, а в ней тоже разный инструмент, – сообщил полицейский «под мухой».
– У парня забрали мобильный, – Гущин, сопя, осматривал следы взлома на двери. – Ограбление?
Его собеседник пожал плечами.
– Портмоне в заднем кармане брюк, – Гущин сказал это сам себе.
И снова направился через анфиладу в комнату, где в луже крови лежало тело.
– Давность смерти? – спросил он эксперта.
– Не менее двадцати часов. Его убили здесь, в доме, в этом самом помещении – в этом нет сомнений. И произошло это ночью, часа в два или в половине третьего, – подала голос патологоанатом. – Вскрытие я проведу завтра, но уже сейчас можно сказать, что причина смерти – черепно-мозговая травма.
– Лицо не изуродовано? – спросил Гущин.
– Смотрите сами, – патологоанатом и эксперт начали осторожно поворачивать тело набок.
Катя ощутила спазм в желудке. Лицо убитого было густо вымазано кровью. Кровь налипла на щеки, вокруг рта образовалась спекшаяся черная кайма, словно мертвец в последней агонии пил собственную кровь, вытекшую из его проломленного черепа.
Однако черты лица от увечий не пострадали. Убитый был действительно молодым – лет двадцати семи. Тощий короткостриженый брюнет невысокого роста и с маленькими, почти женскими ступнями и кистями рук. Он был одет в зеленую толстовку, серые джинсы и поношенные, но очень дорогие и модные кроссовки. Поверх толстовки – короткая куртка, старая и потрепанная, что не вязалось с другой, простой на вид, но стильной одеждой.
Полковник Гущин снова наклонился и провел рукой, на которую надел взятую у эксперта резиновую перчатку, по куртке – растер в пальцах.
Кроме крови, пропитавшей одежду, была еще и…
– Кирпичная крошка, известка. У него вся одежда спереди в строительной пыли. – Гущин очень осторожно дотронулся до волос убитого. – И здесь, в волосах, тоже пыль и опять каменная крошка.
– Он же тут всю ночь лежит, на этой помойке, – сказал подошедший сбоку полицейский «под мухой».
– Возьмите обязательно образцы почвы с пола, образцы всего этого мусора и сделайте соскобы со стен, – приказал Гущин эксперту-криминалисту. – Я хочу, чтобы вы сравнили результаты.
– А чего вы на стены так смотрите? – спросил его толстяк.
– Что за инструмент у него в сумке? – вопросом ответил Гущин.
– Мы уже этот вещдок упаковали, – откликнулся эксперт.
– Но что там было?
– Долото, молоток, ручная дрель. Еще небольшой лом. Все, что можно использовать для взлома замка.
– Уголовник, что ли? Вор? – тихо спросила Катя. Она наконец-то обрела дар речи. – Но что здесь красть? И не похож он. Хипстер.
Гущин взял у эксперта пластиковые пакеты и сам начал надевать их на кисти убитого. Затем, уже в пластике, внимательно осмотрел ладони и пальцы, ногти.
– У него известка под ногтями.
– В агонии пол царапал, – сказал эксперт.
Гущин снова оглядел анфиладу комнат.
– Вор? – снова спросила Катя.
– Проверим по базе данных отпечатки. Нам необходимо установить его личность. Кто он такой. Документов при нем никаких.
– В портмоне – две кредитки и две купюры по пятьсот, – заметил патологоанатом. – На деньги не польстились, может, мобильного убийце-грабителю хватило.
– Проверка по базе ни черта не даст. Нет его там. Он несудимый, – сказал со вздохом, словно сожалея, полицейский «под мухой».
– Вы что, его знаете? Он вам знаком? – резко спросил Гущин.
– Знаю его, – полицейский глядел на тело. И взгляд этот Кате не понравился. Он был лишен сострадания. В нем вместе с алкогольным остекленением мешалось, как в коктейле, холодное любопытство и… Что-то было еще в этом взгляде, что-то неуловимое. – Он не местный, не наш, не из города. Это фотограф.
Глава 3
Фотограф
11 апреля 1903 года
– С дороги! Чего рот раззявили?!
Кучер проорал это хрипло и зло, не стараясь даже натянуть вожжи и сдержать лошадь. Большой шарабан громыхал колесами по разбитой уездной дороге. Орловский рысак не сбавил хода, шустро перебирая точеными ногами. С середины дороги на обочину шарахнулись две бабы в лаптях и овчине, закутанные в теплые платки, с котомками крест-накрест на груди. Застыли, пялясь на экипаж и великолепного рысака.
– Потише, Петруша, – урезонил кучера доверенный правления фабрики, инженер-технолог Александр Найденов и бросил быстрый взгляд на свою спутницу в шарабане. – Скоро приедем, Елена Лукинична.
– Я знаю, что скоро. Я же не впервые здесь.
Елена Лукинична Мрозовская – спутница инженера-технолога – оглядела окрестности.
Поля, поля… Снег уже стаял. Даже в низинах и оврагах днем журчали ручьи. На придорожных кустах набухали толстые коричневые почки. Весна пришла, грачи прилетели…
В Петербурге, откуда она приехала, все еще ночами выл северный ветер и часто шел снег с дождем, а здесь, в провинциальной глубинке, в Горьевске, природа готовилась к новому циклу. Но по ночам пока что случались заморозки. И сейчас, рано утром, среди стылости полей ей было зябко. Она даже жалела, что не взяла с собой шубку. Ехала в Горьевск уже налегке, в дорожном суконном костюме и весеннем пальто. Она придержала на голове парижскую шляпку цвета лаванды – плохо приколола к волосам, шпилька потерялась.
Инженер-технолог Найденов встретил ее в Москве на вокзале с петербургского поезда, нанял носильщиков и помог выгрузить весь ее весьма объемный багаж, все кофры и саквояжи, все оборудование, что она привезла из своего фотографического ателье. Целый день они ждали в гостинице ночного поезда, следовавшего через Горьевск, обедали в Купеческом клубе.
И все это время Елена Мрозовская не могла сдержать невольной дрожи, которая охватывала ее с головы до пят, едва лишь мысли начинали вертеться вокруг того, что ждало ее там, на фабрике купцов Шубниковых. Того, что случилось так внезапно полтора года назад. Когда никто этого не ожидал и все впали в глубокий шок от ужаса происшедшего.
– Нет, нет, Елена Лукинична, – уверял ее инженер-технолог Найденов. – В этот раз – ничего даже близкого к тому, что было тогда. Все как в телеграмме, что Игорь Святославович вам послал. Будет назначено новое врачебное освидетельствование в клинике. И не одно. Там же в перспективе каторга пожизненная светит. А так врачи дадут заключение о невменяемости. Но нужны помимо освидетельствования и слов свидетелей еще и другие реальные доказательства – ваши фотографии станут ими. Вы сделаете фото, ну… так скажем… текущего состояния. Которое… Ну, вы сами все увидите.
Елена Мрозовская снова поежилась. И на этот раз не от апрельского холода. Игорь Бахметьев прислал телеграмму-молнию. Посыльного с телеграммой сопровождал курьер – кассир из принадлежащего Бахметьеву Русского Промышленного банка, доставивший ей четыре тысячи рублей наличными, без всякой банковской бюрократии и расписок. Игорь Бахметьев заплатил из своих денег, хотя теперь как опекун и управляющий всего огромного состояния исчезнувшего с лица земли, вымершего рода Шубниковых имел право снимать деньги со всех счетов.
Ну, скажем, почти исчезнувшего, вымершего рода…
Кое-кто из Шубниковых все же остался.
Елена Мрозовская ощутила внезапную тошноту.
Но четыре тысячи рублей! На эти деньги можно арендовать роскошное помещение на Невском под фотоателье. Она уже получила широкую известность, вошла в моду, но позволить себе настоящий, как в Париже, где она училась у знаменитого фотографа-художника Гаспара Надара, оборудованный по последнему слову техники салон, пока еще не могла. Ее ателье на Невском все еще было скромным, маленьким, темным, пропахшим химикатами, с которыми она увлеченно возилась в своей тесной захламленной фотолаборатории.
Женщине всегда трудно пробиваться. Суфражистки, феминистки неустанно призывают на страницах женских журналов вести активный образ жизни, добиваться всего своей энергией и трудом, учиться, получать образование, придерживаться передовых взглядов. Это все хорошо для актрис Художественного театра господина Станиславского, для дам, безумно влюбленных в поэтов Блока и Брюсова, для тех, кто возится с земским благоустройством школ и больниц, для тех, кто хочет поступить на какие-то там высшие курсы.
Но для женщины, горячо интересующейсятехникой,последними достижениями науки в области химии и фотографии, для такой женщины, как она, – первой в России женщины-фотографа, пробиваться – означает организовывать все с нуля в тех областях, куда прочие женщины даже не суются.
Да, ей повезло, она представляла свои работы на Всемирной выставке, она училась в Париже у мэтра фотографии. Она вложила все свое фамильное наследство в покупку фотографического оборудования. Она работала как лошадь без отдыха.
Этим, возможно, она и привлекла внимание Игоря Бахметьева полтора года назад, когда он так активно готовился к своей свадьбе.
Но кто мог знать тогда, во что это выльется!
Свидетелями какой дикой катастрофы станут они все в мгновение ока! И она в том числе – она, приглашенный модный петербургский фотограф, которая должна была заснять всю эту пышную свадьбу для семейного родового архива. А вместо этого сделала такие снимки, что…
Приступ тошноты едва не перешел в позыв рвоты. Елена Мрозовская быстро прикрыла рот рукой в лайковой перчатке.
Тихо, тихо, тихо…
Она ведь думала, что как-то изгнала это из своей головы. Но нет, все вернулось в этих полях на пути кфабрике.
На пути к этой чертовой бумагопрядильной фабрике, которую она возненавидела с тех пор. И этот город… Горьевск…
Ей казалось – она может справиться со всем этим горьевским мраком, который вобрал ее в себя помимо ее воли. За эти полтора года произошло столько всего! Она снова работала как лошадь и преуспела в делах. О да!
Ее теперь даже приглашали ко двору! На зимнем костюмированном балу, ставшем таким знаменитым из-за обилия драгоценностей, жемчугов, великих князей и великих княжон, обряженных в почти сказочные костюмы времен старой Руси, она сделала такие удачные фотопортреты! О них говорил весь Петербург и Москва. Фотографии с костюмированного бала печатали в журналах за границей. Она стала по-настоящему знаменитой. Первая русская женщина-фотограф…
Фотограф-мэтр Прокудин-Горский – этот жалкий завистник и ретроград в области женского равноправия – даже прислал ей букет роз.
Она думала, что все теперь так и будет – прекрасно, отлично. А проклятый Горьевск с его кошмарами и кровью остался где-то там…
Но Игорь Бахметьев прислал ей телеграмму-молнию.
И… она поехала к нему. Побежала, как собачка по щелчку пальцев.
Ему исполнилось сорок два. Полтора года назад он хотел жениться на семнадцатилетней Прасковье Шубниковой, одной из наследниц угасшего в одночасье знаменитого купеческого рода владельцев бумагопрядильной и ткацкой фабрики.
Вон ее корпуса… Уже видны. Огромные кирпичные здания в несколько этажей. И разбитая уездная дорога оживилась. Здесь рядом грузовая станция, фабричная железнодорожная грузовая станция. Свистки паровозов слышны, грохот груженых телег. Телеги с товаром, с продукцией бумагопрядильной фабрики – ткани, знаменитый миткаль. Телеги с грузом из пришедших вагонов – хлопок индийский и американский, хлопок, хлопок, новые английские станки, новая техника, до которой были всегда охочи Шубниковы.
Часы на фабричной башне гулко и мелодично пробили одиннадцать раз.
Звук башенных колоколов накрыл собой все пространство, все окрестности. Инженер-технолог Найденов вытащил собственные часы на цепочке. Сверился.
– Точность, как в аптеке, – сказал он одобрительно.
Елена Мрозовская смотрела на башню.
Какая она все же огромная.
И к месту она здесь…
И не к месту она…
Ей бы стоять на площади, в городе, и не в таком заштатном, как Горьевск…
Часы ее не похожи ни на кремлевские куранты, ни на часы церковных колоколен. Этот европейский… нет, английский стиль. Башню, как и всю фабрику, в середине прошлого века строили англичане. Старый Шубников был большой англофил. Его младший сын Мамонт учился в Кембридже и проходил производственную инженерную практику на фабриках в Бирмингеме. А старший сын Савва не учился в Англии. Говорят, что он вообще не мог…
Мимо шарабана прогромыхали тяжело груженные мануфактурой телеги. На этот раз кучер Шубниковых придержал рысака. Хозяйское добро везут, можно и посторониться.
На бумагопрядильной и ткацкой фабрике трудилось почти пять тысяч рабочих. Фабрика кормила всю округу, всю губернию. Однако в последние годы то и дело вспыхивали забастовки. На фабрику пригоняли казаков, и они пороли непокорный народ как сидоровых коз. В Горьевске людей никогда не жалели. Строптивых – уволить к черту, новых набрать. Рязань пришлет ходоков на производство, ведь на бумагопрядильной фабрике заработок на полтора рубля выше, чем на кирпичном заводе Рязани.А за лишние полтора рубля народ окрестный, даже побунтовав, побазарив, охотно подставит голый зад под казачьи нагайки.
Придут к крыльцу управляющего фабрикой. Встанут на колени.
Бунтуют…
День стоят, два стоят. Батюшка, барин… да кака така… Да мы рязанские, стяяяпныяяяааа…
Да это… того… мы царю… Царь, чай, не дурак, добрый… По монастырям вон ездит… Все с иконами да попами, такой богомол стал, все про исконные традиции… Все на Валаам норовит…
Где-то она слышала или читала этот печальныйанекдот про народ.От этой овечьей народной тупости у Елены Мрозовской порой сводило челюсти. А что тут сделаешь?
– А лучше, что ли, если они во время стачки, бунта все здесь поломают, изгадят, разрушат к черту?
Это спрашивал у нее он… Игорь Святославович Бахметьев. Игорь… Она увидит его снова через полтора года. Через эти полтора страшных года, перевернувших его жизнь.
Шарабан свернул с разбитой проселочной дороги на дорогу фабричную. И покатился ровно и быстро. Дорогу к фабрике и железнодорожным путям проложили хорошую. На повороте инженер-технолог Найденов придержал один из больших тяжелых кофров Мрозовской. Из-за оборудования им вдвоем еле хватало места в просторном шарабане. В кофрах Елена Мрозовская везла с собой складной фотоаппарат Адольфа Мите на увесистой треноге и одну из своих самых любимых моделей – новую репортерскую пресс-камеру, тоже на треноге. Она решила использовать оба этих новых фотоаппарата. Складной фотоаппарат Мите делал невероятно продвинутые вещи: последовательную съемку через один объектив на удлиненную фотопластину. Венские ортохроматические пластины Мрозовская тоже везла с собой – солидный запас. Она всегда теперь с ними работала. Они обладали сверхчувствительностью и не подводили даже при недостатке освещения.
А там ведь будет мало света… Окна они, наверное, закрывают ставнями… Там же что-то вроде больницы или тюрьмы… Они же не в особняке держат… В особняке Шубниковых электричество. А там только керосиновые лампы…
Игорь Бахметьев попросил в телеграмме взять максимум оборудования для фотографирования и печатания снимков. Ей придется работать в Горьевске в той же лаборатории, которую Бахметьев сразу же организовал в особняке. Он ей принес туда кое-что из семейного архива Шубниковых. Старые монохромные фотопластины-негативы. И ей пришлось тогда повозиться…
С чем же мы имеем дело?
Сколько раз тогда Елена Мрозовская задавала себе этот вопрос, чувствуя, что внутри нее все сжимается и леденеет.
Что же происходило и происходит здесь, в Горьевске, тогда и сейчас?
Шарабан въехал на фабричный двор, заполненный рабочими. Инженер-технолог поднял кожаный вверх, скрывая себя и Мрозовскую от любопытных взглядов рабочих.
– С дороги, с дороги! – снова пронзительно крикнул кучер.
Рысак фыркал и бил копытами. Они рассекли толпу и помчались мимо башни с часами.
– В город? Неужели это в особняке? – удивилась Мрозовская.
– Нет, здесь неподалеку есть дом. – Инженер-технолог Найденов указал куда-то вперед.