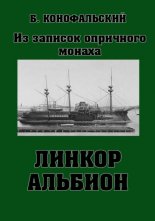Высокое искусство Чуковский Корней

Свойственный ему пуританизм сказывался в его переводах с необыкновенной рельефностью. Из «Орлеанской девы» он изгоняет даже такое, например, выражение, как «любовь к мужчине», и вместо «Не обольщай своего сердца любовью к мужчине» пишет с благопристойной туманностью:
- Страшись надежд, не знай любви земныя.
Этот же пуританизм не позволяет ему дать точный перевод той строфы «Торжества победителей», где говорится, что герой Менелай, «радуясь вновь завоеванной жене, обвивает рукой в наивысшем блаженстве прелесть ее прекрасного тела».
Избегая воспроизводить столь греховные жесты, Жуковский заставляет Менелая чинно стоять близ Елены без всяких проявлений супружеской страсти:
- И стоящий близ Елены
- Менелай тогда сказал…
У Тютчева эта строфа переведена гораздо точнее:
- И супругой, взятой с бою,
- Снова счастливый Атрид,
- Пышный стан обвив рукою,
- Страстный взор свой веселит!..[23]
Конечно, все это говорится отнюдь не в укор Жуковскому, который по своему мастерству, по своей вдохновенности является одним из величайших переводчиков, каких когда-либо знала история мировой литературы. Но именно потому, что его лучшие переводы так точны, в них особенно заметны те отнюдь не случайные отклонения от подлинника, которые и составляют доминанту его литературного стиля.
Показательным для переводов Жуковского представляется мне то мелкое само по себе обстоятельство, что он в своей великолепной версии бюргеровской «Леноры», где мускулистость его стиха достигает иногда пушкинской силы, не позволил себе даже намекнуть, что любовников, скачущих в ночи на коне, манит к себе «брачное ложе», «брачная постель». Всюду, где у Бюргера упоминается постель (Brautbett, Hochzeitbett), Жуковский целомудренно пишет: ночлег, уголок, приют…
Советский переводчик В. Левик в своем блистательном переводе «Леноры» воспроизвел эту реалию подлинника:
- Эй, нечисть! Эй! Сюда за мной!
- За мной и за моей женой
- К великому веселью
- Над брачною постелью.
И дальше:
- Прими нас, брачная постель![24]
Нужно ли говорить, что те строки, где Бюргер непочтительно называет иерея попом и сравнивает пение церковного клира с «кваканьем лягушек в пруду», Жуковский исключил из своего перевода совсем[25].
Как известно, в символике Жуковского занимают обширное место всевозможные гробницы и гробы. Поэтому отнюдь не случайным является и то обстоятельство, что в некоторых своих переводах он насаждает эти могильные образы чаще, чем они встречаются в подлиннике. У Людвига Уланда, например, сказано просто часовня, а у Жуковского в переводе читаем:
- Входит: в часовне, он видит, гробница (!) стоит;
- Трепетно, тускло над нею лампада (!) горит.
В соответствующих строках подлинника о гробнице ни слова.
К лампадам Жуковский тоже чувствует большое пристрастие. Прочитав у Людвига Уланда о смерти молодого певца, он, опять-таки отклоняясь от подлинника, сравнивает его смерть с погасшей лампадой:
- Как внезапным дуновеньем
- Ветерок лампаду гасит —
- Так угас в одно мгновенье
- Молодой певец от слова.
Лампада была ему тем более мила, что к этому времени уже превратилась в церковное слово.
Тяга к христианской символике сказалась у Жуковского даже в переводе Байронова «Шильонского узника», где он дважды именует младшего брата героя нашим ангелом, смиренным ангелом, хотя в подлиннике нет и речи ни о каких небожителях.
Даже в гомеровской «Одиссее» Жуковский, в качестве ее переводчика, уловил свойственную ему самому меланхолию, о чем и поведал в предисловии к своему переводу[26]. Критика, восхищаясь непревзойденными достоинствами этого перевода, все же не могла не отметить крайней субъективности его: Гомер в этом русском варианте поэмы стал многими своими чертами удивительно похож на Жуковского. «Жуковский, – по свидетельству одного ученого критика, – внес в «Одиссею» много морали, сентиментальности да некоторые почти христианские понятия, вовсе не знакомые автору языческой поэмы». «В некоторых местах переводной поэмы заметен характер романтического раздумья, совершенно чуждого «Одиссее»[27].
Роберт Соути в своей известной балладе говорит о монахах, что «они отправились за море в страну мавров», а Жуковский переводит эту фразу:
- И в Африку смиренно понесли
- Небесный дар учения Христова.
Повторяю: эти систематические, нисколько не случайные отклонения от текста у Жуковского особенно заметны именно потому, что во всех остальных отношениях его переводы, за очень немногими исключениями, отлично передают малейшие тональности подлинника. И при этом необходимо отметить, что огромное большинство изменений сделано Жуковским в духе переводимого автора: пусть у Людвига Уланда в данных строках и нет, предположим, гробницы, она свободно могла бы там быть – в полном соответствии с его мировоззрением и стилем.
Порою фальсификация подлинника производится под влиянием политических, партийных пристрастий того или иного переводчика. В крайних случаях дело доходит до преднамеренного искажения текстов.
В 1934 году в Париже, в «Комеди Франсез» была поставлена трагедия Шекспира «Кориолан» в новом переводе французского националиста Рене-Луи Пиашо. Переводчик при помощи многочисленных отклонений от английского текста придал Кориолану черты идеального реакционного диктатора, трагически гибнущего в неравной борьбе с демократией.
Благодаря такому переводу старинная английская пьеса сделалась боевым знаменем французской реакции.
Те мечты о твердой диктаторской власти и о сокрушении революционного плебса, которые лелеет французский рантье, запуганный «красной опасностью», нашли полное свое выражение в этом модернизированном переводе Шекспира.
Зрители расшифровали пьесу как памфлет о современном политическом положении Франции, и после первого же представления в театре образовались два бурно враждующих лагеря.
В то время как проклятия Кориолана по адресу черни вызывали горячие аплодисменты партера, галерка неистово свистала ему.
Об этом я узнал из статьи Л. Борового, напечатанной тогда же в «Литературной газете»[28]. Боровой вполне справедливо обвиняет во всем переводчика, исказившего пьесу Шекспира с определенной политической целью. Искажение было произведено сознательно, чего и не скрывал переводчик, озаглавивший свою версию так: «Трагедия о Кориолане, свободно переведенная с английского текста Шекспира и приспособленная к условиям французской сцены».
Но представим себе, что тот же переводчик вздумал бы передать ту же пьесу дословно, без всяких отклонений от подлинника.
И в таком случае может иногда оказаться, что его идейная позиция, помимо его сознания и воли, найдет в его переводе свое отражение.
И для этого вовсе не требуется, чтобы он задавался непременной целью фальсифицировать подлинник.
Русский переводчик того же «Кориолана» А. В. Дружинин был добросовестен и стремился к максимальной точности своего перевода.
Он ни в коем случае не стал бы сознательно калечить шекспировский текст, приспособляя его к своим политическим взглядам.
И все же его «Кориолан» недалеко ушел от того, который так восхищает французских врагов демократии. Потому что в своем переводе он, Дружинин, бессознательно сделал то самое, что сознательно сделал Рене-Луи Пиашо. При всей своей точности его перевод сыграл такую же реакционную роль.
Он перевел «Кориолана» в 1858 году. То было время борьбы либеральных дворян с революционными разночинцами, «нигилистами» шестидесятых годов. Поэтому распри Кориолана с бунтующей чернью были поняты тогдашними читателями применительно к русским событиям, и все ругательства, которые произносил Кориолан по адресу римского плебса, ощущались как обличение российской молодой демократии.
При помощи Шекспировой трагедии Дружинин сводил партийные счеты с Чернышевским и его сторонниками, а Тургенев и Василий Боткин приветствовали этот перевод как выступление политическое.
«Чудесная Ваша мысль – переводить “Кориолана”, – писал Тургенев Дружинину в октябре 1856 года. – То-то придется он Вам по вкусу – о Вы, милейший из консерваторов!»[29]
Василий Боткин, переходивший тогда в лоно реакции, высказался еще откровеннее:
«Спасибо вам за выбор “Кориолана”: есть высочайшая современность в этой пьесе»[30].
Таким образом, то, что произошло с переводом «Кориолана» зимой 1934 года во французском театре, было, в сущности, повторением того, что происходило в России в конце пятидесятых годов с русским переводом той же пьесы.
И там и здесь эти переводы «Кориолана» явились пропагандой реакционных идей, исповедуемых его переводчиками, причем оба переводчика пытались навязать пьесе антидемократический смысл независимо от того, стремились ли они к наиточнейшему воспроизведению подлинника или сознательно искажали его.
Здесь было бы небесполезно вернуться к Жуковскому: при помощи чужих мелодий, сюжетов и образов он, как мы видели, проецировал в литературе свое я, за тесные пределы которого не мог вывести поэта даже Байрон.
Казалось, предпринятый им на старости лет перевод «Одиссеи» был совершенно далек от каких бы то ни было политических бурь и смерчей. В предисловии к своему переводу Жуковский с самого начала указывает, что «Одиссея» для него – тихая пристань, где он обрел вожделенный покой: «Я захотел повеселить душу первобытною поэзиею, которая так светла и тиха, так животворит и покоит».
И тем не менее, когда перевод Жуковского появился в печати, тогдашние читатели увидели в нем не отказ от современности, а борьбу с современностью. Они оценили этот, казалось бы, академический труд как некий враждебный акт против ненавистной Жуковскому тогдашней русской действительности.
Тогдашняя русская действительность казалась Жуковскому – и всему его кругу – ужасной. То был самый разгар плебейских сороковых годов, когда впервые столь явственно пошатнулись устои любезной ему феодально-патриархальной России. В науку, в литературу, во все области государственной жизни проникли новые, напористые люди, мелкие буржуа, разночинцы.
Уже прозвучал голос Некрасова, уже Белинский, влияние которого именно к тому времени стало огромным, выпестовал молодую «натуральную школу», и все это ощущалось Жуковским и его единоверцами как катастрофическое крушение русской культуры. «Век меркантильности, железных дорог и пароходства» казался Плетневу, Шевыреву, Погодину «удручающим душу безвременьем».
Наперекор этой враждебной эпохе, в противовес ее «реализму», «материализму», ее «меркантильности» Жуковский и обнародовал свою «Одиссею». Все так и поняли опубликование этой поэмы в 1848–1849 годах как актуальную полемику с новой эпохой.
Тысяча восемьсот сорок восьмой год был годом европейских революций. Реакционные журналисты воспользовались «Одиссеей», чтобы посрамить ею «тлетворную смуту» Запада. Сенковский (Барон Брамбеус) так и писал в своей «Библиотеке для чтения»:
«Оставив Запад, покрытый черными тучами бедствий, Жуковский с своим светлым словом, с своим пленительным русским стихом, Жуковский, поэт нынче более, чем когда-либо, поэт, когда все перестали быть поэтами, Жуковский, последний из поэтов, берет за руку самого первого поэта, слепого певца, этого дряхлого, но некогда «божественного» Гомера, о котором все там забыли среди плачевных глупостей времени, и, являясь с ним перед своими соотечественниками, торжественно зовет нас на пир прекрасного».
Критик противопоставляет «Одиссею» Жуковского революциям, происходящим на Западе, или, как он выражается, «козням духа зла и горя», «вещественным сумасбродствам», «тревогам материальных лжеучений», «потоку бессмыслиц»[31].
Здесь Сенковский идет по следам своего антагониста Гоголя: всякий раз, когда Гоголь, уже ставший ярым обскурантом, пишет об этой новой работе Жуковского, он упорно противопоставляет ее «смутным и тяжелым явлениям» современной эпохи. Для Гоголя «Одиссея» в переводе Жуковского есть орудие политической борьбы. Он так и говорит в письме к Плетневу:
«Это сущая благодать и подарок всем тем, в душах которых не погасал священный огонь и у которых сердце приуныло от смут и тяжелых явлений современных. Ничего нельзя было придумать для них утешительнее. Как на знак Божьей милости к нам должны мы глядеть на это явление, несущее ободренье и освеженье в наши души».
Прославляя именно «ясность», «уравновешенное спокойствие», «тихость» переведенной Жуковским эпопеи Гомера, Гоголь объявляет ее лучшим лекарством против тогдашней озлобленности и душевной «сумятицы».
«Именно в нынешнее время, – пишет он воинствующему реакционеру, поэту Языкову, – когда… стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на все, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя; …когда сквозь нелепые крики и опрометчивые проповедования новых, еще темно услышанных идей слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий как в массах, так и отдельно взятых особах, – словом, в это именно время «Одиссея» поразит величавою патриархальностью древнего быта, простою несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человека».
Наиболее отчетливо выразил Гоголь политические тенденции «Одиссеи» Жуковского, выдвигая в ней в качестве особенно ценных такие черты, которые являлись краеугольной основой николаевского самодержавного строя:
«Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников… это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа Божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа» – вот что казалось тогдашнему Гоголю, Гоголю «Переписки с друзьями», наиболее привлекательным в новом переводе Жуковского[32].
Социальные взгляды переводчика сказываются порой неожиданным образом в самых мелких и, казалось бы, случайных подробностях.
Когда Дружинин переводил «Короля Лира», особенно удались ему сцены, где фигурирует Кент, верный слуга короля. Об этом Кенте Дружинин восклицал с умилением:
«Никогда, через тысячи поколений, еще не родившихся, не умрет поэтический образ Шекспирова Кента, сияющий образ преданного слуги, великого верноподданного»[33].
Это умиление не могло не отразиться в его переводе. И такой проницательный человек, как Тургенев, очень четко сформулировал политический смысл дружининского пристрастия к Кенту.
«Должен сознаться, – писал Тургенев Дружинину, – что если бы Вы не были консерватором, Вы бы никогда не сумели оценить так Кента, «великого верноподданного». Я прослезился (…) над ним»[34].
То есть рабья приверженность Кента к монарху, с особой энергией выдвинутая в дружининском переводе «Лира» и в его комментариях к этой трагедии, была воспринята Тургеневым именно в плане социальной борьбы.
Любопытно, что первая сценическая постановка «Короля Лира» в России, за полвека до перевода Дружинина, вся, с начала до конца, имела своей единственной целью укрепить и прославить верноподданнические чувства к царям-самодержцам. Поэт Н. И. Гнедич устранил из своей версии «Лира», которого он назвал «Леаром», даже его сумасшествие, дабы усилить сочувствие зрителей к борьбе монарха за свой «законный престол».
И вот какие тирады произносит у Гнедича шекспировский Эдмунд:
«Умереть за своего соотечественника похвально, но за доброго государя – ах! надобно иметь другую жизнь, чтобы почувствовать сладость такой смерти!»
«Леар» Гнедича, – говорит один из новейших исследователей, – в обстановке тех событий, которые переживала Россия в момент появления этой трагедии, целиком отражал настроения умов дворянства и имел несомненное агитационное значение в интересах этого класса. Трагедия престарелого отца, гонимого неблагодарными дочерьми, в итоге сведенная Гнедичем к борьбе за престол, за «законные» права «законного» государя, в момент постановки «Леара» должна была напоминать зрителям о другом «незаконном» захвате престола (правда, без добровольного от него отказа), имевшем место в живой действительности; не олицетворялся ли в представлении зрителей герцог Корнвалийский с живым «узурпатором», потрясшим основы мирного благосостояния Европы и вовлекшим в общеевропейский хаос и Россию – с Наполеоном Бонапартом, неблагодарные дочери Леара, – с республиканской Францией, свергшей своего короля, а сам Леар – с «законным» главою французского престола – будущим Людовиком XVIII?
Назначением «Леара» было поднять патриотическое чувство русских граждан, необходимое для борьбы с этой страшной угрозой за восстановление законности и порядка в Европе и в конечном итоге за сохранение всей феодально-крепостнической системы в России. «Леар» Гнедича… не мог не отразить патриотических настроений автора, выражавшего и разделявшего взгляды русского дворянства…
Так трагедия Шекспира обращалась в средство агитационного воздействия в интересах господствующего класса»[35].
Даже «Гамлет» и тот при своем первом появлении на петербургской сцене был пропитан русским патриотическим духом. Согласно версии П. Висковатова, Гамлет-король восклицает:
- Отечество! Тебе пожертвую собой!
Основным назначением этой версии «Гамлета» было служить «целям сплочения русского общества вокруг престола и царя для борьбы с надвигающимися наполеоновскими полчищами»[36].
Конечно, создатели подобных «Леаров» и «Гамлетов» даже не стремились к тому, чтобы стать ближе к Шекспиру.
Но нередко бывает так, что переводчик только о том и заботится, как бы вернее, правдивее передать на родном языке произведения того или иного писателя, которого он даже (по-своему!) любит, но пропасть, лежащая между их эстетическими и моральными взглядами, фатально заставляет переводчика, вопреки его субъективным намерениям, далеко отступать от оригинального текста.
Это можно легко проследить по тем досоветским переводам стихов великого армянского поэта Аветика Исаакяна, которые были исполнены Ив. Белоусовым и Е. Нечаевым. По словам критика Левона Мкртчяна, большинство допущенных ими отклонений от подлинника объясняется тем, что оба переводчика в ту пору находились под частичным влиянием некоторых народнических представлений. «Они, – говорил Левон Мкртчян, – подчиняли образность Исаакяна образности русской народнической лирики – ее надсоновской ветви»[37].
Что же касается тех искажений оригинального текста, которые внесли в свои переводы стихов Исаакяна переводчики более позднего времени, критик объясняет эти искажения тем, что переводчики «пытались подогнать Исаакяна под поэтику русского символизма». В тогдашних переводах из Исаакяна, – говорит он, – «проявлялись образы и интонации, характерные для символистов»[38].
А когда поэт-народоволец П. Ф. Якубович, известный под псевдонимом П. Я., взялся за перевод «Цветов зла» Шарля Бодлера, он навязал ему скорбную некрасовскую ритмику и затасканный надсоновский словарь, так что Бодлер у него получился очень своеобразный – Бодлер в народовольческом стиле. Автор «Цветов зла» несомненно запротестовал бы против тех отсебятин, которыми П. Я. уснащал его стихи, заставляя его восклицать:
- Несут они свободы
- И воскресенья весть
- Усталому народу.
- Душа бессильно бьется.
- Тоскует и болит
- И на свободу рвется.
Эти отсебятины не только искажали духовную физиономию Бодлера, они подслащали ее.
У Бодлера есть стихотворение, которое начинается так:
- Однажды ночью, лежа рядом с ужасной еврейкой,
- Как труп рядом с трупом…
П. Я. переиначил это стихотворение по-своему:
- С ужасной еврейкой, прекрасной, как мертвый
- Изваянный мрамор, провел я всю ночь[39].
Не мог же он позволить Бодлеру ощущать себя и свою любовницу трупами. Ему, переводчику, было бы гораздо приятнее, если бы у Бодлера не было таких чудовищных чувств, – если бы женщина казалась ему не отвратительным трупом, а, напротив, прекраснейшей статуей, «изваянным мрамором», чуть ли не Венерой Милосской. Этак, по его мнению, будет гораздо «красивее». Правда, при таком переводе от Бодлера ничего не останется и даже получится анти-Бодлер, но переводчик этим ничуть не смущен: он рад подменить «декадента» Бодлера собой, так как ставит свою мораль и свою эстетику значительно выше бодлеровской. Пожалуй, он прав, но в таком случае незачем браться за переводы Бодлера, и можно себе представить, как возненавидел бы автор «Цветов зла» своего переводчика, если бы каким-нибудь чудом мог ознакомиться с его переводами.
В одном из своих юношеских писем Валерий Брюсов четко сформулировал основную причину неудач переводчика.
«Якубович – человек совершенно иного склада воззрений, чем Бодлер, и потому часто непреднамеренно искажает свой подлинник. Таков перевод «Как Сизиф, будь терпеньем богат», где г. Якубович проповедует что-то покорное… у Бодлера же это одно из наиболее заносчивых стихотворений. Примеров можно привести сотни (буквально)»[40].
Словом, беда, если переводчик не хочет или не может отречься от характернейших черт своего личного стиля, не хочет или не может обуздывать на каждом шагу свои собственные вкусы, приемы и навыки, являющиеся живым отражением мировоззренческих основ его личности.
Хорошо говорит об этом французский ученый Ш. Корбе, разбирая современный Пушкину перевод «Руслана и Людмилы» на французский язык: «…переводчик растворил живость и непринужденность подлинника в тумане элегантной классической высокопарности; из пенящегося, искрящегося пушкинского вина получился лишь пресный лимонад»[41].
Гораздо чаще достигают точности те переводчики, которые питают к переводимым авторам такое сочувствие, что являются как бы их двойниками. Им не в кого перевоплощаться: объект их перевода почти адекватен субъекту.
Отсюда – в значительной степени – удача Жуковского (переводы Уланда, Гебеля, Соути), удача Василия Курочкина, давшего непревзойденные переводы стихов родственного ему Беранже. Отсюда удача Валерия Брюсова (переводы Верхарна), удача Бунина (перевод «Гайаваты» Лонгфелло), удача Твардовского (переводы Шевченко), удача Благининой (переводы Л. Квитко).
Отсюда удача Стефана Малларме (переводы Эдгара По), удача Фицджеральда (переводы Омара Хайяма) и т. д., и т. д., и т. д.
Все это так. Это бесспорная истина.
Но разве история литературы не знает таких переводов, которые отличаются величайшей близостью к подлиннику, хотя духовный облик переводчика далеко не во всем совпадает (а порой и совсем не совпадает) с духовным обликом переводимого автора?
Сколько есть на свете великих писателей, которые восхищают нас своей гениальностью, но бесконечно далеки и от нашей психики, и от наших идей! Неужели мы оставим без перевода Ксенофонта, Фукидида, Петрарку, Апулея, Чосера, Боккаччо, Бена Джонсона лишь потому, что многими своими чертами их мировоззрение чуждо нам – и даже враждебно?