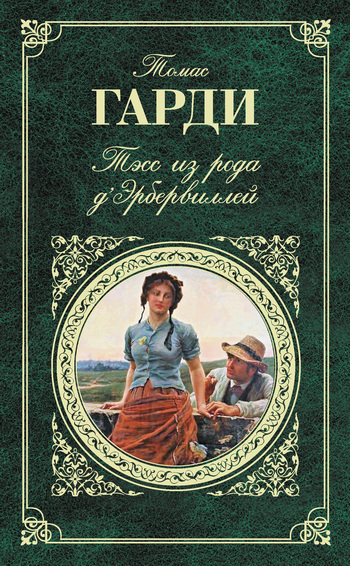Другая жизнь Трифонов Юрий
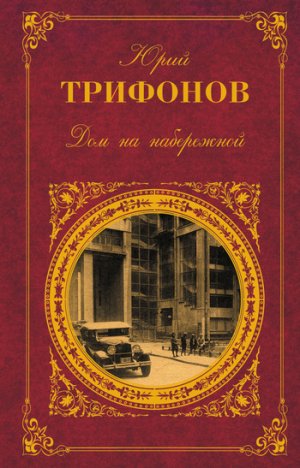
— Мама! Замолчи!
Она увидела искаженное страхом лицо дочери. Иринка обняла ее, потащила куда-то. Потом Иринка исчезла, может быть, ушла в школу или в магазин, ее не стало. Ольга Васильевна лежала в полумраке, с занавешенными окнами и думала: «Взрослая дочь. Она меня защитит. Не могу без нее. Старухе раз навсегда сказать: не смейте…»
Встала в потемках. Обедала на кухне одна — Иринка убежала в кино. Свекровь доставала что-то из холодильника, молча подавала на плиту. Почему Иринка смылась в кино, зная, что мать так расстроена, что была ссора? Странный характер! Что-то неустоявшееся, гибкое, жесткое, отцовское. Такие же «убеги», исчезновения. Вдруг проявит человеколюбие, откроет умение жалеть и сочувствовать, обнаружит — на миг — взрослый и трезвый ум, а затем ошарашит какой-нибудь полудетской выходкой, капризом или же таким матерым эгоизмищем, что оторопь возьмет. Ну да, тянули в разные стороны. От отца слышала одно, от бабки — другое. Для Ольги Васильевны главное — научить самостоятельности, независимости от людей. Нет никого жальче тех бедняг, которые зависят душевно от других. Мать Иринки всю жизнь такая. Теперь кончилось. И настигла другая мука: душа независима и пуста.
А у Иринки при всей избалованности, вспышках эгоизма и грубости есть эта слабость: незащищенность от чужой воли. Та история с театром в январе, на каникулах. Раньше билеты в театр доставал Сережа. У него сохранились приятели студенческих лет по театральному кружку: один стал артистом Театра Моссовета, другой сделался могущественным театральным администратором. Но вот заставить позвонить им было задачей. Как он не любил просить! Наседали на него вдвоем. Долбили неделю подряд. Если удавалось добыть три билета, тогда шли все вместе, если два, он уступал дочери. Иринка любила ходить с отцом: он был щедрее в буфете. И вот после ноября пошла в театр впервые. Билеты достала Даша. И как раз в тот театр, куда Иринка ходила с отцом чаще всего, — в Моссовета. Ольга Васильевна беспокоилась, девочке многое там будет напоминать. Сама бы не пошла в этот театр ни за что. Весь вечер Ольга Васильевна изнывала, томилась, звонила Дашиной матери: не будет ли кто девчонок встречать? Мать у Даши поразительно беспечна. Иринка пришла около двенадцати, мрачная, ни слова не говоря, пробежала в свою комнату, ужинать отказалась: «Болит голова!» Ольга Васильевна заглянула через четверть часа: девчонка плакала. Захлестнуло жалостью. Обнимала дочь, гладила, успокаивала и сама едва сдерживалась. А затихнув, Иринка рассказала неожиданное: Даша, оказывается, пригласила в театр еще одну девочку и весь вечер разговаривала с нею, а не с Иринкой. В антракте гуляли под руку вдвоем, а Иринка была как посторонняя. И шептались о чем-то секретно. Иринка так огорчилась, что после театра убежала не попрощавшись. Ольга Васильевна была поражена. Ведь так любила отца! А страдает из-за дрянной девчонки, притворщицы. Примирилась со своей Дашенькой скоро, встретила Ольгу Васильевну счастливая: «Дашка сказала, что Майка дура! С ней разговаривать не о чем. Она Феллини не признает…»
Звон, гром, хлопанье двери, бег по коридору — возвращение из кино в одиннадцатом часу. Не раздеваясь, стоя посредине комнаты и раскручивая длинный шерстя — ной шарф, дочь сообщила новость: завтра хочет поехать за город дня на два. К Даше на дачу. Понимала, конечно, что наносит удар. Мать истосковалась, хотела провести субботу и воскресенье с дочерью. В глазах Иринки пряталась жалкая шкодливость. Ольга Васильевна старалась не показать ошеломления.
— Сначала разденься.
Иринка разделась, села к столу. Могла бы сесть на диван, рядом, но села подальше к столу, это значило: готовится сопротивляться. Тут вошла Александра Прокофьевна со словами, что чай горячий. Ольга Васильевна спросила, кто собирается на эту дачу.
Последовал пересказ имен, частью незнакомых, человек восемь. Надо же ей немного подышать воздухом для здоровья. Это же необходимо, правда же?
— А школу вы пропускаете?
— Да ну! — махнула рукой. — У нас в субботу один урок. Все болеют, такой ужасный грипп в Москве.
— Какой урок?
— Физика.
— Нет, — сказала Ольга Васильевна, — мне это не нравится.
— Мамочка, ну почему?
— Пропускать урок — мне это не нравится.
— Ну почему, почему? Что такого? Один урок, подумаешь!
— Если не понимаешь, объяснять не желаю. Не нравится мне это.
Ей не нравилось не только это и, наверно, гораздо больше не это, а то, что дочь так легко расставалась с нею, едва встретившись после десятидневной разлуки. Бог знает что. Быть такой тупой, так ничего не понимать в близких людях. Это от отца. На него находили периоды глухоты. Свекровь стояла рядом и слушала молча. Одобрить Иринкину авантюру она, конечно, не могла, но и сказать два слова в поддержку Ольги Васильевны было свыше ее сил.
— Мало ли что тебе не нравится. Мне тоже, может быть, кое-что не нравится… — Иринка сидела, выпрямившись, у стола, нога на ногу, с высокомерным видом, глядела в скатерть. Правой ногой она сильно раскачивала. Был как раз тот самый независимый облик, к которому так стремилась Ольга Васильевна.
— Что тебе не нравится?
— Кое-что.
— Например?
— Мало ли… Например, то, что ты часто уезжаешь из дома. То в Челябинск, то в Ленинград.
— Я уезжаю, милая моя, в командировки. Меня посылают, хочешь не хочешь. («Вот уже и оправдываюсь перед ней».) Ты думаешь, я так, по своей воле?
— Знаю, что в командировки, но ведь и самой хочется немного отвлечься, правда же?
— От чего отвлечься? Что ты глупости мелешь?
Но то были не глупости. Кровь прилила к лицу Ольги Васильевны. Свекровь продолжала стоять молча.
— С чего ты взяла, что я хочу отвлекаться? Кто тебе сказал такой вздор? — Ольга Васильевна не смотрела на свекровь, но всем нутром ощущала ее присутствие. Ей казалось, что свекровь улыбается.
— Всем нам, конечно, тяжело без папы, — продолжала бормотать девчонка, — но мы с бабушкой никуда не можем уехать. А ты…
— Что я?
— Ну, делаешь себе такие отдушины… А мне, может, тоже грустно дома сидеть, и я хочу отвлечься. Каких-то два дня.
— Дура ты, дура… — слабым голосом сказала Ольга Васильевна, вытирая ладонью глаза. — Я себе в этих командировках места не нахожу, стремлюсь домой… Каждый вечер по телефону… Дни считаю, когда увижу тебя, бессовестную… А ты — отвлечься… Неблагодарный ты человечек. Уходи, видеть тебя не желаю!
Иринка выбежала.
Александра Прокофьевна произнесла в пространство:
— Пускать за город, конечно, не следует.
— Почему вы это ей не сказали? — спросила Ольга Васильевна. — Хотите быть хорошей?
Потом стирала до полночи. Иринка, чертовка, ничего своего не выстирала. Да все равно перестирывать, только грязь развезет. На другой день перед школой, уловив минуту, когда бабка отлучилась из кухни, Иринка просила прощения. Как обычно, делала это казенно-жалобной скороговоркой: «Мам, прости меня, пожалуйста, если хочешь, я не поеду», но Ольге Васильевне показалось, что это важный акт смирения. Она простила, сказав, что поговорит с Дашиной матерью по телефону, после чего будет принято решение. Но главное: опять обволокла и обессилила жалость! Опять взглянула на девчонку со стороны, и сжалось сердце: сирота, все одна, одна в своей комнатке, отца нет, мать в разъездах… Как не отпустить? И — отпустила.
Старичок в черных валенках ходил по саду бесшумно, даже листьями не шуршал и все улыбался:
— Бабья лета нынче удалась…
Ольге Васильевне старичок не нравился. Она думала с беспокойством: «Боже мой, но почему же удалась?» В том золотом дне, в глушине сада, в беспамятности старичка была тревога, она ощущала отчетливо, только не могла понять: откуда и почему? Все эти поиски были ненужной забавой. Ну вот нашел замшелого старичка, когда-то служившего в магазине «Жак» на Петровке, — выдернул его, как туза из колоды, ну, а дальше? Тот ничего не помнил, не знал, не желал, не ведал, ибо после магазина «Жак» свалилась на него громадная жизнь, как гора камней, и все засыпало и задавило, что едва шевелилось в памяти.
— А господин Жак был знаете какой? Ого! Чуть что не по-ихому…
— А конец февраля? Вы помните?
Нет, ничего не высекалось, не вылущивалось из пещерных недр. Ведь были войны, лихолетья, далекие страны, ледяная стынь, смерти и погубления, а Городец с садиком, с тишиной возник лишь недавно, как поздняя зарница на краю жизни. И то спасибо, господи, за поздноту! Сережа вынул тетрадку с карандашом, да так ничего путного не записал. Дочка старичка, приземистая мрачноватая баба позвала ужинать на терраску. Там же была невестка этой бабы, медсестра, и двое ее ребят, а вскоре пришел муж медсестры, стариков внук, которого звали Пантюшей, это имя хорошо запомнилось.
Пантюша был сутул, на голову ниже Сергея, черен, броваст, из провальных глазниц так и зыркали злые, колючие, как у крысака, глазенки. То ли был он пьян, то ли болен чем-то, то ли просто злоба кипела в нем и душила его, как иных душит слишком густая кровь. Сначала молчал и все рассматривал Сережины брюки, ботинки, часы, свитер, потом так же внимательно изучал туфли Ольги Васильевны, ее замшевую курточку, тогда еще новую, нигде не засаленную и очень красивую. На курточку смотрел особенно долго. Ольга Васильевна даже подумала: «Неприятно смотрит». Сережа не замечал злобной внимательности Пантюши — как вообще не замечал внешности, взглядов и выражений лиц людей, его интересовали слова — и продолжал упорно добиваться у старичка каких-то подробностей насчет московской охранки. Пантюша вдруг спросил, притрагиваясь к рукаву замшевой курточки:
— И где же такие пиджаки берут?
— Это из Венгрии, — объяснила Ольга Васильевна.
— А! Не наш, значит? Ишь ты, как бархат…
— Да это замша, — сказала медсестра. — Что ж ты, не видишь?
— Я вижу. Я-то вижу.
— Ну и сиди молчи. Руками не трог. Рук не отмыл небось, а на него всякая грязь садится, на замшу. Ах ты горе! Вроде чуток загрязнил!
Она схватила платок, бросилась к рукаву замшевой курточки оттирать. Дети тоже подскочили, сгорая от желания потрогать необыкновенную курточку. Пантюша скрипел зубами. Старичок, как будто занятый беседой с Сережей и к тому же крепко недослышавший, внезапно и очень кстати вступил в разговор о курточке:
— Почему у нас нет? В Камергерском переулке, магазин братьев Шульц, «Земиш-ледер» называется… Перчатки, кофры…
Пантюша махнул на деда рукой.
Принесли картошку в чугуне. День неожиданно смерк, зажгли электричество. Сережа начал что-то записывать. Он все старался разузнать насчет пожара в Феврале семнадцатого: кто приказал, да кто тушил, да кто тогда командовал. Старичок был ничтожно мал в ту пору, пылинка в бурю, однако прошло пятьдесят три года — пылинка странным образом еще существует, еще пляшет в луче солнечного света, хотя все вокруг смыто, унесено… И Ольга Васильевна понимала, отчего с такой жадностью вслушивается Сережа в полувнятное бормотанье. Одно изумляло, и хотелось спросить: как же уцелел? Неужто никогда ничего… не тягали?
— Как не тягать? Это беспременно… — говорил старичок, улыбаясь. — То на войну, то излишки… У нас, конечно, специальность хорошая, так что нигде не пропасть… Мы начальство обшивали, всегда с куском хлеба… И даже на другой пункт затребуют, а наш начальник, товарищ Гравдин, не отдает, так что ссорились из-за нас…
И старичок подмигивал, радостный.
Пантюша, уходивший куда-то, опять возник за столом.
— Вы чего у деда пытаете?
— У вашего деда богатейшая жизнь, — сказал Сережа. — Разговариваем о жизни…
— А записываете на кой?
— Я историк, мне это важно для истории.
— Какой еще истории?
— Истории Февраля семнадцатого года. Февральской революции и всего, что с нею связано. Это сложный, еще не полностью изученный период, и каждое новое свидетельство для нас ценно. Так что вы извините за то, что мы вам надоедаем, мы скоро уйдем.
Сережа говорил спокойно, терпеливо, но тот хотел ругаться. Стал вдруг кричать:
— Не хрена выпытывать! Будя! Историки, туды вас! — И тряс перед лицом Сережи узластым пальцем. — Я вам не дозволяю!
Мать и жена успокаивали Пантюшу, но как-то робко. Ольга Васильевна испугалась. Надо было уходить. Но Сережа никогда не мог уйти вовремя, ему все казалось, что надо что-то доделать: допить, доесть, дообъяснить или же доругаться. И он вдруг, побагровев шеей, надувшись, пустился с пьяным дураком объясняться, что есть история и зачем она нужна. Пантюша слушал усмешливо и враждебно и, возражая, тряс пальцем:
— Да мы в школе эту историю читали. Зна-аем! Чего вы мне мозги пудрите? История, история… Хватит, есть одна история, а больше не нужно.
— Послушайте, Пантелей, вы кем работаете, собственно?
Когда Сережа разговаривал с простыми людьми, в особенности когда затевал с ними спор, у него возникал почему-то неприятный высокомерный тончик, по-видимому невольно, но людей раздражало. Пантюша грубо ответил: какое, мол, дело, где работает? Может, на Богородском кладбище за трояк могилы копает. А вы, случаем, не из милиции или из ОБХСС проверщики? Все это говорилось с угрозой и с трясением уже не пальца, а кулака перед носом Сережи. Ольга Васильевна тянула Сережу из-за стола. Но тот упорно сидел, втягивался в скандал.
— Нет, послушайте, я вас, кажется, ничем не обидел… Просто интересно — за что вы на меня взъелись?
— Да на хрена мне твоя история! Нечего выпытывать!
— История не моя, она и ваша тоже, и вашего деда. Она принадлежит всем. Вот, к примеру, село Городец очень древнее…
Медсестра шептала Ольге Васильевне, чтоб на мужа не обижались, он чумовой, у него голова слабая, и, если выпьет, обязательно начудит и к людям пристанет, за что его бьют тяжелым боем, а работает он механиком на элеваторе и вообще хороший человек. Старичок Кошельков, давнишний сотрудник московского охранного отделения, столь давнишний, что это потеряло теперь всякий запах и цвет, перегорело и выдохлось, дремал безмятежно, опустив на грудь голову в венчике младенческих белесых волос. Сережа что-то рассказывал о здешних князьях, о татарах. Ребятишки слушали. Пантюша щурил бешеный, неподкупный глаз.
— А ежели по шее? А? — Скрипел зубами. — Во будет история.
До автобусной станции идти, было долго, шли впотьмах. Ольга Васильевна дрожала то ли от страха, то ли от холода. Золотой день сменился осенним ледяным вечером. Она Сережу торопила, а он еле шкандыбал, разморившись от водки, и благодушествовал, и болтал, радуясь своей удаче со старичком. Ей это казалось вздором. Кому все это нужно? Лаяли собаки, некоторые, особенно злые, выскакивали на дорогу и бежали следом, он на них замахивался, швырял камни, они свирепели пуще.
— Перестань! — просила она.
Но он как будто получал удовольствие от войны с собаками. Каждую минуту могли появиться из темных дворов какие-нибудь парни с батогами, с вилами. Ох, как она на него сердилась! Все было нелепым мальчишеством: поездка, сидение до ночи, разговоры со стариком, выжившим из ума.
— А-рр! А-рр! — дразнил он собак и хохотал, слушая лай.
«Боже мой, — думала она, — и этот человек, почти пожилой, почти кандидат, почти ученый… Нет, ничего не добьется». Эта догадка, смешанная со страхом, пронзила ее в тот вечер на черной улице, где он сражался с собаками. Их окружала уже целая свора, от здоровенных псов до визгливых малявок, которые прыгали вокруг них, как блохи. И вдруг спасение — треск мотора, и, разгоняя псов и слепя фарой, подкатил сзади и остановился мотоцикл.
— Садись! История! — гаркнул Пантюша. Белый мотоциклетный шлем и белые перчатки с крагами, как у милиционера, светились в темноте. — Айда до электрички, до Вороновской, докачу! Семь километров, это мы счас.
Ольга Васильевна колебалась — все-таки чумовой, да и пьян, — но Сережа уже толкал силой в коляску, сам влез на багажник, обхватил недавнего супротивника под мышками, как лучшего друга, — мужчины, конечно, поразительны в том смысле, как легко их мирит и сплачивает хмель и как быстро они прощают друг другу оскорбительное, — свистнул по-бандитски, как не свистел много лет, и — помчались. Путешествие было недолгое, каких-нибудь четверть часа, но незабываемое. Ольга Васильевна полагала, что живыми из этой переделки не выйти. Бросало, кренило, дергало, зубы колотились, хотела крикнуть, но не могла разжать рта и набрать достаточно воздуху, и самым ужасным был страх за Сережу, который все норовил приподняться на своем багажнике и, выкидывая вверх руку, кричал громовым, парадным голосом: «Славным труженикам Городца — ура-а!» — или: «Героическим колхозникам села Барановка — ура-а!» Пантюше эти лозунги, как видно, нравились, он тоже кричал «ура», а дорога была мутна, призрачные избы летели навстречу, мелькали столбы, озаренные на миг, какие-то тени шарахались в кювет. «Одиноким прохожим — ура-а!» — орал Сережа и махал шарахающимся рукою с кепкой.
Ольге Васильевне было страшновато, но она смеялась про себя, даже плакала от смеха, а может быть, от того, что переполняло ее тогда. Она и сердилась на него, и любила его. Недолго этому крикуну, неизжитому мальчику оставалось шуметь на земле. Климук вдруг потребовал, чтоб Сережа подтвердил, что Кисловский просил у него документы для своей диссертации, а взамен обещал поддержку во время защиты — так оно и было, наверно, но ведь Сережа знал об этом только от самого Климука, тот был посредником, а теперь почему-то перевернулся на сто восемьдесят градусов и плел сеть на Кисловского. Сережа не умел интриговать, его это отвращало и злило, и он от злости совершал нелепейшие поступки. Господи, если бы он тогда объединился с Климуком! Тот его так просил! Все могло бы сложиться иначе. Он бы остался жить. Он бы прекрасно жил, работал, шутил, катался бы на лыжах до глубокой старости и двигался по лестнице вверх. Но неизвестно отчего умирают люди. Неожиданно что-то иссякает, благо жизни, как говорил Толстой. Благо его жизни еще длилось, он еще тормошился, еще чего-то хотел, стремился куда-то.
Он еще мог знакомиться с новыми людьми и приобретать, как ему казалось, новых друзей. Вдруг появилась Дарья Мамедовна. Вспоминать о ней тягостно. Но и отвязаться нельзя. Эта женщина впервые и по-настоящему напугала Ольгу Васильевну, потому что вдруг отчетливо представилось, как Сережа исчезает — с ней. Он и исчез потом, и она оказалась дальней виновницей, той точкой несчастья, из которой размоталось потом все непомерное несчастье, как буран в «Капитанской дочке», разросшийся из чуть заметного облачка. Люди в долгой жизни окружают нас какими-то скоплениями, друзьями: внезапно кристаллизуются и внезапно пропадают, подчиняясь неясным законам. Когда-то были друзья юности вроде Влада, студенческие компании, — сгинули без следа; потом Сущевская, художники, старики, пьянчужки, Валерка Васин с Зикой, — тоже канули в воду; потом люди из музея, те, другие, Илья Владимирович, — точно не было никогда! Потом институтские, васильковские, — теперь уж и эти провалились в тартарары… А потом Дарья Мамедовна со своими умниками…
Как только Ольга Васильевна увидела в первый раз зеленовато-смуглые щеки, белки с синевой, смоляные гладкие волосы без единого завитка, без волнистости, как облитую водой маленькую, змеиную голову, сердцем почуяла: беда! Сорок с небольшим, а фигура двадцатилетней девицы. Но не фигура тут была страшна, не смуглота, не ноги стройные, а та слава, что шла о ней и раздувалась подпевалами и дружками, шарлатанами разных мастей: о том, что будто бы умна необыкновенно. Чепуха это! Выдумка! Ольга Васильевна видела ее несколько раз, в гостях, в театре, и у Лужских, и однажды даже в собственном доме, и разговаривала с нею на всякие темы, от ее излюбленной парапсихологии до современной поэзии, и поняла скоро: королева-то голышом. Все показное, нахватанное, приблизительное, но при этом, конечно, самоуверенность адская и манера выражаться твердо и категорично, как бы вынося приговор, который обжалованью не подлежит. Неприятнейшая особа. Но какие-то дураки на нее клевали.
Ну, подумаешь, кандидат наук, почти доктор, — забавно, что про нее так и говорили, вероятно, сама такую аттестацию про себя распускала: «без пяти минут доктор» — ну, философ, психолог, передрала массу книг, язык хорошо подвешен, но ведь это не все. Можно нафаршировать себя информацией, но ума не прибавится.
Было шесть лет со дня Фединой смерти. Луиза пригласила друзей — Лужских Борю и Верочку, Щупакова с его Красивой, еще кого-то из института и Генку Климука с Марой. Сережа с Климуком уже были почти врагами. Луиза из-за этого нервничала, советовалась с Ольгой Васильевной по телефону: как быть? Не позвать Климука было невозможно. Он ведь изменился как раз после Фединой смерти, а при жизни Феди вел себя сносно, и Луиза знала его как доброго малого, старого приятеля. Сережа сказал:
— Черт с ним, пусть приглашает, я его трогать не буду.
Луиза Сережу любила, и, разумеется, он был для нее самым дорогим гостем — потому что и Федя его любил, — Климук тоже был товарищем Феди, спутником в последней поездке и, кроме того, организовал Луизе какую-то помощь от института. Устроил единовременную безвозвратную ссуду — и, как Ольга Васильевна потом узнала, сумма была не маленькая, вдвое больше, чем получила она, — и каждое лето отправлял Фединых детишек в институтский пионерлагерь. В общем, не пригласить его она не могла.
— Я знаю, его многие не любят, считают подонком, но ко мне он хорош. Не могу же я быть свиньей, — объясняла она Ольге Васильевне. — Каждый Новый год присылает открытки. И в Федин день рождения поздравляет, даже цветы привозил. А Сережа забывает…
Сережа забывал. Были случаи, забывал даже Ольгу Васильевну поздравить с днем рождения, а уж путал день — вместо четвертого июня поздравлял третьего — постоянно. Климук ничего не перепутает. Зачем-то ему было нужно быть с Луизой хорошим. Кажется, Луиза надеялась, что Климук поостережется садиться с Сережей за один стол, пить с ним водку и под каким-нибудь предлогом не явится. Но тот явился. Маре хотелось покрасоваться перед бывшими подругами, рассказать о новой квартире, голубом кафеле, обоях под дуб, о причудах спаниельчика Рэди и, конечно, о зарубежных впечатлениях — много всего накопилось, пока не виделись. А не виделись, правда, давно. Все как-то пожухли, потускнели. Красавица болгарка Красина, жена Щупакова, пожелтела лицом. Боря Лужский, врач-психиатр, с которым Ольга Васильевна так любила разговаривать, превратился в подсохшего пожилого человечка, к тому же в тяжелых американских очках, которые его старили. Борина жена Верочка жаловалась на печень и ничего не ела. Но заметней всех изменилась Луиза, похудела, ссутулилась, и платье на ней было такой чудовищной пошлости и дешевизны, что Ольга Васильевна ужаснулась: женщина махнула на себя рукой! Было ее очень жалко. Она, конечно, натужилась из последних сил, чтобы пригласить людей и угостить как следует, стол был богатый, но по жадным глазам детей, по тому, как они таскали потихоньку с тарелок то кусочек ветчины, то сыр, видно было, что едят такое не часто. Водки было две бутылки, раньше бы вмиг осушили и уже гоняли бы за добавкой, а теперь насилу за вечер «усидели» одну, и ту без охоты: у одного гипертония, другому ночью доклад писать, Климук и Боря Лужский за рулем. Сережа, конечно, не отказывался, но больше всех налегала Мара. Она была, кажется, единственной, кому шестилетие пошло впрок: налилась соком, раздобрела, стала плотной, холеной дамочкой, ее круглое, малиновое от водки личико сияло, выражая полное удовольствие жизнью. Ольгу Васильевну она раздражала. Не хотелось с нею разговаривать, а уж тем более слушать ее хвастовство.
Как только та заводила что-нибудь про спаниельчика Рэди, понимающего сто сорок слов, или про свои путешествия: «Представляете, ужас, идем в Ницце по бульвару…» — Ольга Васильевна нарочно громко перебивала ее, прося передать блюдо, или включить телевизор, или еще что-нибудь. Конечно, это было грубо, но Ольга Васильевна не могла себя побороть: слушать самодовольную Мару было несносно. И она, и Климук как будто напрочь выкинули из головы, что Сережа долго добивался поездки во Францию, она была ему необходима, но у него почему-то не вышло, а эта трясогузка, ничтожество, нигде не работающее, уже побывала и в Ницце, и в Париже, и в Риме, черт знает где. Ну, хорошо, исхитрились, словчили, но имейте же чувство такта, не хвалитесь на всех углах, тем более при Сереже.
Сережа, впрочем, как будто не слушал всей этой заграничной брехни, думал о своем, но Ольга Васильевна на Мару злилась. Люди, которые по мере житейских успехов обрастают все более толстой кожей, были всегда неприятны, и она старалась держаться от них подальше. Раньше она относилась к Маре терпимо, даже добродушно. Та казалась жизнерадостной полудурой, далекой от фокусов и интриг, которыми занимался муж. Но вот обнаружилось: с каким аппетитом пожираются плоды этих фокусов и интриг!
— Луизочка, киска, у тебя все очень вкусно, — снисходительно одобряла она, беря из вазы фрукты. — Почему мы перестали обща? Давайте обща!
Дети с тоской смотрели на то, как сочные груши конвейером, одна за другой, исчезают в зубастом рту толстой, малиновощекой тети в голубом парике.
А Климук был мрачноват или, может быть, переполнен чувством собственной значительности: не разговаривал помногу, как обычно, не балагурил, а когда Луиза принесла гитару — знаменитую Федину, на которой тот чудесно играл, — и попросила спеть любимую Федину «Быстро, быстро донельзя», Климук сказал, что такими делами больше не забавляется, просит уж извинить, голос сел.
Слишком большой человек, чтобы петь под гитару песенки неясного содержания, как студент в электричке. Вот если бы что-нибудь вроде «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Это уж Сережа после издевался над ним, дома, вспоминая все перипетии вечера, окончившегося ссорой и руганью. Было ужасно, что не смогли сдержаться и наскандалили в такой день. И Сережа был виноват не меньше Климука. Вначале все было тихо-мирно, они просто не разговаривали, сидели на разных концах стола. Их отношения еще не были смертельно враждебными, какими стали потом, но они демонстративно презирали друг друга: Сережа презирал его за карьерность, а тот его за якобы завистливость. Он ведь считал, что Сережа не может пережить его, Климука, сказочный взлет.
Все бы кончилось благопристойно, тем более что Климуки собирались рано уйти, если бы не одна институтская дама — имя забылось, — дородная, черновато-седая, которая стала вдруг с нажимом, очень пылко восхвалять Федино бескорыстие и неумение жить.
— Таких людей сейчас просто нет! — восклицала она. — Федор Александрович был в этом смысле уникальный человек. Ведь он ничегошеньки, ни вот столечко себе не урвал.
Голос дамы дрожал от волнения, она, конечно, преувеличивала, Федя был человек хороший, но не такой уж исусик, как она изображала. Еще кто-то заговорил на эту тему, стали вспоминать Федину доброту, привычку помогать людям и заодно уж, с оттенком умиления, — его бесхозяйственность и непрактичность, чем он действительно отличался. Луиза неожиданно расплакалась и стала жаловаться на все подряд: никуда дальше Крыма не ездили, не было у него хорошего зимнего пальто, квартиры не поменял, все хотел поменять через бюро обмена, а почему не добиться на работе, как все добиваются? Теперь уж надеяться не на что.
— О себе думал в последнюю очередь, а все о других, о других, — шептала Луиза, поникнув головой, заметно поседевшей.
Никто не хотел этих слез, жалоб. Спокойствие было подорвано, заговорили разом, охваченные порывом любви к Феде, такому чистейшему, не похожему на обыкновенных людей — боже мой, непомерное преувеличение, но в тот миг казалось, что прикоснулись к самой истине! — растроганные горем этой женщины, обликом бедноватой квартирки со старыми вещами и, наверное, подогретые рассказами Мары о климуковском процветании… А как будет выглядеть ее собственная квартирка через шесть лет?
Получилось так, что, восхваляя Федю, невольно метили в Климука. Тот напружинился, тоже пел про Федю что-то хвалебное, но в голосе была трещинка. Все катилось ко взрыву. Бородатый Щупаков, Федин друг школьных лет, как человек посторонний, поинтересовался наивно:
— Разве ученый секретарь имеет какие-либо особые возможности?
Вероятно, был не так уж наивен, просто первым нанес удар. Черновато-серая дама немедленно отозвалась:
— А как вы думаете?
— Я не знаю, посему интересуюсь.
— Возможности немалые. Да вот Геннадий Витальевич сидит перед вами, он подтвердит, я думаю.
Климук честно округлял глаза, мотал головой и признавался, что при всем желании не может понять, о каких возможностях речь:
— Ну, ей-богу, не могу догадаться…
— Да как же так, Геннадий Витальевич? У вас же все в руках! — искренне изумлялась дама.
— Что у меня особенное в руках? — Климук смеялся. — Вот уж не знал!
— Да все, все! Абсолютно все!
Дама тоже смеялась несколько льстиво. Климук пожимал плечами. Все могло уйти в шутку, в болтовню, но Сережа вдруг совсем иным тоном — твердым и хамоватым — сказал, что Федина талантливая диссертация нигде не напечатана, а твоя, мол, крайне посредственная, вышла уже двумя изданиями — в сборнике и отдельной книгой.
Климук сделал вид, что не слышал. Даже не посмотрел в Сережину сторону. Последовали чьи-то реплики, не относившиеся к делу, после чего Климук произнес со вздохом:
— Жаль мне тебя, Сергей… Как трудно, должно быть: все время следить за чужими успехами!
Было сказано беззлобно, как бы с сочувствием. Сережа взорвался: какие успехи, черт побрал? Да плевать хотел! Не успехи, а дерьмо! И еще что-то яростное, комом, криком. У Луизы побелело лицо. Ольга Васильевна махала руками Сереже, чтоб замолчал. Она испугалась за него. Мара ринулась защищать мужа и верещала, как на кухне. Кто-то из институтских — и дородная дама с пылкостью — ополчились на Сережу. Климук улыбался мстительно. Дородная дама восклицала:
— Непарламентские выражения! Вы допустили непарламентские выражения!
Климук и Мара ушли. Вскоре ушли и другие институтские. На их лицах, когда прощались с Сережей, было напечатано осуждение. А дородная дама, — которая, как выяснилось, была важной функционеркой, членом какой-то комиссии, — шептала озабоченно:
— Сергей Афанасьевич, должна вас огорчить: это называется casus belli!
Сережа усмехнулся беспечно:
— А, черт… Пускай!
У него сделалось веселое настроение.
Он стал разговорчив, шумлив, рассказывал, изображая забавно — как он умел, — про поездку в Городец и встречу со стариком Кошельковым. Луиза успокоилась, все подобрели, Щупаков с Красиной были, конечно, на Сережиной стороне. И неприятное, с криком, как-то сгладилось и заслонилось иным — забыть нельзя, но старались забыть, — и вот тут-то впервые возникло имя Дарьи Мамедовны. Сережа говорил, что в списке секретных сотрудников охранного отделения были три нераскрытых крупных фигуры, обозначенных кличками. Вероятно, с ними или с кем-то из них связаны аресты в 1916 году. Эти темы занимали его постоянно. Ольга Васильевна даже подшучивала над ним:
— Ты кто, историк или частный детектив?
И так как перед этим Красина, милая и добрая женщина, но не слишком далекая, рассказала об одной крестьянке из горного села на юге Болгарии, которая обладает даром провидения и какими-то другими парапсихологическими талантами — настолько удивительными, что к ней приезжают из-за границы, и знакомая Красины получила от нее точный ответ по поводу своего погибшего таинственным образом друга, — кто-то шутя сказал: а вот обратиться к такой пророчице и спросить бы по поводу секретных сотрудников! Вдруг откроет секрет? И совсем уж смехом кто-то предложил: а если спиритическим сеансом вызвать дух полковника Мартынова и все у него вызнать? Тут Боря Лужский и рассказал про Дарью Мамедовну. Это уж без шуток, она занимается парапсихологией всерьез, а заодно интересуется всякого рода оккультизмом, восточными магами, медиумизмом и прочими темными делами. При этом в высшей степени образованна, знает четыре языка, выступает с лекциями. Отец ее кавказский человек, оттого она Мамедовна, он был врач-гомеопат, очень богатый, умер во время войны, а мать из дворян.
Так заинтриговал, что все стали требовать, чтобы с нею познакомил, привел бы к кому-нибудь из общих знакомых в гости. Особенно горячился Сережа. Еще бы, экзотическая личность: она и дворянка, и восточная женщина, и медиум, и профессор! Боря обещал непременно это сделать. Его жена Верочка охладила общий энтузиазм, сказав, что Боря сам знает Дарью Мамедовну едва-едва, познакомился у Костиных, это молодые физики, очень талантливые, и вряд ли мимолетное знакомство позволит пригласить эту женщину в дом.
То, что Верочка назвала Дарью Мамедовну холодновато этой женщиной, еще более насторожило Ольгу Васильевну. Значит, и Верочка чует тут опасность. А Верочка не станет неспроста опасаться, она рассудительная, умная. Ольга Васильевна спросила:
— Вера, а ты знакома с Дарьей Мамедовной?
— Видела один раз. Вот тогда, у Костиных.
— Ну и что? Восточная красотка?
— Да нет, пожалуй… — с запинкой ответила Верочка. — То, что называется на любителя. Но наш Боря как раз любитель. По-моему, она его сразила наповал.
— Боря, немедленно знакомь! — дурачился Сережа. — Какой же ты товарищ? Как тебе не совестно?
— Не суетись, ты там не проходишь.
— Я не прохожу? А кто же — ты проходишь?
— Я под вопросом. Но все-таки есть шанс. Потому что я занимаюсь психиатрией, это ей близко. А ты, мой милый, со своей историей Февральской революции там даром не нужен…
Так они юродствовали и болтали, а у Ольги Васильевны сердце замирало от недоброго предчувствия. Выяснялись подробности: ей сорок с чем-то, но прекрасно выглядит, очень спортивная, плавает в бассейне. Была замужем, муж погиб. В прошлом году появилась в «Науке и жизни» ее статья о парапсихологии, что-то вроде «Таинственное вокруг нас», журнал нельзя было достать, в библиотеках записывались в очередь. Боря грозил Ольге Васильевне пальцем:
— Оленька, этот тип нацелился всерьез. Ты за ним приглядывай…
Все хохотали. Ольга Васильевна изо всех сил стремилась улыбаться и отвечать в таком же игривом тоне. Прошло месяца три. Ничего о Дарье Мамедовне не было слыхать. Потом Ольга Васильевна узнала, что Сережа с нею познакомился, он сказал об этом мимоходом, небрежно, как о факте совершенно незначительном. Может быть, так и считал сам, а может, притворялся. Рассказывая о выставке художника Преснина, анималиста, обмолвился:
— Кстати, познакомился там с этой Нигматовой.
— С какой Нигматовой?
— Да с этой, с Дарьей Мамедовной, о которой — помнишь? — Боря рассказывал у Луизы…
Еще бы не помнить! Она обомлела. Женя Преснин, оказывается, знал ее мужа, художника. Это что же, было заранее договорено? Ничего подобного, случайное знакомство. На роковую женщину не похожа. Какая-то сухонькая, поджарая, на цыганку смахивает. Говорила, что сейчас ее повсюду ругают, громят. После вернисажа Женя устроил аляфуршетик для своих, там были знакомые из дома на Сущевской. Кто-то сказал, что Георгий Максимович болеет…
Слова про отчима Ольга Васильевна расценила как дымовую завесу и вовсе на них не отозвалась. Она знала от матери — разговаривала чуть ли не каждый день по телефону, — что у Георгия Максимовича нехорошие анализы, он слабел, жаловался на боли и, вероятно, его положат в больницу. Все это было известно, и Ольга Васильевна очень жалела Георгия Максимовича и волновалась за мать. Но сейчас поразило другое: какой-то аляфуршетик, где Сережа познакомился и разговаривал с этой особой. Ольга Васильевна еще не знала ее, ни разу не видела, но при упоминании имени испытывала какое-то странное астматическое раздражение, вроде легкой одышки. В чем тут было дело? И вот в таком состоянии раздражения, слегка задыхаясь, она стала упрекать его за то, что, пользуясь вольным режимом дня и тем, что она занята на работе от звонка до звонка, он шатается один — к друзьям, на выставки, заводит знакомства. Точно холостой…
Пошлые слова, пошлые мысли… То, что она говорила, было постыдно… Но ведь это была болезнь, это была аллергия, несовместимость. Она задыхалась и не могла себя победить.
Зимою приехала тетя Паша из Василькова со слезами. Николай под арестом, будет суд, парню грозит большой срок. Семковские с васильковскими разодрались в клубе, а Колька как бригадмил хотел разнять и одного семковского срубил. Тот едва не помер, сейчас в больнице. Отходили, спасибо врачам. Он этого семковского сроду не знал, слыхом не слыхивал, и вот на ж тебе — несчастный случай. Чем срубил-то? Да топором. Хотел, конечно, разнять как бригадмил, а они, козлы пьяные, на него кинулись, он и махнул. Александра Прокофьевна заметила, что топор странное оружие для бригадмила.
— А, забыли? — сказал Сережа. — Дом-то с топориком, помните?
Тетя Паша плакала, просила помочь. Адвоката нанять, пускай хоть сколько возьмет, она денег достанет, корову продаст, мотоцикл продаст. Александра Прокофьевна стала суетиться. Хотя дело казалось ей безнадежным. Ездила в Васильково и в райцентр Рябцево, где он сидел под арестом, разговаривала со следователем, с начальником милиции. И после первой же поездки (было глубокой осенью, в конце ноября, погода стояла отвратительная, внезапный холод и мокрый снег, все уговаривали ее не ехать, Сережа кричал на нее: «Я тебе запрещаю! Думать не смей! Ты старуха и должна вести себя как старуха!» — такие грубости позволял себе не часто, это уж с перепугу, она отвечала: «Никогда не буду вести себя как старуха, и если обещала человеку, женщина меня ждет, значит, я должна ехать», он еще покричал, погрозил и поехал в институт, уверенный, что мать не совсем уж свихнулась и останется дома, Ольга Васильевна ушла на работу, Иринка — в школу, а старуха взяла зонт, надела свой туристический наряд времен наркома Крыленко, резиновые сапоги и отправилась на вокзал), — и вот, вернувшись вечером, измученная и продрогшая, похожая на жалкое, страховидное чучело, она рассказала, что дело обстоит совсем не так, как изобразила тетя Паша. И хуже, и лучше. Сережа был рассержен на мать, не захотел слушать и нарочно вышел из-за стола, а Ольга Васильевна всегда была для старухи не лучшей собеседницей, поэтому свекровь стала все рассказывать Иринке. Голос ее звучал, как ни странно, бодро.
Она узнала вот что. Колька был, конечно, так же пьян, как остальные, но драка затеялась не на пустом месте. Замешана некая Раиса. Семковские приставали к ней, хотели мстить за то, что бросила одного семковского ради Кольки. Этот тихоня Колька, болезненный и невзрачный, хороводился со многими девками и считался почему-то завиднейшим женихом. Раиса от него как будто уже и ребенка ждала, но тетя Паша полагала, что врет, и Колька на ней жениться не собирался.
— Я ее убедила, что нужно стоять как раз на противоположной позиции, ты понимаешь? — объясняла Александра Прокофьевна Иринке. — Только тут наша надежда. В припадке ревности и защищая честь матери своего будущего ребенка…
Она говорила с Иринкой как со взрослой. А девчонке было тогда четырнадцать лет. Ольге Васильевне это не нравилось, но ведь сделать замечание невозможно, тут же обиды, резкости. Она терпела эту нудню с Колькой, разговоры свекрови, ее суету, звонки, телеграммы — та влезла в дело всерьез и действительно нашла адвоката, бойкого старичка по фамилии Луповзоров, — и постепенно все более удивлялась: откуда такое рвение, такой пыл в защите чужих людей? Кто такие для нее, да и для всех тетя Паша и Колька? Случайные домовладельцы, хозяева дачки, дравшие за лето вполне безбожно. Говорить с ними было не о чем. И Александра Прокофьевна редко с ними разговаривала, лишь иногда их поучала. Конечно, Кольку было жаль…
События эти совпадали с тяжкой болезнью Георгия Максимовича, маетой матери. И с нависавшею тенью Дарьи Мамедовны. Ольга Васильевна нервничала из-за всего. Ее раздражали беспомощность матери, эгоизм дочки, невнятная жизнь мужа — что он делает днями, когда она на работе? — и теперь еще хлопоты по чужим делам вздорной свекрови. Вместо того чтобы как-то помогать по хозяйству, содержать дом в чистоте… Пойти на родительское собрание в школу, как делают все бабушки и дедушки, когда родители заняты… От Сережи не дождешься, а Ольга Васильевна валилась с ног… Оплатить хотя бы жировки в приходной кассе днем, когда мало людей, — разве трудно? Все трудно. Намного трудней, чем ехать в дурную погоду за город на электричке, месить грязь на проселочных дорогах, высиживать в судах ради малознакомых и, в общем-то, далеких людей. Тут было много показного. Как всегда в этой женщине.
И как-то в крайнем раздражении от всего этого, — не в раздражении, а в приступе усталости, такой тотальной, когда голова перестает соображать и ты поддаешься всем подкорковым раздражителям сразу, — она сказала, что судьба Кольки интересует ее гораздо меньше, чем болезнь Георгия Максимовича. И пусть уж Александра Прокофьевна со своим показным человеколюбием оставит ее в покое. Это было несправедливо. Александра Прокофьевна меньше всего надоедала ей, но Ольга Васильевна слышала постоянные консультации по телефону, подробнейшую информацию за ужином, и еще Сережа пересказывал то, что слышал от матери. А кроме того, она только что пришла с Сущевской, где мать бесцельно металась и мучилась в горе, видя, как гибнет родной человек. Георгий Максимович был уже полмесяца в больнице. Ему становилось все хуже. Операцию сделали три дня назад, делал профессор Родин, известный специалист, и больница была хорошая, устроили туда с трудом, через Влада, было сделано, что в человеческих силах, и все же мать себя терзала: ей казалось, что надо было дать профессору Родину двести рублей перед операцией. Кто-то сказал такую глупость. Она не дала ничего. Потому что сказали поздно. И теперь ее грызла мысль, что из-за этого, может быть, операция не принесет избавления. Профессор Родин был с нею как-то сух, жестковат и сказал: «К сожалению, не могу вас обнадежить, хотя и не могу сказать, что конец».
Мать была убита этой фразой.
— По-моему, издевательство так говорить с родственниками! — возмущалась она сквозь слезы. — Кто дал ему право?.. Он говорил со мной как чиновник…
И тут же винила себя и ругала за слабодушие, за то, что язык не повернулся предложить профессору Родину деньги. Потому что, хотя ей сказали поздно, она и сама раньше об этом думала, но не могла решиться. Теперь, после операции, нужно было достать редкое швейцарское лекарство эритрин. Надо было обзванивать людей. Мать обессилела, лежала с тахикардией, и Ольга Васильевна провела два часа у телефона. Некоторые обещали узнать, поспрошать, но большинство говорили, что сами ищут редкие лекарства и не могут достать. Ольга Васильевна вернулась с Сущевской часов в девять вечера, выпила чаю и собралась позвонить матери, потому что ушла от нее с тяжелым сердцем. Просто узнать, как самочувствие, утихла ли тахикардия. Но пробиться к телефону было невозможно.
Александра Прокофьевна разговаривала с адвокатом Луповзоровым. Это продолжалось ровно сорок минут. Наконец Ольга Васильевна подошла к старухе вплотную и шепотом сказала, что ей нужно срочно звонить. Свекровь недовольно кивнула и, поговорив еще с минуту, повесила трубку.
— Александр Иванович рассказывал о суде. Для меня это очень важно! — сказала она строго.
Ольга Васильевна ответила тоже строго:
— А мне — позвонить маме. Она плохо себя чувствует.
Нет, свекровь не спросила: что с Галиной Евгеньевной? не нужна ли помощь? какое-нибудь лекарство? Кое-что она могла доставать в одной поликлинике на Кировской. Эритрин вряд ли. Но ведь можно спросить. Она не относилась к матери враждебно, никогда с нею не ссорилась, если и бывали сдержанные споры, то в давние времена, когда мать занималась Иринкой и Александра Прокофьевна поучала ее. В те дни на почве обоюдной экзальтации и любви к младенцу закипали иной раз крохотные смерчики. Все давно забылось. Теперь наступили времена покойного равнодушия. Любой посторонний, нуждавшийся в товарищеской помощи, был для нее ближе, чем мать невестки.
Вот после той секундной стычки у телефона, ничем не кончившейся, Ольга Васильевна, придя из коридора в комнату, и сказала про «показное человеколюбие». Сережа тут же вскинулся, как зоркий постовой с ружьем:
— Парень получил вместо семи лет три! Это что? Показное? Нет, моя милая, это истинное… тебе недоступное…
Она что-то ответила. Потому что уж очень он вскинулся. Очень уж встал на защиту матери. Ну, может, она была не права, даже наверняка не права, свекровь помогала людям порою от чистого сердца — не могла иначе, это привычка, воспитание, а вовсе не заслуга, — но ведь нужно было понять, в каком состоянии Ольга Васильевна вернулась с Сущевской. А он решил обидеться. Вдруг увидела, что он входит в комнату в пальто, в шапке, с тем выражением угрюмой окаменелости и стиснутых челюстей, какое появлялось у него в минуты крайней обиды, и кружит по комнате, ища чего-то.
— Ты куда?
— К Федорову.
Нашел, что искал, — портфель, — и бросил туда какие-то бумаги.
Федоров был его приятель по музею, пустой малый. Из тех болтунов, к кому он странным образом лепился и которые его самого тянули вниз. Слава богу, встречаться стали реже, потому что Федоров переехал куда-то в страшную даль, за Кузьминки. Она спросила: что за срочность? Никакой срочности, просто обещал приехать. Помолчав, добавил: там будет Дарья Мамедовна. Оказывается, Федоров ее прекрасно знает. Она приедет поздно, после лекции. Это известие произвело на Ольгу Васильевну такое впечатление, будто в соседнюю комнату влетела шаровая молния, и стало видно, как комната озаряется светом, и слышно потрескиванье.
Ослабшим голосом — ей показалось, что все кончено, он уходит навсегда, — она спросила, как он думает возвращаться. Был одиннадцатый час. Он сказал, что останется там ночевать. Он говорил спокойно, даже несколько ворчливо, как будто она приставала с пустяками, и у нее сил не было возмутиться и закричать: да что это, черт возьми, за бардак? Почему ты уходишь из дома ночевать черт знает куда?
Он держался как человек, делающий нечто совершенно естественное: разумеется, ехать в половине одиннадцатого куда-то за Кузьминки — это значило остаться там спать. Что странного в том, чтобы переночевать иной раз у приятеля? Да ничего странного, боже мой! Но в их жизни такого заведения не было. Никогда еще не было. И вот он, воспользовавшись обидой, как-то спокойно и нагло вводил это новшество. Она молчала, ибо все это ошеломило ее, в особенности Дарья Мамедовна.
Он сказал: «До свиданья!» — и вышел.
Раньше, бывало, ругались, ссорились из-за чего-то отчаянно, он уходил, уносился или она уносилась к матери, но такого — чтоб тихо, без шума, взял портфельчик, сказал «до свиданья»… Как разлука чужих людей: на часок или на всю жизнь, это безразлично.
На похоронах Георгия Максимовича она рыдала неудержимо, почти в беспамятстве — холодная весна, орали галки над крематорием, — ее держали, чтоб не упала, упасть хотелось, продолжение жизни не имело смысла, накануне он сказал «может быть» и опять ушел до ночи. Он требовал, чтобы она прекратила его мучить. Нельзя было сказать простой фразы, сделать ничтожное замечание: тут же схватывался и уходил. Она спросила всего лишь:
— Может, у тебя роман с этой Дарьей?
То уходил к Федорову, то еще куда-то. Говорил, что парапсихология интересует его всерьез, и верно, читал старые книги, какую-то чепуху вроде «Голоса безмолвия» Блаватской, журналов «Ребус» и «Вестник загробной жизни» — кто ему давал? — и новые американские, английские журналы, сидел со словарем, делал выписки и сам шутил над собой, но ей было не до шуток. Она, как биолог, прекрасно знала цену всем этим бредням. А его запутывала женщина. Она хотела получить над ним власть.
— Зачем тебе это нужно?
— Не зачем. Я хочу понять, чем люди занимались в течение тысячелетий. Кроме того, мой полковник Мартынов был спиритом и состоял членом тайного кружка. В связи с этим имел даже неприятности в шестнадцатом году…
Когда он как бы шутя рассказал, что был у Федорова на спиритическом сеансе и они вызвали дух Победоносцева, который сказал темную фразу: «Не сим победиши» — и они спорили два часа люто о том, что бы это могло значить, его мать наконец не выдержала и устроила скандал. Кричала, что отец умер бы от стыда, если бы такое началось при его жизни. Сын Афанасия Троицкого — спирит! Сын участника революции, соратника Луначарского! Если бы отец встал из гроба… Он заметил ядовито:
— Ага, ты допускаешь такую возможность?
Разумеется, тут была во многом игра, шутовство — он пока еще не превратился в полного кретина, — и тут были неудачи, угнетавшие его постоянно, и тут было то самое ужасное, о чем Александра Прокофьевна не догадывалась: Дарья Мамедовна. Сначала он ездил к Федорову к черту на кулички, звал с собой Ольгу Васильевну, но не было никакого желания ехать в такую даль слушать глупости, и она отказывалась, высмеивала его, издевалась над ним. Все впустую. Как-то потратила целый вечер на чтение журнала «Спиритуалист» за 1906 год, оборванные брошюрки в бумажных обложках валялись у него на столе: что-то потрясающее по жалкости и провинциализму! Иногда она смеялась, иногда злилась, но более всего изумлялась тому, что чепуха на постном масле — все эти медиумы, планшетки, низшие духи, высшие духи, загробные голоса — дотащилась до наших дней. Начитавшись журнальчика, она пришла к двум выводам, сильно ее испугавшим. Первый — ярыми энтузиастами во всей этой музыке были женщины. Тут крылась какая-то приманка для них. Знаменитая Блаватская, авторы «Спиритуалиста» Быкова, Сперанская, Щеголькова, какая-то очень активная Капканщикова. «С жиру бесились, что ли? Им бы помотаться по магазинам, по ателье, постоять бы в ГУМе в очереди за сапогами…» И второй вывод, страшноватый: пустота всего, что касалось вызова духов и якшанья с загробным миром, была столь очевидна, что, если он продолжал отдавать этой дребедени время, это значило — тут были другие причины. Вот почему, когда он сказал «может быть» и ушел, сердце ее упало оттого, что было готово упасть: она ждала такого ответа. И никто так не рыдал над гробом Георгия Максимовича у Донского монастыря, как Ольга Васильевна.
Сережа держал ее с одной стороны, Влад с другой. Она ощущала гранитное Сережино спокойствие. Однажды он прошептал холодно:
— Надо взять себя в руки!
Потом Влад повел ее осторожно в сторону — это было в тот момент, когда заиграла музыка, — и, отведя к стене, достал из кармана пузырек с лекарством, стаканчик и дал ей выпить. Она сказала, глядя в его старое рябое лицо:
— Георгий Максимович тебя любил, Владик…
Влад кивал скорбно, но с оттенком какой-то тайной начальственности. Черный казенный автомобиль ждал его на площадке перед входом в крематорий. Ольга Васильевна подумала: все могло быть иначе, если бы Влад не привел тогда Сережу, она бы не мучилась. Прошла очень быстро жизнь. Сережа стоял не оглядываясь, теперь он держал под руку мать Ольги Васильевны. Музыка убивала все. Потом поехали на Сущевскую, там хлопотали соседки, добрые женщины, распоряжалась незнакомая дама по имени Генриетта Осиповна, из московской организации, энергичная и деловая, как раз такая, как нужно, — она называла мать «моя дорогая», — художники быстро перепились, криком о чем-то спорили, про Георгия Максимовича говорили с невозможными преувеличениями, и поэтому казалось, что лицемерят, и все вещи в мастерской — картины, багеты, гипсовые модели, банки, кисти — выглядели осиротевшими, никому не нужными и чужими. Дядя Петя, превратившийся в белого тощего старичка, весь вечер кашлял трубно и кричал на кого-то: «Да бросьте вы!»
Мать в этой суматохе и тесноте потерялась, вид у нее был такой, будто она тут случайно. Ольга Васильевна думала о матери со страхом: как она будет жить? Осталась ночевать с матерью, а Сережа с Иринкой и Александрой Прокофьевной ушли домой.
Первая жена Георгия Максимовича была в крематории и приехала после на Сущевскую, но не пришла в мастерскую, хотя приглашали, а устроила, комедиантка несчастная, свои поминки — на том же этаже, в комнате одной художницы. Некоторые гости ходили от одних блинов к другим. Дядя Петя иногда распахивал дверь и кричал в пустой коридор грозно:
— А вот пойти сейчас — и всю посуду в черепки! Поминальщики нашлись!
Из комнаты художницы что-то отвечали, но не было слышно. А Ольга Васильевна сидела на кушетке рядом с бородатым стареньким Лихневичем, который все не уходил, подливал то чаю, то наливки и рассказывал, плача, о житье на Муфтарке сто лет назад, когда они с Георгием Максимовичем, молодые нахалы, задумали покорить Париж, и еще Марк Шагал был с ними, и что из этого вышло — поминальные блины на Сущевской, — и советовал два рисунка сангиной, церковь на Монмартре и автопортрет с кривым лицом продать, а все остальное подарить кому угодно, кто возьмет, потому что лучшее Георгий Максимович сжег собственными руками в тридцатых годах, такая дурость, минута слабости, и жизнь раскололась, как этот гипс, ни собрать, ни склеить, пошла какая-то труха, заседания, комиссии, заказы («Не подумай, Оля, что я завидовал, я его жалел, бедного Жоржа»), но Ольга Васильевна, уже оплакав отчима и разорвав сердце сочувствием к матери, оглушенной и не понимавшей будущего, думала о том, почему Сережа не остался с нею, Иринка уехала бы со свекровью. Так должно было быть. Но он не захотел. «Ну, мы пошли, — сказал он. — Отвезу Иринку. Ей пора спать».
Он жил отдельной жизнью. Работа перестала интересовать его, диссертация не двигалась. Зато рассказывал о забавных ответах и удивительных пророчествах, которые получались на «вечерах со стаканчиком». Она продолжала во весь этот вздор не верить, — ну можно ли поверить в серьезность рассказа о том, что удалось наладить связь с некиим братом Арнульфом, монахом-францисканцем, жившим в шестнадцатом веке в Швейцарии, и теперь он ведет с этим Арнульфом регулярные беседы? — и все сильнее крепло убеждение в том, что Дарья околдовала его.
Первый раз увидела ее случайно в театре. Были в «Современнике» на премьере. Гуляли в антракте в фойе на втором этаже, и вдруг он стиснул очень больно ее руку — было потом неопровержимой уликой, уж очень больно, как тисками, чисто рефлекторный жест — и шепнул:
— Там в углу Дарья Мамедовна!
Прежде чем посмотреть в угол, она посмотрела на него. Он залился краской. Дарья Мамедовна была смугла, худощава, с серебром в черных волосах. Она смотрела на Сережу, когда он подходил, без улыбки и даже, пожалуй, неприветливо. Рядом с нею сидел молодой человек, плохо выбритый, в белой грязноватой водолазке. Сережа поздоровался и познакомил Ольгу Васильевну. Молодой человек был моложе Дарьи лет на двадцать. Она его не представила. Никакого разговора не произошло, хотя Сережа потоптался два-три лишних, неловких мгновенья — в ту секунду Ольга Васильевна испытала мучительный стыд, — и они отошли.
— Мне тебя очень жаль, — сказала Ольга Васильевна.
— Почему жаль? Что за ерунда! Не понимаю, что ты плетешь! — хорохорился он и, обидевшись, не разговаривал с нею до конца антракта.
Спектакль был веселый. Они не смеялись. Тогда обдало, внезапно — как холодом, — предвестьем беды.
Второй раз — на набережной, в доме с кариатидами, с комнатушками, напоминавшими давнишнюю комнату-обрубок на Шаболовке. Там жил какой-то федоровский приятель, инженер-автодорожник, спирит и собиратель книг по магии и оккультизму. Показывал старинную книгу под названием «Чаромутие». Сережа звал несколько раз посмотреть, как все это происходит, но ей не хотелось, ужасно не хотелось: она чувствовала, что он приглашает неискренне. Он лгал, приглашая:
— Пойдем, сходим… Посмеемся.
А на самом деле не желал, чтобы она там появлялась. Поэтому надо было себя пересилить. Их жизнь распадалась, превращалась в осколки, в мозаику, и это было похоже на сон, всегда отрывочный, мозаичный, в то время как явь — это цельность, слитность. Она пришла с головной болью. В коридорчике висел плакат: «Тишина — ты лучшее из всего, что слышал». Стоял сладковатый, как в церкви, запах свечного дымка и горячего воска. Все разговаривали едва слышно, бросали как попало пальто и шубы в коридоре на сундуки.
Она заметила: давно не тертый, серый от грязи паркет.
Ее полнила тупая решимость, какая бывает только во сне: поговорить с этой женщиной. Но той не было. Она пришла часа через два, когда все кончилось. У людей, которые усаживались вокруг стола, был напряженный и скрытно сконфуженный вид. Никто не шутил, не улыбался, но старались не смотреть друг на друга, а смотрели на середину стола, где на листе бумаги с нарисованными по кругу буквами алфавита стоял небольшой стаканчик. Было пять женщин и четверо мужчин. Сережа сказал, что они из технического мира, а одна женщина, как выяснилось потом, была театральной кассиршей. Тут же был Федоров, неестественно молчаливый и сумрачный. Руководил действиями инженер-автодорожник, бледный человек с русой шкиперской бородкой, говоривший отрывисто и быстро. Каждая его фраза имела оттенок команды, это было неприятно. И сам этот человек, манерно одетый, в красном, толстой вязки шерстяном жилете, с шнурком вместо галстука, показался Ольге Васильевне неприятным. У него были длинные пальцы с беловатым налетом вокруг ногтей. За вечер он ни разу не посмотрел на Ольгу Васильевну, хотя, она ощущала, он всеми органами чувств как бы следил за ней. Кто-то сказал, что необходимо открыть окно, другие возражали, из-за этого возник спор. Две женщины, требовавшие открыть окно, спорили необыкновенно горячо и яро и даже угрожали, если не будет по-ихнему, покинуть собрание, которое потеряет будто бы всякий смысл. Было ясно, что тут вопрос не о свежем воздухе, но о чем-то высшем, глобальном. Хозяин, на короткое время заколебавшийся, затем решительно нашел выход: открыл дверь в соседнюю комнату, а в той комнате растворил окно.