Жить Метлицкая Мария
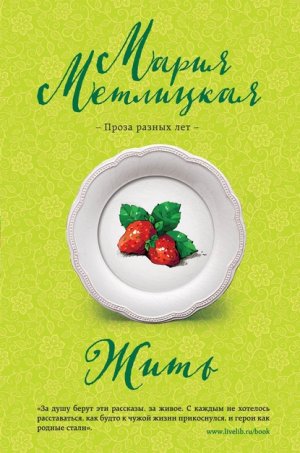
Циничность мужа ее раздражала, но разве она сама не такая? Разве она не жила как удобно? Да, не кланяется и не благодарит, все принимает как должное – высокомерно, с достоинством. А разве она не королева? Уж в мужниных глазах – точно! Вот и не надо себя терять. Кстати, он точно так же высокомерно – она слышала – разговаривает с подчиненными.
Принимали гостей. Терпела, а куда денешься? У них был свой круг, и игнорировать это было невозможно – от этих нужных людей зависела Петечкина карьера, значит, ее благополучие.
Когда дочке исполнилось восемь, Петечку послали за рубеж в долгожданную длительную командировку – первым замом посла в небогатой восточной стране. Галюнечке ехать туда не хотелось – замкнутый мир, климат, жара и влажность, новые лица, от которых не спрячешься, – все на виду. Да и в Москве ей было неплохо. Но как отказаться? Никак. Пришлось собираться. Тату оставили с нянькой – тихая Лида по-прежнему жила у них. И дочка, надо сказать, ее обожала. Можно было сдать дочь на время в интернат, но Петечка возражал.
«Ну и ладно, – решила Галина Ивановна, – пусть живет». Да и Тата устроила страшный скандал: «Останусь дома и только с Лидой!» Что копья ломать? И Галина Ивановна согласилась: «Черт с вами». В конце концов, хотя на первом этаже безотлучно дежурит консьержка, оставлять пустую квартиру как-то не очень. Заодно пусть охраняют, все польза.
Кстати, вот что интересно. К десяти годам некрасивая и белесая Тата вдруг изменилась. Потемнели и загустели жидковатые волосики, неожиданно потемнели и стали густыми ресницы, крупные, чуть навыкате глаза ярко заголубели, и даже курносый маленький нос вдруг стал вытягиваться и принял вполне благообразную форму. Галина Ивановна с удивлением разглядывала фотографии дочери, присланные Лидой. Нет, всем известно, что дети меняются! Но то, что невзрачная дочь превращалась в красавицу? Это не то чтобы обрадовало Галину Ивановну – это ее удивило: надо же, сработали все-таки гены! Порода, куда от нее денешься!
В командировке все было так, как она и предполагала, – раздражало ее все, от климата, от которого портилась и желтела кожа, до липкой и влажной жары и одинаковости каждого дня. Бесконечные сплетни на бабских посиделках у бассейна, тупые разговоры о детях и ценах, хвастанье удачными и, главное, дешевыми покупками, обмен кулинарным опытом – невыносимо. Галина Ивановна, ненавидевшая общение в принципе, поджимала губы и отодвигала свой шезлонг. Разумеется, жены посольских ее возненавидели – зазнайка, капризная дура, отвратительная хозяйка и так далее.
Галине Ивановне было абсолютно все равно. Ненавидят? Да ради бога. Презирают? Подумаешь! А она их? Мелкие, суетливые и завистливые душонки – что с них взять?
Но и от скуки было не спрятаться. По вечерам чуть не выла. И завыла бы, если бы была уверена, что не услышат. Но стены в посольском доме были тонкими, почти фанерными.
Ни пожаловаться, ни поговорить не с кем.
Муж… Да что муж? Разве он когда-нибудь был ей другом? Близким и родным человеком, способным понять и услышать? Да и как объяснить ему, как? Ведь любая бы на ее месте радовалась жизни.
Теми тоскливыми и невыносимо длинными, душными вечерами и появилась первая рюмочка – лекарство от тоски и одиночества. А что, оправдание. Нет, это была не рюмочка – это был стакан для виски: тяжелый, прохладный от льда, с толстым устойчивым дном, прозрачный как слеза.
Сначала поморщилась – горько. Ее никогда не тянуло к спиртному – так, на праздник стопочка водки и полфужера шампанского, да и то сладкого, как газировка.
Но вдруг приятно закружилась голова и поплыл низкий, серый от влажности потолок. Размякли ноги, расслабились и безвольно упали на колени размякшие как тряпки руки. А самое главное – внутри, где-то глубоко в животе, стало тепло, почти горячо и как-то спокойно.
«Мне легче! – с удивлением и радостью подумала она. – Меня отпустило!»
Довольно долго Петечка, Петр Васильевич, ни о чем не догадывался. Галюнечка была о-го-го каким конспиратором. Незадолго до прихода мужа – короткий взгляд на часы – шли в ход кофейные зерна, зеленый и горький, невозможно душистый лайм, от которого еще долго и приятно пахли пальцы, кусочек лаврового листа или просто конфета – обычная родная карамелька, знакомая с детства: «Лимончик» или «Снежок». Расчет был и на то, что муж уставал, приходил измочаленный, замученный. Тучному Петечке климат тоже не подходил. Единственное, что он отмечал, – жена, любименькая Галюнечка, повеселела. «Привыкла, – с облегчением подумал он. – Вот и славно». И снова ее пожалел: «Бедная девочка! Ребенок в Москве, бабы все эти. Конечно, не Галочкин круг! Да и вообще – я целый день на работе, а она, бедная? Чем ей заняться? Хоть бы подружилась с одной из этих куриц! Но нет, невозможно».
И по-прежнему, если не с большей силой, обожал свою «девочку» и горячо восхищался ею.
«За что это, господи? – с тоской думала, глядя в потолок, Галина Ивановна, когда ей приходилось уступать алчущему любви Петечке. – Поскорее! Поскорее бы это закончилось». А Петр Васильевич, несмотря на свой смешной и карикатурный вид, любовник был сильный и страстный. «Нет, он и вправду ненормальный! – раздраженно думала она. – Убогий какой-то, ей-богу! Идиот».
А безделье все больше затягивало и засасывало, как болото. Раз-два в неделю поездки по магазинам – продуктовым и промтоварным, убогим и смешным: сплошной китайский ширпотреб, в Москве у нее были тряпки получше! Конечно же, она не готовила. Но Петечка не жаловался – обедал в посольской столовой или перекусывал в городе.
Письма от Лидки приходили диппочтой раз в месяц. Это был подробный отчет, строго по пунктам, в столбик: оценки обожаемой Таточки, что и как она ест, ну и все остальное, про Таточкиных подруг и ее увлечения.
Увлечения были, конечно же, еще вполне детскими и невинными – посиделки с подружками во дворе, если непогода – в подъездах, походы в кафе-мороженое, в кино. Ну и всякая мелочь, которой живут нормальные, обычные советские дети. Училась Тата не очень – были и двойки, и даже колы. Но об этом Лидка не писала: Тата не разрешала, да и зачем волновать родителей?
В конце письма была приписана пара скупых и жалких строк от дочери: «Папочка, мама! – Именно так, в таком порядке. – У меня все нормально. С Лидой не ссоримся, учусь нормально, чувствую себя нормально. Скучаю».
От этих бесконечных «нормально» Галину Ивановну трясло.
А Петр Васильевич писал дочери длинные и подробные письма, в которых описывал окрестности, местные достопримечательности, природу, тропические душистые цветы: «Ах, Таточка! Тебе бы понюхать! Такой аромат – восхищение!» И даже писал о жуках и местных бабочках, к письму прилагались и фотографии. К его подробному и довольно нудному письму Галина Ивановна, хмурясь, приписывала пару скупых и строгих строк: «У нас все нормально! Пиши подробнее, Тата! И слушайся Лиду!» Все с восклицательным знаком. И там фигурировало это нормально, так ненавидимое ею.
Петечка сетовал:
– Галя! А если потеплее и подробнее? Тему раскрой! – пробовал он шутить.
– Ты уже раскрыл, – поджимала она губы. – Ни добавить, ни убавить.
И разговор был окончен. При любой возможности, если кто-то летел в Москву, Петр Васильевич передавал дочке посылки – тряпки, обувь, конфеты, жевательную резинку – большую редкость и почти валюту в те годы, а также, потихоньку от строгой супруги, кое-что из косметики: светлый лак для ногтей, душистый вазелин для губ в тюбике или тени с блестинками – на школьный вечер.
Галюнечкины «стаканчики» все-таки обнаружились. Как веревочке ни виться, кончику все же быть. Петр Васильевич пришел в ужас.
– Господи боже, – шептал преданный коммунист и безбожник, – господи, скажи, за что мне такое! И что же мне делать?
Но господь, не привыкший к диалогу с коммунистом Комарниковым, молчал.
Впервые Петечка устроил скандал и шипел страшным шепотом, боялся, что услышат соседи:
– Нас отправят домой! Слышишь? Нас отправят в двадцать четыре часа! Это позор и конец моей карьере! А ты отлично знаешь, как я шел к этому! Через какие буераки, через какие… – Петечка не договорил, горестно махнул пухлой ручкой и в бессилии шумно упал в хлипкое, шаткое казенное кресло, которое под ним угрожающе скрипнуло. И тут же, после минутного перерыва, заорал как подорванный: – Галя! Очнись и приди в себя! Иначе могила, кранты!
Кажется, впервые Галюнечка испугалась. Правда, быстро пришла в себя:
– Ах, так? Испугался? Ну и отлично! Домой? Лично я об этом только мечтаю!
– А я? Как же я? – тихо промямлил он и пустил слезу.
Она демонически расхохоталась.
«Ведьма, – с тоской подумал Петечка, – определенно ведьма, так меня заворожила. Жить без нее не смогу – просто тиски. И не отпускает ведь, а? И что я в ней нашел?» – впервые подумал он, глядя на растрепанную, неприбранную и пьяную жену. Но понял и другое: уже ничего не исправить. Пить Галюня не бросит, как ни старайся. Хотя бы назло ему. Потому что она его ненавидит. Это он уже понимал.
И тут случилось несчастье – Петечка, Петр Васильевич, нелюбимый, постылый муж, неожиданно рухнул с инфарктом, прямо посреди рабочего дня. Поднявшись из-за стола, он упал вниз лицом и, конечно, разбился. По лицу, заливая рот и глаза, текла кровь. Позвали Галину Ивановну – благо недалеко. Как она страшно кричала! Но «Скорая» примчалась, когда еще не все успели испугаться.
Петра Васильевича увезли в госпиталь. Особых надежд не давали – опасный возраст, полнота, недавно диагностированная гипертония. Да и климат – этот кошмарный климат гипертоникам решительно не подходил.
Галюня испугалась – по-настоящему испугалась, всерьез. Петечка умрет? А что будет с ней? Она ни на что не способна и ничего не умеет. Да страшно представить – она пойдет на работу и целыми днями будет сидеть в душной, пыльной комнате с замученными и тоскливыми бабами, думающими об одном – достать шмат черного мяса и кусок отвратительной, несъедобной колбасы? Нет, никогда! Она просто не сможет – она привыкла к другому! Она знает точно – не сможет, и это не жизнь! А значит, выход один – уйти из этой жизни! Она так и сделает, да. Если не выживет Петечка. Значит, необходимо его выходить – с врачебной помощью, с божьей, с ее – какая разница?
Галюня почти не выходила из госпиталя, поразив этим не только Петечку, но и всех остальных работников миссии. Петечку вытянули, но, по строгому предписанию врачей, находиться в стране не представлялось возможным. Через две недели после его выписки из госпиталя они улетели в Москву.
Дома их встретила растерянная Лида, понимающая, что придется искать новую работу, и расстроенная дочь, давно отвыкшая от родительской заботы и привыкшая к свободе. Погрустневшая Тата прекрасно понимала, что замечательной и вольной жизни пришел конец.
Она не ошиблась – верную, любимую Лиду Галина Ивановна рассчитала через неделю, предварительно устроив скандал по поводу «страшной запущенности квартиры». Это, конечно, было вранье, но заплаканная и перепуганная насмерть Лидочка целую неделю ползала по углам и стирала пыль с потолков. Не помогло.
Молча, со сведенными бровями и поджатыми губами, хозяйка ходила по своим хоромам, пытаясь отыскать промахи домработницы. Лида с отчаянно бившимся сердцем, замерев, стояла, прижавшись к дверному косяку, и ожидала приговора.
Денег при расчете выдали рупь в рупь. Тихо возмутился даже Петр Васильевич, и вспыхнула повзрослевшая Тата. Но Галина Ивановна пресекла все волнения:
– Ах, мало? А кормежка, а проживание? А почти три года как у Христа за пазухой? Нет, вы просто сошли с ума!
Спорить никто не стал, не решились. Но Петр Васильевич, щедростью не отличавшийся, пугливо оглядываясь, умудрился сунуть заплаканной Лиде пару зеленых хрустких полтинников.
Тата тогда окончательно убедилась: мать – сука и сволочь. Кроме отца, смешного, несуразного, нелепого и слегка презираемого (конечно, за преклонение перед этой!), Лидочка, простая как пятак, честная и верная, неподкупная Татина защитница, была единственным человеком, которого та любила.
Уход Лидочки она матери не простила. И вообще поняла окончательно: перед ней враг, хитрый, умный, опасный и сильный. Но ничего! Она, Тата Комарникова, в будущем – Наталья Петровна, тоже не промах – как-нибудь справимся. Посмотрим еще, кто кого. Вот тогда и началась затяжная, непрекращающаяся, не знающая уступок, перемирий и белых флагов война с матерью.
«Почему? – часто спрашивала себя Галина Ивановна. – Почему я так к ней отношусь?» Ответа она не находила. Нет, все понятно – дочь росла дерзкой и наглой, избалованной и капризной. Дочь раздражала Галюню до зубовного скрежета. А уж если она улавливала что-нибудь Петечкино, например интонацию или улыбку! С брезгливостью она говорила дочери, когда та, страшная сластена, ела торт или мороженое: «Разнесет тебя, матушка! Как отца разнесет!»
Да и Татины взаимные с отцом любовь и нежность друг к другу Галину Ивановну раздражали. Претензии копились и выплескивались в скандалы – громкие, склочные, некрасивые. Истеричные.
Дочь, разумеется, чувствовала ее нелюбовь – подростки к такому особенно чувствительны и реагируют остро. И отвечала ей тем же.
Но случилось то, чего не ожидала придирчивая Галина Ивановна: к шестнадцати годам ее дочь Тата окончательно превратилась в красавицу. Обычная, совершенно обычная девочка вдруг расцвела как маков цвет!
Ну просто сказка про прекрасного лебедя!
Два года Галина Ивановна держалась. А потом ее пьянки возобновились – снова втихаря, украдкой, теперь еще и от дочери. Правда, пила она только тогда, когда Петечки не было дома – слава богу, командировки его были частыми. А что до дочки, так той вообще до нее дела не было – возвращалась домой она поздно, с матерью не общалась, проскакивала в свою комнату. Раз – и нет. Сквозняк.
Нет, однажды все же зашла – так получилось, был какой-то срочный вопрос. Ну и увидела всю довольно страшную и странную картину: в полной темноте, с плотно зашторенными окнами, Галина Ивановна сидела на ковре, и перед ней стояла ополовиненная бутылка шотландского виски. Раскачиваясь из стороны в сторону и тихонько поскуливая, она, увидев дочь, вздрогнула и засмеялась страшным, дьявольским смехом, а потом, подняв на нее мутные, измученные глаза, зло и коротко выкрикнула:
– Чего тебе? Выйди вон, поняла?
Ошарашенная, дочь тихо ответила:
– Да, поняла. – И покорно вышла из комнаты.
Галина Ивановна всхлипнула и усмехнулась: конечно же, эта стерва тут же доложит отцу! Не то чтобы было страшно – Петюнечку она не боялась. Но все равно неохота: скандалы, уговоры и мольбы – противно.
Муж приехал через пару дней, и все началось:
– Галюнечка, детка! Любимая, дорогая! Ну как же так, милая? Снова-здорово?
Самое неприятное, что муж стал настаивать на лечении.
Какое лечение? Пережить еще и этот позор? Нет, невозможно и никогда!
– Оставь меня в покое, – с угрозой потребовала она.
Петечка промолчал и развел руками:
– Ну, дело твое. Я предложил.
В это же время их интимная, так сказать, личная жизнь с Петюнечкой была наконец завершена. Предлог, по счастью, нашелся, и Галина Ивановна поставила решительную и жирную точку и выставила Петюнечку из спальни в кабинет. Навсегда.
Как ни странно, муж с этим тут же смирился и не возразил. С напускным трагизмом – Галина Ивановна всегда остро чуяла ложь – развел пухлыми ручками:
– Так, значит, так. Лишь бы тебе было хорошо, мое солнышко!
И очень скоро, буквально через пару месяцев, завел любовницу – молодую и симпатичную секретаршу Леночку. Очень удобно: всегда рядом.
Леночка оказалась восхитительной – страстной, горячей, нетерпеливой. Как он мог не замечать ее раньше? И Петр Васильевич обалдел – вот, оказывается, как оно бывает! А он прожил жизнь, считая, что так, как это происходит у них с Галюнечкой, – это нормально.
Жену он разлюбил в один день, и это оказалось так просто, что он сам удивился. Его горячая любовь к ней, всепоглощающая, ненормальная, испарилась – как не было. «Кончился ресурс», – облегченно выдохнул он и радостно вступил в новую жизнь – с Леночкой.
Через полгода он выбил своей прекрасной Елене квартиру – пусть маленькую, однокомнатную, в далеком Алтуфьеве, но свою. Да и место для жарких встреч теперь было необходимо. Она, его прекрасная Елена, его волшебная девочка, всегда ждала своего Петечку с нетерпением, и это было приятно. В минуту, когда одышливый и, мягко говоря, немолодой любовник возникал в дверном проеме, Леночкины глаза разгорались счастливым огнем.
«Девочка моя! – взволнованно думал он. – Да я за тебя…»
Тут же, незамедлительно, подавался горячий ужин – домашние котлетки, большие, с ладонь, душистые и сочные, как в детстве, у мамы. Жареная картошечка с лучком, на сливочном масле – тоже из детства. Свежезаваренный чай – ароматный, коньячного цвета, со смородиновым листом – боже, какой аромат!
Леночка осторожно выясняла, что любит Петечка. Леночка дарила Петечке рубашки и майки с трусами – вот она, истинная забота. Леночка варила любимое вишневое варенье – и снова сплошное восхищение и восторг: «Милая моя, дорогая!»
В августе ездили за грибами – далеко, куда-то за Вязьму – Леночка была заядлой грибницей, как и Петечка в детстве. Притомившись, разжигали костерок и запекали картошку. Смеясь, словно дети, вытаскивали ее из костра – обуглившуюся, обжигающую, с лопнувшей угольной корочкой. Перекидывали друг другу, с ладони на ладонь, дули и снова смеялись. Леночкины руки и лицо, перемазанные золой, казались Петечке воплощением совершенства.
– Какая же ты у меня красавица! – искренне восклицал он. – Как же мне повезло!
Он смотрел на Леночку, на ее молодое, гладкое, румяное и чистое лицо, на смешные веснушки, на яркие и живые глаза, и его охватывало такое чувство восторга и счастья, что он пугался: что будет дальше? Он понимал: если отнять у него эту девочку, он не просто скиснет, скукожится и пропадет – он умрет.
Но Леночка молчала. Ни одного вопроса – ни-ни! «Какая она тактичная», – восхищался Петр Васильевич. И снова был счастлив. Так счастлив он был сто лет назад, в той, прежней, жизни, когда повстречал свою Галю.
Но где та Галя и где та любовь? Все прошло, истаяло, испарилось.
Сейчас была только Леночка, Леночка, Леночка. Его счастье и его настоящая жизнь. Как ему не хотелось возвращаться домой! Мука, пытка, каторга, инквизиция. Какие, к черту, хоромы, какой обустроенный рай? Там, дома, – могила. Сырая и темная, страшная в своем непрерывном кошмаре. Там Галя, жена, которая теперь просто спивалась, уже не сопротивляясь и не скрываясь от мужа. Какая ей разница, когда давно на все наплевать? Как опостылела ей эта жизнь, кто бы знал: толстая, потная ряха ее ненавистного мужа. Наглое и насмешливое лицо дочери, глядящей на мать с презрением и брезгливостью. Ничего у Таты от нее, ничего! Малолетняя стерва, сталкиваясь с Галиной Ивановной в коридоре, шарахалась от нее как от прокаженной. Да она и была прокаженной, была. Что отрицать?
Муж и дочь с облегчением выдыхали только тогда, когда укладывали Галину Ивановну в больницу. Больница была районная, самая обычная, для обычных людей – разве Петечка может отправить ее в Кремлевку? Конечно же нет! Хлебнуть еще и такого позора? В районной, конечно, были страшная грязь, проваленные койки, застеленные серым, в пятнах, бельем. Постоянные окрики суровых и злых санитарок, равнодушие замученных врачей, невыносимый запаха туалета и отвратительная еда. Правда, Галина Ивановна почти ничего не ела, и на это ей было глубоко наплевать. Отправлялась она в больницу если не со смирением, то без скандалов и истерик, почти равнодушно. Теперь ей многое было уже все равно. В больнице ее слегка «подправляли». Ненадолго, но все же…
А дома опять начинались истерики и скандалы. И никакой жалости от этой малолетней гадины, никакого сочувствия. Даже несчастный Петюнечка жалел жену, но не родная дочь. «Какое жестокое сердце, – вздыхал Петр Васильевич, – какое равнодушие! Все-таки мать». Но тут же оправдывал дочь: «Галя сама виновата». Петюнечке было легче – теперь он почти не бывал дома, исчезая при любом удобном и неудобном случае. Соблюдаемые им прежде приличия давно канули в Лету – он уже ничего не боялся. В конце концов, жизнь одна! Да и та уже на излете.
В Алтуфьево переехали его вещи – костюмы и недавно приобретенные джинсы, а еще яркие, модные и легкомысленные рубашки – «бобочки», как называла их смешливая Леночка. И вправду, надо было молодиться, соответствовать, стараться. И он старался. Он всегда был старательным.
Полный и неуклюжий с ранней юности Петечка враз похудел аж на десять килограммов! И, уж конечно, сразу помолодел, как бывает всегда.
Итак, все были по местам – мать почти постоянно в больнице, а резвый папан у любовницы. За отца Тата радовалась, но знакомиться с его молодой избранницей не торопилась – зачем? Угрозу она от Леночки не чувствовала, хотя представляла, что может произойти. Вот, например, засунут мать в интернат или в психушку, и отцова любовница переедет в их квартиру.
Но пока было тихо, мать снова подолгу лежала в больницах, а папаша торчал у своей пассии. Ну а Тата наслаждалась жизнью.
Была у нее за эти годы и страстная, роковая любовь, окончившаяся, как обычно бывает, двумя абортами подряд, и короткие, необременительные романчики – на месяц или на два. Были мужчины взрослые и опытные, были и восторженные юнцы – все было, все.
Однажды попался один иностранец, югослав, чернявый и синеглазый – полный восторг. С этим Драганом они хорошо погуляли – ресторан в Архангельском, шикарный «Берлин», напыщенная «Прага», валютный бар в «Метрополе» и, конечно, новомодный «Белград». Югослав был щедр, любил загулы с купеческим размахом и, разумеется, девочек.
Тата влюбилась, но понимала – без вариантов. Во-первых, синеглазый красавец был женат, а вовторых, ее отец никогда не допустит брака с иностранцем.
А через несколько счастливых и загульных месяцев Драган уехал к родным берегам – командировка в веселой России закончилась. И Тата отправилась на очередной аборт. Тогда у нее уже был свой гинеколог Вахтанг Георгиевич. «Придворный абортмахер», – шутила она.
После отъезда красавца снова стало грустно. Нет, кавалеров было навалом, а вот серьезного не было. А возраст уже был почти критическим – девятнадцать. А к двадцати двум принято было выйти замуж.
Когда ей попался Никитин, она и не рассматривала его серьезно – обычный симпатичный парень, с хорошей спортивной фигурой, серьезный и скромный. Хотя последние качества Тата достоинствами не считала. Ей нравились наглецы. Определенно провинциал был сильно и страстно влюблен, что тоже было приятно. Было понятно, что он стремится сделать карьеру, подняться и даже взлететь. Было ясно, что он упертый, и это шло ему в плюс. К тому же семейка его жила далеко, а это уже второй несомненный плюс. Да и вообще понятно: этот будет любить, будет верным и трепетным и всегда, всегда будет считать, что она его осчастливила.
А ситуация дома, если честно, тревожила. Было ясно, что мать уже не вылечить, и конец ее был вполне предсказуем, и папуля свалит в ту же минуту, сомнений не было. А ну как не свалит, а притащит свою пассию сюда? Нет, невозможно! А если Тата будет замужем, тогда папаше придется уйти.
«Надо брать этого олуха теплым, – решила Тата. – А там разберемся».
Галина Ивановна в очередной раз пришла из больницы. Физически чувствовала себя неплохо, а морально… Она уже почти не реагировала на происходящее, равнодушие и безразличие накрыли ее целиком: был человек – нет человека. Днями она сидела не двигаясь: летом на балконе, с вечной сигаретой во рту, зимой и осенью – на прокуренной кухне, в вонючих и густых, слоистых облаках дыма и страшной, невыносимой духоте.
Тата врывалась на кухню и, невзирая на погоду, резким движением настежь распахивала окно. Мать усмехалась, провожала ее затуманенным взглядом и не возражала.
На скандалы уже не было сил.
В тот день, когда дочь объявила родителям о скорой свадьбе, они всей семьей, что случалось теперь очень редко, завтракали на кухне.
Услышав неожиданную новость, Галина Ивановна оживилась, слегка выпрямила спину и с испугом посмотрела на мужа.
– Замуж? – переспросил обалдевший Петр Васильевич. – А зачем, детка? Разве тебе, – он растерялся, подыскивая слова, – разве тебе с нами плохо?
Тата рассмеялась.
– Зачем? Хороший вопрос! – Но тут же нахмурилась: – Плохо? Да отвратительно, папа! У тебя своя жизнь, а про нее, – Тата презрительно кивнула на мать, – что говорить?
Галина Ивановна вздрогнула, услышав последнюю фразу: «Вот дрянь!» Но перечить Тате ни она, ни Петр Васильевич не осмелились. Мать из-за страха скандала, к которым она давно потеряла интерес, а отец – из любви к дочери, да и у самого рыльц было в пушку.
В голове прокрутилось все быстро: Тата будет при муже, конечно же, молодые останутся здесь. Ну а он сможет спокойно уйти, перебраться к Леночке. Дочь взрослый, самостоятельный человек, уже не ребенок, и его совесть чиста.
Галину Ивановну новость расстроила – она понимала, что жизнь ее не облегчится явно. У этой появится защитник, возможно, почище папаши. Да и гонору прибавится наверняка. Да и как они уживутся с чужим человеком?
Она попробовала возразить – так, для порядка. Получилось тихо, несмело и вяло, ей никто не ответил.
«Мебель, – мелькнуло в ее затуманенном лекарствами мозгу. – Я просто мебель, старая, ветхая, неудобная, которая всем мешает и от которой хорошо бы избавиться, просто руки пока не дошли».
Никитин отлично помнил день знакомства с Татиными родителями и накрывший его мандраж. Петр Васильевич, будущий тесть, ответственный работник и человек из другого мира, вызывал у него почти священный трепет – не только в силу статуса, нет. Он был отцом его Таты. А теща… Нет, он не боялся ее – скорее остерегался, так как был в курсе: Татина мать – тяжелобольной человек.
Петр Васильевич строго и пристально разглядывал будущего родственника и тут же учинил ему подробный допрос обо всем по порядку, с частыми остановками: мать, отец, дед с бабкой. Брат.
Спросил про армию. Узнав, что Никитин отслужил, одобрительно сказал:
– Долг родине, так сказать, отдан? Ну, молодец. Уважаю.
Ну и про все остальное, включая планы на жизнь и взгляды на нее же, тоже подробно выспросил.
Никитин робел, от волнения обливался холодным потом, путался в показаниях, сбивался, припоминая подробности, и с мольбой бросал редкие взгляды на любимую: «Спаси!»
Через час Тата резко и невежливо оборвала отца и предложила приступить к занятию более приятному – обсуждению свадьбы.
Да, свадьба должна была быть роскошной. А как же? Или она не дочка Комарникова? Или у них не хватит на это средств? Или она, Тата, не заслужила?
Готовились тщательно: в валютной «Березке» были приобретены югославский костюм и обувь жениху и роскошное платье для невесты – сливочное, кружевное. Тата была в нем красавица! Никакой фаты – немодно, мещанство. Только цветы в волосах! Ресторан. Конечно, шикарный – «Прага», посольский зал: расписные потолки, ковры, тугие каменные скатерти, немыслимой красоты хрустальные люстры. Невеста выбирала меню сама – придирчиво, строго, сурово нахмурив брови: крабы, черная икра, заливная осетрина.
Никитину было неловко от этих роскошеств, безумного пафоса и запредельных, немыслимых цен. Подташнивало от услужливо склоненного метрдотеля с глазами пустыми и наглыми, как у бультерьера, от прилизанных официантов, напоминающих майских жуков, от купеческой роскоши, неслыханной, непозволительной, показушной. Думал он о том, как изумятся, растеряются и оробеют его родители – честные и скромные труженики, бедные провинциалы.
Пытался охолонить молодую, но тщетно – Тата сверкала очами, возмущалась, обижалась, подолгу дулась и прекращала с ним разговаривать. В конце концов он смирился и больше в спор не вступал: все девочки мечтают о красивой, необычной свадьбе. К тому же она привыкла к богатству, так зачем же ее лишать светлой мечты?
Перед свадьбой Тата устроила настоящий скандал, настаивая, нет, даже требуя, чтобы матери в ресторане не было. Кажется, даже Петр Васильевич обалдел от заявления дочери и все бормотал:
– Как же так, Таточка? Как же так? Нет, невозможно! А что скажут люди?
Дочь зло усмехнулась:
– Люди? А что они скажут, когда твоя Галюнечка в доску нажрется и, например, устроит скандал?
Родители Никитина приехали первым ранним поездом, в самый день свадьбы. Он встречал их на вокзале. Брат не приехал – Тамара лежала в больнице. Мать с отцом были напуганы предстоящим знакомством с новой, важной родней, будущей невесткой и больной, несчастной, пьющей сватьей. Ну и, конечно, смущало то, что в дорогом столичном ресторане бывать им не приходилось.
Запуганных и растерянных родителей Никитин привез с вокзала на Фрунзенскую. Галина Ивановна, накануне накачанная снотворными, слава богу, спала и должна была проспать долго, почти до обеда. «Ну и хорошо, – подумал он. – Дай бог, чтобы не проснулась – к часу нам в загс, все удачно». Но расчеты не оправдались: Галина Ивановна проснулась и вышла из спальни нечесаная, опухшая, заспанная. Зашла на кухню и уставилась на незнакомых гостей.
Петр Васильевич хлопотал, накрывая чай. Тата поспешно увела мать в ее комнату. Повисла неловкая пауза. Родители Никитина испуганно переглядывались. Мать оглядывала квартиру и еле сдерживала свое удивление. Хмурый отец молчал и смотрел на стол.
Разговор не клеился, хотя сват очень старался.
Но тут вышла Тата – в летящем воздушном платье, с цветами в волосах, светящаяся, счастливая, прекрасная, ошеломительная. От ее красоты у Никитина перехватило дыхание.
Он вздрогнул и посмотрел на родителей – мама чуть слышно охнула, а отец просветлел взглядом. И Никитин выдохнул. Свадьбу гуляли, как и было задумано: шумно, сыто и пьяно – богато. Зал сверкал и переливался хрусталем, и блики от люстры отражались в тяжелых серебряных приборах. Столы, покрытые до синевы накрахмаленными скатертями, были плотно уставлены деликатесами, от которых разбегались глаза, – пышно украшенные и богато декорированные блюда были похожи на муляжи. Гости, важные, напыщенные, тоже сверкающие и разодетые, говорили серьезные тосты и стучали ножами по бокалам, призывая всех к тишине.
Тата сверкала глазами, сияла лицом и, кажется, была счастлива.
«Это главное, – думал Никитин. – А все остальное мы переживем! Осталось недолго».
Родители сидели как мыши: тихие, оробевшие. Было заметно, что они не вписываются в это общество. На фоне жен важных гостей, с бриллиантами и голыми плечами, с прическами и в роскошных туалетах, его мать, в скромном, самодельно пошитом шелковом платье и старых туфлях, в дешевых сережках с красными камушками, с дурацкими «шестимесячными» бараньими кудрями, с перепуганным лицом, выглядела даже не бедной родственницей, а прислугой, посудомойкой, случайно присевшей на краешек стула.
За родителей, конечно, было обидно, а еще больше стыдно. И не только за них, но и за себя – за то, что стесняется их.
Но Татка, его любимая Татка, его молодая красавица жена была оглушительно счастлива. Сложилось все так, как она и мечтала – помпезно, с размахом. По ее мнению, безумно красиво.
Галина Ивановна явилась к десерту – именно в тот момент, когда торжественно был вынесен высоченный шикарный торт.
Никитин, поглядывающий на родителей, перехватил испуганный взгляд матери – та смотрела на дверь и толкала отца. В проеме распахнутой золоченой, с вензелями и блестящей латунной ручкой и скобами двери стояла его теща Галина Ивановна Комарникова, Галюнечка, Татина мать.
На ней было небрежно, кое-как, криво накинуто пальто, сквозь распахнутые полы которого бесстыдно светился знакомый старый халат. На синеватые, худые, босые ноги были надеты парадные лаковые туфли на каблуках. Галюнечка покачивалась, ее явно штормило. Но самым страшным было лицо: иссиня-белое, неживое, безумно и страшно размалеванное. Страшил и искривленный страшной гримасой криво накрашенный ярко-красной помадой рот, неряшливый высокий начес на голове и руки – старческие, подагрические, скрюченные, блестящие бриллиантовыми браслетами и кольцами – кажется, всем, что было у нее в арсенале.
То, что ее не ограбили по дороге, было счастливой случайностью. Конечно, она была страшно пьяна, под завязку.
Никитин с ужасом смотрел на эту картину и не знал, что делать, боясь даже представить себе, чем все это может окончиться.
Скумекал отец, сидевший с краю стола, у самого входа, чтобы подальше от всех. Сорвавшись с места, отец, а за ним следом и мать, тут же сообразившая, что надо делать, подхватили под руки сватью и вывели в коридор. Вслед за ними выскочил Никитин.
По высокой лестнице, держа ее, спотыкающуюся и почти падающую под руки, с трудом довели до выхода.
Никитин поймал такси, заплатив немыслимую сумму, и родители, сев по обе стороны от Галины Ивановны на заднее сиденье, уехали с ней домой.
– Подальше от греха, – приговаривала мать, – не дай бог, испортит детям праздник!
Когда наконец такси плавно отъехало от ресторана, Никитин возблагодарил бога: страшно было представить, что могло произойти. Бедная, бедная Татка! Дамоклов меч над всеми нами.
Жене он все рассказал через пару недель – не хотел портить настроение.
В тот же день родители поспешно уехали, да и он, если честно, их не отговаривал – было стыдно, неловко, тревожно: что еще выкинет милая теща? Да и вообще все надоели – очень хотелось остаться наедине с молодой женой.
На перроне, перед отходом поезда, мать утирала слезы и приговаривала:
– Как же ты, сыночка? Как же все будет?
Никитин злился, отец останавливал мать. Кое-как распрощались, а вот неловкость осталась надолго.
Началась семейная жизнь. После истории в ресторане тещу опять положили в больницу, тесть дома почти не бывал. А молодых все устраивало – свобода!
Прилежной хозяйкой его молодая жена стать не торопилась – да и ладно, его и так все устраивало. Готовые котлеты из кулинарии? Пожалуйста! Винегрет оттуда же – ради бога! Неглаженая рубаха? Не барин, погладит и сам, он привык. Все ему было вкусно тогда, все мило, все хорошо.
Разумеется, Никитин понимал, что у Петра Васильевича кто-то есть, но разговоров не заводил – не его это дело. Да и видел – Тате это тоже не очень приятно.
Кстати, тесть позже, после того как Никитин окончил институт, устроил его на работу. О такой работе даже мечтать было смешно и нелепо, и в голову бы не пришло мечтать о таком: начальником отдела в Совтрансавто.
– Ты же у нас втузовец? – коротко осведомился он и констатировал: – Подойдет.
Никитину дали приличный оклад, но самое главное – впереди маячили загранкомандировки, а это было куда ценнее, чем деньги! Это были возможности! Никитин понимал, что тесть думает о дочке, а не о нем. Дочка должна иметь приличного мужа, а приличный муж не может работать в каком-то КБ или торчать в гараже, пусть даже начальником.
В свою первую командировку, в братскую Польшу, он поехал через полгода. И это было только начало.
В то время, когда теща лежала «на лечении», тесть дома не появлялся – только если навестить молодых, чем-то побаловать. Он всегда появлялся с подарками – тяжеленными коробками с продуктовыми заказами.
Словом, детей не бросал. Ну и спасибо. От дочери, правда, глаза прятал и коротко спрашивал:
– Ну как там Галя?
Никаких «Галюнечек» уже давно не было. Никитин догадывался – в больницу к жене он не ездит. Да и Тата на все его призывы навестить, привезти матери нормальной еды отвечала жестко:
– Там все есть, ничего не надо. А будет надо – известят.
– Наверное, – соглашался Никитин.
Нет, он все понимал – конечно, Тате досталось. Но все-таки мать… больная несчастная мать. И разве так правильно? Спустя три месяца Галину Ивановну забрали домой и окончательно поняли, что теперь им не справиться. Срочно нашли и вызвали Лиду, бывшую Татину няню. Лида по-прежнему была одинока и все так же проживала в общежитии где-то в Сокольниках. Работала она на заводе, где «мыла стекло», как она сама говорила. Что это означало, Никитин не выяснял – зачем?
Самое странное, что эта несчастная затюканная и униженная той же Галиной Ивановной Лида с радостью согласилась «смотреть и ходить» за хозяйкой. И «ходила», и «смотрела», как самая верная и преданная дочь. Стало легче, конечно же легче! Но по большому счету ситуация не изменилась – в квартире на Фрунзенской была все та же ужасная, страшная жизнь. Несчастная кричала по ночам, пыталась открыть входную дверь и сбежать, норовила выпрыгнуть из окна, била верную Лидку, швыряла ей в лицо мокрые тряпки, выливала на нее горячий суп. Хулиганство, помешательство? А бог ее знает.
Это, конечно же, не украшало семейную жизнь молодых – у Таты начались скандалы и истерики. Сдавали нервы и у самого Никитина. А что делать? Сдать ее в сумасшедший дом? Наверное, выход… И все-таки Никитин сомневался. Все было безрадостно. Он выдыхал только в командировках, из дома старался сбежать. Тата это чувствовала и понимала, но продолжала скандалить. Работала она вполноги – папаша устроил товароведом в ювелирный магазин. Но вскоре оттуда пришлось уйти – Тата забеременела. Беременность была сложной и нервной – домашняя обстановка этому поспособствовала. Она ложилась в больницу на сохранение, Никитин сходил с ума, понимая, что любит ее по-прежнему, даже сильнее: она ждала от него ребенка!
Рожала она тяжело, с осложнениями. Никитин торчал во дворе роддома и выписывал до изнеможения круги под окнами родильного отделения. В каждом крике младенца он слышал голос своего, родного ребенка. Сын родился мелким и слабым – последствия тяжелой беременности и крайне тяжелых родов. Врачи тактично предупредили, что впереди все будет непросто.
«Да ерунда! – думал счастливый Никитин. – Выходим, вырастим! Подумаешь – слабый! Еще такого богатыря выращу – удивитесь! Вложу в парня все, что смогу».
О том, что им предстоит, Никитин и Тата, по счастью, не догадывались, иначе можно было сразу в петлю.
Как же Никитин любил сына! Он задыхался от молочного, «щенячьего» запаха, исходящего от его волос и кожи. Умилялся крохотным полупрозрачным ушкам, длинным ресничкам, упрямо сжатому ротику. Вставал по ночам, прислушиваясь к его дыханию, не брезговал стирать загаженные пеленки, подмывать, протирать, утирать младенческую рвотку.
У Таты были нервы. Вечные нервы, каждый день. «Нервный срыв», – говорила она. При этом жена тряслась над младенцем – любовь к сыну была у нее запредельной, ненормальной, звериной. Если ребенок капризничал или заболевал – обычное дело, животик, – Тата сходила с ума и требовала врача.






