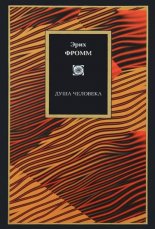Три билета до Эдвенчер; Под пологом пьяного леса; Земля шорохов Даррелл Джеральд
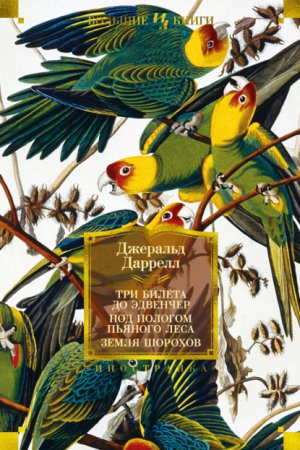
– Арапаима, – с удовлетворением констатировал Мак-Турк. – Плывет сюда. Смотрите вниз.
Решительно настроенный не упустить такое зрелище, я уставился в воду. Плеск раздался еще и еще, он все приближался, и вот совершенно неожиданно мы увидели большущую рыбину, она лениво проплывала в прозрачной янтарной воде под нами. На какое-то мгновение показалось ее массивное торпедообразное тело, высокий плавник, словно веер украшавший ее спину, и хвост, слишком тупой и короткий для рыбы таких размеров, – и вот уже она пропала в многоцветном отражении дерева, и мы ее больше не видим.
К сожалению, это был первый и последний случай, когда нам довелось увидеть арапаиму, одну из крупнейших пресноводных рыб, хотя они обычны в реках и озерах бассейна Рупунуни. Эти грандиозные рыбы вырастают до шести-семи футов длиной и весят от двухсот до трехсот фунтов. По словам Мак-Турка, самая большая из пойманных рыб достигала девяти футов в длину. Арапаимы настолько крупные и проворные рыбы, что, пожалуй, их единственные враги – человек да вездесущий ягуар. Человек охотится на них с копьем или луком, у ягуара свой метод. Он ловит момент, когда рыба подплывет поближе к берегу, а затем бросается в воду и ударами мощных лап, совсем как кошка бумажку, начинает выбрасывать рыбу на берег.
Мак-Турк сказал, что не составит труда добыть арапаиму с помощью копья, если мне хочется осмотреть ее, но мне просто совестно было убивать такое великолепное животное ради своей прихоти, а о том, чтобы поймать рыбу живьем, не могло быть и речи: если б даже это удалось, встала бы проблема доставки ее к побережью в нескольких сотнях галлонов воды. Даже я, при всей своей неистовой страсти к животным, был вынужден отказаться от мысли взять с собой в Джорджтаун живую арапаиму.
Мак-Турк сообщил нам любопытный факт об этой рыбе – факт, насколько мне известно, еще никем не отмеченный. В период выведения потомства у самки арапаимы появляется на голове нечто вроде железы, источающей белую, похожую на молоко жидкость. Мак-Турк утверждал, что не раз видел, как мальки собираются вокруг головы матери и, по-видимому, питаются этим молоком. Это было поразительно, и я все надеялся, что, пока мы будем на Рупунуни, посчастливится увидеть это, но нам не повезло. Открытие рыбы, которая «вскармливает» свою молодь, произвело бы сенсацию среди зоологов и ихтиологов.
Некоторое время мы сидели на дереве в надежде увидеть еще одну арапаиму, но вода внизу оставалась тихой и безжизненной. Тогда мы слезли с дерева и пошли кругом на противоположный берег. Здесь на мелководье Мак-Турк показал нам индейский способ рыбной ловли. Он снял с плеча небольшой лук – хилое и совершенно никчемное с виду оружие, приладил к тетиве тоненькую стрелу, зашел по колено в темную воду и несколько минут стоял неподвижно. Потом он вдруг поднял лук и тренькнул тетивой. Стрела беззвучно, без всплеска ушла в воду футах в пятнадцати перед ним и первое время торчала стоймя, так что над поверхностью виднелось дюймов пять ее древка, а потом словно обрела самостоятельную жизнь: вздрогнула, задергалась и быстро пошла зигзагами в воде в вертикальном положении. Через минуту-две древко стало все больше и больше подниматься над водой, потом наклонилось и почти плашмя легло на воду. На конце стрелы, в расплывающемся пятне крови, лежала большая серебристая рыба; стрела вошла ей в спину всем наконечником и частью древка. Вплоть до той минуты, пока рыба не всплыла на поверхность, я не видел в воде ничего, кроме пляшущей стрелы. Это оттого, что я смотрю с берега, решил я, вошел в воду и стал рядом с Мак-Турком. Некоторое время мы стояли молча и ждали, потом Мак-Турк сказал:
– Вон там… вон у того бревна, видите?
Я посмотрел туда, куда он указывал. Поверхность воды была как запыленное зеркало, и ничего особенного я не увидел. Но Мак-Турк видел. Он поднял лук и снова выстрелил, и вот уже вторая рыба всплыла на поверхность, нанизанная на древко стрелы. Мак-Турк трижды стрелял при мне таким образом, но я ни разу не видел рыбу до того, как она всплывала на поверхность со стрелой в спине. Многолетняя практика баснословно обострила его зрение, и он успевал увидеть едва заметную тень под водой, определить направление движения, сделать поправку на преломление и выстрелить до того, как я вообще что-либо замечал.
Когда мы вернулись к отмели в основное русло, где стоял наш ялик, Мак-Турк ненадолго оставил нас одних, и мы с Бобом, чтобы скоротать время, стали искать черепашьи яйца, но безуспешно, и тогда я решил искупаться. Дно реки, полого понижаясь, длинной отмелью уходило в воду и лежало не глубже шести дюймов от поверхности. Место выглядело вполне безопасным для купания, и вскоре Боб присоединился ко мне. Некоторое время спустя, забравшись по отмели чуть подальше в реку, он подозвал меня к себе и с гордостью указал на какие-то большие круглые ямы в песке. Сядешь в такую вот ямину, погрузишься по подбородок в воду – и чувствуешь себя словно в самой природой созданной ванне. Мы с Бобом выбрали себе по яме, разлеглись в них и – трулля-ля! – весело запели. Кончив купаться, мы, как два слабоумных, запрыгали по песку, чтобы обсушиться. Только мы начали одеваться, как появился Мак-Турк, и я принялся расписывать ему отмель – чудесное место для купания.
– А те ямы, что нашел Боб, лучше не придумаешь, – сказал я. – Сидишь в воде как раз по подбородок.
– Ямы? – переспросил Мак-Турк. – Какие ямы?
– А те, что в песке, вроде кратеров, – пояснил Боб.
– Вы в них сидели? – продолжал допрашивать тот.
– Ну да, – ничего не понимая, отвечал Боб.
– А что, они какие-нибудь особенные? – спросил я.
– Да нет, если не считать того, что они сделаны скатами, – отвечал Мак-Турк, – и если бы вы уселись на ската, вы бы и без меня узнали, что к чему.
Я взглянул на Боба.
– А они большие? – нервно спросил он.
– Да обычно как раз умещаются в яме, – ответил Мак-Турк.
– Господи боже! Я сидел в яме чуть ли не с ванну величиной! – воскликнул я.
– Ну да, бывают и такие, – сказал Мак-Турк.
К ялику мы возвращались в молчании.
Когда мы двинулись обратно вверх по течению к Каранамбо, река под закатным солнцем превратилась в сверкающую дорожку из расплавленной меди, над ней белоснежными цаплями плыли облака. В тихих затонах играли рыбы – внезапный всплеск, золотистые круги по воде. Наконец ялик, тарахтя мотором, обогнул последнюю излучину и протиснулся к своему месту посреди необычной флотилии, собравшейся в бухточке; мотор почихал и затих, над рекой воцарилась тишина, которую нарушали хриплые крики больших жаб на противоположном берегу.
– Как насчет купания? – спросил Мак-Турк, когда мы вылезли из ялика.
Я взглянул на сумеречную реку.
– Здесь? – спросил я.
– Ну да, я всегда здесь купаюсь.
– А пирайи?
– О, здесь они вас не потревожат.
Успокоенные этим заверением, мы разделись и скользнули в теплую воду. Течение напирало и дрожью отдавалось в теле. Футах в тридцати от берега я нырнул и не мог достать дна, уже на глубине шести футов вода была холодна как лед. Мы знай себе плавали, как вдруг со стороны небольшого островка, расположенного посреди реки, футах в полтораста от нас, донесся всхрап и громкий плеск.
– Что это? – спросил я Мак-Турка.
– Кайман, – исчерпывающе объяснил он.
– Они что, не нападают? – как бы невзначай спросил Боб, вставая солдатиком в воде и оглядываясь через плечо, далеко ли до берега.
Я тоже оглянулся и обнаружил весьма удивительную вещь: всего две-три минуты назад я думал, что до берега рукой подать, а теперь мне казалось, что нас отделяет от суши чуть ли не несколько миль водного пространства.
Мак-Турк стал уверять, что кайманы никогда не нападают на человека, но нам уже было не до купания, и мы быстрехонько выскочили на берег. Много ли радости купаться в реке, когда под тобой пятнадцать футов темной воды и ты знаешь, что там, в этой черной глубине, могут быть и электрические угри, и стаи алчущих пирай, и обходящий дозором свои владения кайман? Когда мы оделись, Мак-Турк направил луч карманного фонаря в сторону островка, и мы насчитали шесть пар красных, как раскаленные угли, глаз, светившихся над водой.
– Кайманы, – повторил Мак-Турк. – Их тут полно. Ну что, пошли ужинать?
И он первым двинулся между деревьями к дому.
Глава V. За муравьедом
Поймать гигантского муравьеда было одной из главных причин, почему мы отправились на Рупунуни: мы слышали, что ловить муравьедов в саванне куда проще, чем в гвианских лесах.
Прилетев в Каранамбо, мы три дня только и говорили что о муравьедах, и Мак-Турк пообещал нам устроить это дело. В одно прекрасное утро сразу же после завтрака перед нашим домом возник коренастый индеец, возник пугающе безмолвно, как это они умеют делать. У него было бронзовое, монгольского типа лицо и карие раскосые глаза, которые могли бы показаться хитрыми, если бы не робкий огонек, светившийся в них. Одет он был куда как просто: жалкие остатки рубахи и брюк, а на голове с гладкими черными волосами нелепая, сооруженная из материала, некогда именовавшегося бархатом, шляпа, какую носят разве что феи в сказках. Всякий, кто ожидал увидеть перед собой свирепого воина в пестром головном уборе из перьев и с раскрашенными племенными знаками из глины, испытал бы немалое разочарование. Но как бы там ни было, от него веяло суровой уверенностью в себе, и это обнадеживало.
– Фрэнсис, – сказал Мак-Турк, указывая на явившееся нам привидение. – Похоже, он знает, где можно найти муравьеда.
Знай он, где можно найти крупную золотоносную жилу, мы не обрадовались бы ему больше. Из разговора с ним выяснилось, что он знает, где был муравьед три дня назад, но осталось ли животное на прежнем месте – это вопрос. Мак-Турк сказал, что это надо проверить, и, если муравьед все еще там, пусть Фрэнсис приходит за нами, и мы отправимся на поимку зверя. Робко улыбнувшись, Фрэнсис согласился. В тот же день он ушел и вернулся наутро с вестью, что он определил местонахождение муравьеда и может провести нас к тому месту.
– Как туда добираться? – спросил я у Мак-Турка.
– На лошадях, конечно, – ответил он. – Брать джип нет смысла. Придется здорово мотаться по саванне, джип для этого не годится.
Я повернулся к Бобу.
– Ты умеешь ездить верхом? – с надеждой спросил я.
– Мне случалось влезать на лошадь, если ты это имеешь в виду, – осторожно ответил он и поспешно добавил: – Только на очень спокойную, конечно.
– Думаю, мы сдюжим, если вы дадите нам пару добрых смирных коняг, – сказал я Мак-Турку.
– О, я подберу вам пару смирных лошадей, – ответил Мак-Турк и начал утрясать с Фрэнсисом детали. Немного погодя он сказал нам, что мы должны встретиться с Фрэнсисом завтра утром в условленном месте милях в двух от дома. Оттуда начнется наш путь в неизвестное.
Приятных золотисто-зеленых тонов лежала саванна в первых лучах солнца, когда мы выехали на джипе к далекой кромке деревьев, где была назначена встреча с Фрэнсисом. Небо было нежно-голубое, цвета крыла сойки, высоко над нами медленно кружили два крохотных ястреба, отыскивая в просторах саванны свой завтрак. Над рыскающим носом джипа проносились прыгучие, как искры фейерверка, стрекозы, сзади вихрем взметалась рыжеватая пыль. Мак-Турк, небрежно держа одной рукой баранку, другой нахлобучил шляпу на лоб и, склонясь ко мне, заговорил, то и дело переходя на крик, чтобы перекрыть шум ветра и мотора:
– Этот индеец… Фрэнсис… не мешало бы предупредить вас… Он иной раз бывает чуть-чуть того… возбужденным… какие-то припадки, что ли… говорит, будто все кружится у него в голове… Вот почему-то и сегодня… Так что не мешает предупредить вас… Разумеется, это совершенно не опасно…
– Вы уверены, что это не опасно? – прокричал я в ответ, чувствуя, как вдоль спины у меня пополз холодок.
– Совершенно уверен.
– О чем вы? – поинтересовался Боб с заднего сиденья.
– Мак-Турк говорил, у Фрэнсиса припадки, – успокоил я его.
– Чего-чего? – переспросил Боб.
– Припадки.
– Припадки?
– Ну да… Он становится иной раз чуточку того… Но Мак-Турк говорит, это не опасно.
– Господи боже! – гробовым голосом произнес Боб и, откинувшись на спинку сиденья, закрыл глаза с выражением крайнего мученичества на лице.
Мы подъехали к деревьям и увидели Фрэнсиса. Он сидел на корточках в своей сказочной шляпе, лихо сдвинутой набекрень. Позади него жалкой кучкой стояли лошади, понурив головы и тряся поводьями. На них были чрезвычайно неудобные на вид седла с высокой лукой. Мы вытряхнулись из джипа и с несколько нарочитой приветливостью поздоровались с Фрэнсисом. Мак-Турк пожелал нам удачной охоты, развернулся и дал газу. Лошади так и взвились на дыбы, звеня всеми своими уздечками и стременами. Фрэнсис насилу утихомирил их и подвел к нам для осмотра. С равным недоверием мы уставились на них, они на нас.
– Какую возьмешь? – спросил я у Боба.
– Я думаю, это не имеет значения, – ответил он. – Впрочем, мне больше нравится вот эта гнедая, раскосая.
Мне досталась большая серая, оказавшаяся чертовски норовистой. Я бодро-весело позвал ее, но, когда подступил поближе, она, приплясывая, шарахнулась в сторону и сверкнула на меня белками глаз.
– Стой, малыш, – хриплым голосом ворковал я, пытаясь вдеть ногу в стремя.
– Это не он, а она, – внес существенную поправку Боб.
Наконец я исхитрился взгромоздиться на костлявую спину своей клячи и судорожно ухватился за поводья. Животина Боба оказалась как будто более покладистой: она покорно позволила ему взобраться на себя, но только он угнездился в седле, как она потихоньку, но с яростной целеустремленностью начала пятиться задом и, я уверен, дошла бы так до самой бразильской границы, если бы путь ей не преградил большой колючий куст. Упершись в него, она встала как вкопанная – и ни с места.
Тем временем Фрэнсис вскочил на свою свирепую черную лошадь и потрусил по тропе. Насилу переупрямив свою скотину, я последовал за ним. Поощрительные возгласы Боба, которыми он подбадривал свою лошадь, затихали вдали. Мы миновали поворот, и Боб пропал из виду. Потом он догнал нас. Его лошадь шла каким-то замысловатым аллюром, помесью шага с рысью, а Боб болтался в седле, судорожно сжимая в руке длинную ветку, которой охаживал бока лошади всякий раз, как только к этому представлялась возможность. Я натянул поводья и с интересом наблюдал эту картину.
– Ну как езда? – спросил я, когда он поравнялся со мной.
Боб бросил на меня уничтожающий взгляд.
– Все бы… ничего… если б только… она шла… как следует, – проговорил он, ловя паузы между толчками.
– Погоди чуток, – сказал я, желая помочь ему. – Я подъеду и шлепну ее разок.
Сзади Боб и его конь выглядели так, словно они исполняют какую-то замысловатую румбу сугубо латиноамериканского происхождения. Я пустил свою лошадь рысью и, поравнявшись с трясущимся впереди крупом Бобовой лошади, подобрал поводья и нагнулся, чтобы дать ей шлепка. И тут случилось непредвиденное. Моей лошади, которая вплоть до этой минуты вела себя образцово, вдруг почудилось, что я ни с того ни с сего подло и вероломно покушаюсь на ее жизнь. Собравшись в комок, она с проворством кузнечика скакнула вперед. Мимо меня промелькнуло удивленное лицо Боба – и вот уж мы мчимся по тропе к Фрэнсису. Когда я поравнялся с ним, он повернулся в седле и, широко осклабившись, подбодрил свою лошадь ударами поводьев по шее. Не успел я сообразить, что к чему, как мы уже голова в голову мчались галопом вниз по тропе, причем Фрэнсис какими-то неслыханными гортанными выкриками поощрял свою лошадь наддать ходу.
– Фрэнсис! – завопил я. – Это тебе не гонки! Я хочу остановиться, понимаешь, остановиться!
Эта мысль медленно, но верно внедрялась в сознание нашего проводника, и выражение крайнего разочарования расползлось по его лицу. Он нехотя осадил свою лошадь, и, к моему величайшему облегчению, моя последовала ее примеру. Мы подождали Боба, и я установил новый порядок следования: Фрэнсис впереди, Боб за ним, а я замыкающим, чтобы поддерживать Бобову конягу на должной высоте. Так тихим шагом мы продолжали свой путь.
Солнце уже изрядно припекало, простор саванны, лежащей перед нами, мерцал в его лучах: травянистое пространство на многие мили вперед, золотисто-зеленое и буро-коричневое, а вдали, словно на самом краю света, гряда волнистых зеленовато-голубых гор. И во всем этом океане травы ни малейшего признака жизни; двигались только мы и наши тени. Два с лишним часа пробирались мы в высокой, по колено, траве. Фрэнсис ехал впереди, он расхлябанно болтался в седле, шляпа сползла ему на глаза. Он явно спал. Однообразный пейзаж и жаркое солнце клонили в сон, и по примеру нашего проводника мы тоже задремали.
Но вот я открыл глаза и с удивлением увидел на равнине саванны впадину – нечто вроде большого овального кратера с отлогими склонами; в центре его лежало окаймленное тростником озеро, берега которого были покрыты чахлым, редким кустарником. Когда мы проходили мимо озера, оно вдруг ожило: маленький кайман скользнул в неподвижную воду, едва взрябив ее; по тому берегу торжественно прошествовали десять ябиру, задумчиво глядя вдоль своих длинных носов; в кустах запорхало и защебетало множество крошечных птичек.
– Боб! Проснись, полюбуйся животными! – сказал я.
Боб сонно вытаращил глаза из-под полей шляпы, невнятно промычал «ммм…» и снова заснул.
По тропе, между копытами моей медленно переступающей лошади, сновали две изумрудно-зеленые ящерицы; они были настолько заняты взаимным преследованием, что не обращали на нас никакого внимания. А вот крошечный пегий зимородок упал с ветки в озеро и снова взмыл ввысь с добычей в клюве. Золотисто-черные стрекозы совершали свой танец над тростником и неподвижно повисали над крохотными орхидеями, розовой дымкой стлавшимися над болотистой почвой. На расщепленном пне восседала пара черных грифов, с мрачной обнадеженностью они воззрились на нас – обстоятельство малоутешительное, если учесть умственное состояние нашего проводника. Миновав озеро, мы вновь углубились в саванну, щебет птиц замер позади. И вот уже только слышно, как ноги лошадей со свистом рассекают траву. Я вновь задремал.
Проснулся я от толчка – лошадь остановилась. Оказалось, что наш проводник тоже проснулся и сидит в седле, обозревая равнину с видом побитого Наполеона. Местность перед нами была ровная, как шахматная доска; слева от нас она слегка повышалась и была покрыта большими пучками травы и низкорослым кустарником. Я подъехал к Фрэнсису и вопросительно поглядел на него. Размахивая своей смуглой рукой, он указал на местность и стал что-то мне объяснять. Я понял, что мы достигли владений муравьеда.
– В чем дело? – спросил Боб.
– Похоже, это то самое место, где он видел муравьеда.
Фрэнсис, клятвенно заверил нас Мак-Турк, говорил по-английски, и вот настал великий момент, когда он должен был подробно объяснить нам тактику охоты. Глядя на меня в упор, он издал ряд звуков, равных которым по невразумительности мне редко доводилось слышать. Он вновь повторил сказанное, но, как я ни вслушивался, я не мог уловить ни одного знакомого английского слова. Тогда я обратился к Бобу, который беспокойно ерзал в седле, не принимая участия в разговоре.
– Помнится, ты говорил, что умеешь объясняться на каком-то индейском диалекте?
– Верно, но то были парагвайские индейцы, вряд ли их язык имеет что-либо общее с языком здешних.
– Ты можешь вспомнить несколько слов?
– Наверное, смогу. Так, кое-какие обрывки.
– Ну так попробуй разобрать, что говорит Фрэнсис.
– А разве он не говорит по-английски? – изумленно спросил Боб.
– Насколько я понимаю, это может быть все, что угодно, вплоть до патагонского. А ну-ка, Фрэнсис, повтори все сначала.
Со страдальческим выражением на лице Фрэнсис повторил свою маленькую речь. Боб, нахмурившись, внимательно слушал.
– Нет, – сказал он наконец. – Ничего не понимаю. Это решительно не английский.
Мы смотрели на Фрэнсиса, он с сожалением смотрел на нас. Но вот его словно осенило, и с помощью многочисленных жестов и пронзительных криков он в конце концов все нам объяснил.
Это то самое место, где он видел муравьеда. Он, наверное, спит где-нибудь поблизости – тут Фрэнсис сложил руки на груди, закрыл глаза и издал громкий храп. Нам следует вытянуться в цепочку и прочесывать траву, производя как можно больше шума.
Итак, мы встали в шеренгу с интервалами в тридцать ярдов и с буйными криками и тирольскими подвываниями пустили лошадей сквозь высокую траву, чувствуя себя в душе идиотами. Фрэнсис, шедший справа от меня, с величайшей правдоподобностью имитировал заливающуюся лаем стаю собак, слева в исполнении Боба лились отрывки из «Лок-Ломонд» вперемежку с пронзительными «кш! кшш!» – сочетание звуков, перед которым не устоял бы ни один муравьед.
Мы прошли таким манером вот уже с полмили, я докричался до хрипоты и начал сомневаться, был ли муравьед, да и вообще водятся ли они в Гвиане. Мои восклицания утратили первоначальный пыл и стали походить скорее на унылое карканье одинокой вороны.
Но вот Фрэнсис вдруг издал торжествующий вопль, и я увидел, как из высокой травы перед ним метнулось что-то темное. Я повернул лошадь и во весь опор помчался на зверя, одновременно клича Боба. Под моими беспрестанными понуканиями лошадь отчаянно спотыкалась, перескакивая через травянистые кочки и глубокие трещины. Зверь выскочил из-под прикрытия высокой травы и резвым галопом устремился по малотравной равнине, и тут я рассмотрел, что это действительно муравьед, причем крупнее всех тех, каких мне приходилось видеть в неволе. Бежал он с поразительной быстротой, мотая с боку на бок большой, похожей на сосульку мордой, а его лохматый хвост, словно флаг, струился за ним. Фрэнсис висел у него на пятках, на скаку разматывая лассо и дикими отрывистыми криками подгоняя лошадь. Между тем я уже выдрался из высокой травы и направил свою лошадь прямо на муравьеда, но он с первого взгляда не показался ей симпатичным, а потому она повернула и со всей решимостью и быстротой помчалась обратно. Я насилу справился с ней и кое-как завернул назад. Но все равно к месту схватки мы приблизились кособочась, тем кругообразным движением, каким бегает краб. Фрэнсис, скача галопом параллельным курсом с муравьедом, метнул лассо и накинул петлю на голову животного. Бросок был неудачный: петля не успела затянуться, муравьед проскользнул сквозь нее, повернулся на месте и вновь устремился к высокой траве. Фрэнсису пришлось остановиться, чтобы собрать и свернуть лассо, а тем временем муравьед со всех ног несся к густому кустарнику, где его невозможно было бы заарканить. Погоняя упирающуюся лошадь, я отрезал муравьеда от кустарника и оттеснил его на равнину. Затем я пустил лошадь резвым галопом, и тут обнаружилось, что я могу следовать параллельным с ним курсом.
Муравьед продолжал скакать по равнине, шипя и фыркая своим длинным носом, глухо топоча по сожженной солнцем земле короткими лапами. Фрэнсис вновь нагнал нас, крутанул два-три раза своей веревкой и, набросив ее на передние лапы животного, затянул петлю как раз в тот момент, когда она скользнула к его пояснице. В следующую секунду Фрэнсис уже соскочил с лошади, крепко вцепился в веревку и потащился по траве за разъяренным муравьедом. Я бросил лошадей на Боба и присоединился к Фрэнсису, болтавшемуся на конце веревки. В толстых кривых лапах и косматом теле муравьеда заключалась такая невероятная сила, что мы едва удержали его; обливаясь потом, Фрэнсис огляделся вокруг, затем с мычанием указал на что-то за моей спиной. Я оглянулся: ярдах в ста поодаль стояло невысокое дерево, единственное на многие мили окрест. Задыхаясь и отдуваясь, мы поволокли к нему муравьеда. Добравшись до дерева, мы ухитрились затянуть еще одну петлю на теле животного, а потом принялись привязывать свободный конец веревки к стволу.
Только мы завязали последний узел, как Фрэнсис, глянув наверх, издал предостерегающий крик. Я поднял глаза: футах в двух над моей головой висело осиное гнездо величиной с футбольный мяч. Обитатели его повылазили наружу, и, мягко говоря, вид у них был крайне рассерженный. От рывков муравьеда деревцо раскачивалось, как от ураганного ветра, и осам это не нравилось. Мы с Фрэнсисом тут же молча отступили от дерева, после чего муравьед решил малость передохнуть, прежде чем заняться тяжким делом срывания веревок. Дерево перестало качаться, и осы угомонились.
Мы вернулись туда, где стоял Боб с лошадьми, и достали различные вещи, предназначенные для поимки муравьеда: пару больших мешков, моток толстой бечевки и несколько кусков крепкой веревки. Вооружившись всем этим, а также страшноватым складным ножом Фрэнсиса, мы снова отправились к дереву. Мы поспели как раз вовремя: муравьед сбросил с себя последнюю петлю и вперевалочку двинулся по саванне. Я с величайшим удовольствием бросил Фрэнсиса отпутывать лассо от кишащего осами дерева, а сам кинулся вдогонку за нашей добычей, поспешно сооружая на куске веревки скользящую петлю. Подбежав сбоку к животному, я попытался набросить ему на голову это импровизированное лассо, но промахнулся. Вторая попытка окончилась тем же. Так продолжалось некоторое время, и в конце концов мои приставания муравьеду надоели: он вдруг остановился, повернулся и встал на задние лапы мордой ко мне. Я тоже остановился, настороженно следя за ним, в особенности за его большими, длиной в шесть дюймов, когтями на передних лапах. Он зафыркал, зашмыгал своим длинным носом и вызывающе поглядел на меня своими крохотными пуговками-глазами: «А ну-ка подойди!» Я обошел его кругом, а он поворачивался вокруг своей оси, держа наготове когти. Я еще раз робко попытался набросить на него петлю, но он так неистово замахал лапами и так яростно зафырчал, что я отказался от дальнейших попыток и стал ждать Фрэнсиса. «Одно дело – смотреть на животное за решеткой в благоустроенном зоопарке, – отметил я про себя, – и совсем другое дело – пытаться поймать его с помощью короткого куска веревки». Фрэнсис вдали все еще отдирал лассо от дерева, стараясь не навлечь на себя ос.
Муравьед уселся на хвост и своими большущими изогнутыми когтями принялся с достоинством обирать с носа травинки. Я заметил, что при шипении и фырканье у него изо рта длинными клейкими нитями свисала слюна, очень похожая на толстые нити паутины. Когда он бежал по равнине, нити слюны тащились за ним по земле, на них налипали травинки и разный мусор. Каждый раз, когда он сердито тряс головой, эти нити попадали ему на нос и на плечи и прилипали к ним, словно приклеенные. Теперь он решил с толком использовать перемирие, быстро умыться и привести себя в порядок. Хорошенько обчистив свой длинный серый нос, он обтер плечи о траву, встал, до смешного по-собачьи встряхнулся и поплелся к зарослям высокой травы до того неторопливо и спокойно, словно люди с лассо никогда не встречались на его жизненном пути. Однако тут подоспел Фрэнсис с веревкой, вспотевший, но не зажаленный насмерть осами, и мы пустились вдогонку за муравьедом, который продолжал не спеша, словно гуляючи, брести по саванне. Заслышав за собой погоню, он снова сел и с безропотным видом уставился на нас: дескать, что, мол, с вами поделаешь. Теперь нас стало двое, и перевес сил был явно на нашей стороне. Я отвлек его, а Фрэнсис потихоньку зашел с тыла, метнул лассо и туго затянул петлю поперек его живота – и вот уж муравьед снова шпарит вовсю по саванне, а мы тащимся за ним на веревке. Наверное, не меньше получаса метались мы по равнине то туда, то сюда, пока не оплели муравьеда веревками так, что он лапой не мог пошевелить. После этого мы запихали его, связанного наподобие откормленного к Рождеству индюка, в большущий мешок и, довольные собой, устроили вожделенный перекур.
Потом вышла закавыка. Все лошади как одна, когда мы попытались взвалить на них мешок, отказались подставлять спину под муравьеда. При приближении к лошадям он издавал долгий и громкий шип, и это вовсе не успокаивало их. После нескольких попыток мы оставили идею везти муравьеда на лошадях: они явно заражались паническим настроением друг от друга. Фрэнсис неожиданно предложил сделать следующим образом: я поведу его лошадь в поводу, а он потащит муравьеда на закорках. Признаться, меня брало сомнение, сдюжит ли он: мешок был чудовищно тяжелый, а до Каранамбо было не меньше восьми миль. Я помог взвалить муравьеда ему на плечи, и мы двинулись в путь. Обливаясь потом, Фрэнсис доблестно шагал все вперед и вперед, а его ноша отчаянно елозила в мешке и всячески портила ему жизнь. Солнце пекло нещадно, и ни малейший ветерок не овевал разгоряченное тело нашего муравьедоносца. Он начал что-то бормотать про себя и отстал от нас ярдов на пятьдесят. Так мы прошли с полмили по извилистой тропе, потом Боб оглянулся назад.
– Что с Фрэнсисом? – удивленно спросил он.
Я обернулся. Наш проводник положил муравьеда на землю и ходил вокруг него, оживленно жестикулируя и что-то ему доказывая.
– Какой ужас! У меня такое впечатление, что это то самое… Все кружится у него в голове, – сказал я.
– Что-что?
– Ну так он объясняет, когда с ним бывает припадок.
– Боже милостивый! – не на шутку испугался Боб.
– Ты хоть обратную дорогу-то знаешь?
– Нет, не знаю. Ну-ка подержи его лошадь, а я съезжу посмотрю, что с ним такое.
И я поскакал к тому месту, где Фрэнсис затеял собеседование с муравьедом. Мое появление нимало не помешало ему: он меня попросту не заметил. По выражению его лица и яростным жестам я догадался, что он самым подробнейшим образом, как только позволяет его родной язык, поминает родословную муравьеда. Предмет его поношений бесстрастно взирал на него, тихонько пуская из носу пузыри. Но вот, истощив весь свой запас слов, Фрэнсис замолк и обратил на меня полный грусти взор.
– В чем дело, Фрэнсис? – спросил я участливо и страшно глупо, ибо все и без того было ясно. Фрэнсис перевел дух и излил на меня бурный поток слов. Я внимательно вслушивался, но мог разобрать одно только слово: «бубол». Оно явно что-то означало, но, как мне казалось, к делу никакого отношения не имело. Лишь через довольно продолжительное время я уловил, что именно предлагает Фрэнсис: один из нас пусть останется при муравьеде, а двое отправятся на ферму – тут он указал на далекое пятнышко на горизонте – за этой совершенно необходимой нам вещью под названием «бубол». В надежде найти на ферме человека, сносно владеющего английским, я согласился с этим предложением и помог Фрэнсису оттащить муравьеда в тень под ближайшие кусты, а затем вернулся к Бобу.
– Придется тебе посторожить муравьеда, пока мы с Фрэнсисом будем добывать на ферме бубола, – сказал я.
– Это еще что такое? – изумленно спросил он.
– Понятия не имею. Наверное, какое-нибудь средство передвижения.
– Это твоя идея или Фрэнсис надумал?
– Фрэнсис. Он говорит, это единственный выход.
– Ладно. Но что такое бубол, в конце-то концов?
– Я не лингвист, мой милый. Наверное, что-нибудь вроде повозки. Во всяком случае, на ферме должны быть люди, как-нибудь разберемся.
– Ну да, а я тем временем буду помирать от жажды, или муравьед выпустит из меня кишки, – с горечью отозвался Боб. – Лучше не придумаешь.
– Ерунда. Муравьед никуда не денется из мешка, а я захвачу тебе с фермы попить.
– Ну да, если ты вообще доберешься до фермы. Ты что, не понимаешь, что в своем нынешнем состоянии Фрэнсис вполне способен увести тебя за границу, в Бразилию, – так, прогуляться денька на четыре? Ну да ладно, уж видно, опять мне придется жертвовать собой ради твоего промысла.
Когда мы с Фрэнсисом тронулись в путь, он крикнул вдогонку:
– Не забывай, я приехал в Гвиану писать, а не сидеть нянькой при муравьедах, черт побери! Да не забудь привезти попить…
Как мы добрались до фермы, лучше не вспоминать. Лошадь Фрэнсиса неслась не разбирая пути; моя, явно вообразив себе, что мы возвращаемся домой насовсем, старалась от нее не отставать. Казалось, нашей скачке не будет конца, но вот послышался лай собак, мы галопом влетели во двор и круто осадили перед длинным низким строением, совсем как останавливаются герои в ковбойских фильмах. Мне даже показалось, что вот сейчас я увижу вывеску с надписью «Салун Золотой Песок». Колоритный старик-индеец поздоровался со мной по-испански. Я идиотски осклабился и прошел за ним под благословенную сень дома. На невысокой каменной кладке, выполнявшей роль стены, сидели два диковатого вида парня и красивая девушка; один из парней раздирал на полосы стебель сахарного тростника и бросал их трем голопузым ребятишкам, ползавшим по полу. Я уселся на низенькую деревянную скамейку, и вскоре девушка принесла мне чашку кофе; я пил кофе, а старик завел со мной длинную беседу на смеси английского и весьма посредственного испанского языка. Потом пришел Фрэнсис и повел меня в поле, на котором пасся самый обыкновенный здоровенный буйвол. Фрэнсис указал на него рукой и произнес:
– Бубол.
Я молча вернулся в дом и, пока буйвола седлали, выпил еще кофе. Потом я попросил у старика бутылку воды для Боба, мы попрощались, вскочили на лошадей и выехали за ворота.
– Где же буйвол? – спросил я у Фрэнсиса.
Он махнул рукой в пространство, и я увидел скачущего по саванне буйвола. На нем восседала жена Фрэнсиса. Ее длинные черные волосы развевались по ветру, и издали она была очень похожа на черноволосую леди Годиву.
Мы направились по саванне напрямик к тому месту, где оставили Боба, и добрались туда немного раньше буйвола. Там творилось что-то невообразимое: муравьед поистине неимоверным усилием высвободил из веревок лапы, вспорол мешок и наполовину вылез из него. К нашему появлению он как сумасшедший скакал по кругу с мешком на задних лапах, словно в спадающих с брюха штанах, а Боб преследовал его по пятам. Поймав зверя и запихав его в новый мешок, я в виде утешения презентовал Бобу бутылку тепловатой воды, а напившись и отдышавшись, он рассказал нам, что произошло. Оказывается, только мы скрылись из виду, как его лошадь (по его словам, надежно привязанная к невысокому кусту) ушла гулять в саванну и долго не давала себя поймать. Боб гонялся за ней, осыпая ее ласковыми именами, и в конце концов изловил. Вернувшись на место, он обнаружил, что муравьед выбрался из мешка и вот-вот сбросит с себя путы. Боб в сердцах запихал его обратно, но тут опять ушла лошадь. Так повторялось вновь и вновь, и один только раз эти скучные повторы скрасились появлением стада крупного рогатого скота, которое обступило место аттракциона и наблюдало за маневрами Боба с тем надменным и несколько воинственным видом, который так свойствен этой породе животных. По словам Боба, он не возражал бы против присутствия стада, если бы в нем не преобладали быки. В конце концов скотина ушла, и, когда мы вернулись, Боб проводил очередную кампанию против муравьеда.
– Вот вы приехали, а у меня все вертится в голове, – сказал он.
Как раз в этот момент показалась жена Фрэнсиса верхом на буйволе. У Боба глаза полезли на лоб, когда он их увидел.
– Что это? – со страхом спросил он. – Мне это не мерещится?
– Это бубол, мой дорогой, бубол, которого мы за немалую цену наняли ради нашего спасения.
Боб лег пластом на траву и закрыл глаза.
– Навидался я сегодня быков, на всю жизнь хватит, – сказал он. – Грузите муравьеда сами на эту тварь, я вам помогать не буду. Полежу здесь, пока она вас не забодает, а там потихоньку поеду домой.
Втроем – Фрэнсис, его жена и я – мы взвалили фыркающего муравьеда на широченную стоическую спину буйвола. Затем с неменьшим трудом взгромоздили на лошадей наши изболевшиеся тела и двинулись в обратный путь на Каранамбо. Солнце на какой-то момент повисло над дальней грядой гор, затопив саванну великолепными зелеными сумерками, потом сразу стемнело. В полутьме мягко перекликались земляные совы, а когда мы проезжали мимо озера, над ним двумя падающими звездами пронеслась пара белых цапель. Мы до смерти устали, на нас живого места не было. Лошади спотыкались на каждом шагу, грозя вытряхнуть нас из седла. В небе загорались звезды, а мы брели и брели по бескрайней травянистой равнине, не зная куда, да и не думая об этом. Вот прорезался бледный серп месяца, он посеребрил траву, и буйвол стал огромным и уродливым в его свете – гигантское, тяжело дышащее доисторическое чудовище, бредущее в сумраке только что сотворенного мира. Я дремал урывками, покачиваясь в седле. Время от времени, когда лошадь Боба оступалась и лука седла впивалась в его многострадальный живот, Боб разражался потоком ругательств.
Но вот за деревьями впереди мелькнул бледный свет, он мигал, то исчезая, то появляясь вновь, словно болотный огонек, совсем маленький и слабый по сравнению с огромными звездами, нависшими чуть ли не над самой головой.
– Боб! – позвал я. – Похоже, это джип.
– Господи боже! – с горячностью откликнулся Боб. – Если б только ты знал, как мне хочется вон из седла!
Огни джипа разгорались все ярче, и вот уже стал слышен рокот мотора. Машина обогнула деревья, облив нас холодным светом фар, лошади стали приседать и бить задом, впрочем скорее устало, чем с настоящим страхом. Мы спешились и заковыляли к машине.
– Как дела? – спросил Мак-Турк.
– Поймали большого самца, – не без тщеславия ответил я.
– Чудесно провели день, – добавил Боб.
Мак-Турк в ответ только хмыкнул. Мы присели покурить, и вскоре в свет фар вступило доисторическое чудовище. Мы сняли с его спины драгоценную добычу и уложили на подстилку из мешков. Потом, выпустив лошадей в саванну, с тем чтобы они сами добрались до фермы, мы устроились на сиденьях рядом с муравьедом. Когда джип взял с места, муравьед вдруг проснулся и заметался. Я мертвой хваткой держал его длинный нос: долбани он им по железному борту машины, тут бы ему и конец, все равно что от пули.
– Где вы намерены его держать? – спросил Мак-Турк.
Мысль об этом меня еще как-то не занимала, но тут до меня вдруг дошло, что у нас нет ни клеток, ни материала для них, а хуже всего то, что ни того ни другого здесь не достать. Но разве могло столь прозаическое соображение отравить радость от поимки муравьеда!
– Где-нибудь привяжем, – легкомысленно ответил я.
Мак-Турк лишь неодобрительно промычал что-то в ответ.
Подъехав к дому, мы выгрузили из машины муравьеда и сняли с него многочисленные мешки и веревки, которыми он был обмотан. Затем с помощью Мак-Турка соорудили из веревок шлейку и надели ее на муравьеда. К шлейке мы привязали длинную веревку и пустили муравьеда гулять вокруг тенистого дерева во дворе. Я дал муравьеду напиться, но кормить его не стал: мне хотелось сразу же перевести его на искусственное питание, и я полагал, что сделать это будет легче, если как следует проморить его голодом.
Перевод животного на искусственную кормежку – дело трудное и хлопотное, но без этого не обходится ни один зверолов. Эта проблема встает всегда, когда поймаешь животное вроде муравьеда, прирожденный вкус которого очень ограничен: оно питается каким-нибудь одним видом листьев или плодов, каким-нибудь особенным видом рыбы или чем-либо не менее замысловатым в этом же роде. Когда животное попадает в Англию, его лишь очень редко удается обеспечить таким же питанием, а потому обязанность зверолова – приучить его к другой пище, такой, которую смогут давать ему в том зоопарке, куда оно попадет. Вот и приходится измышлять для него вкусную еду, которую бы оно охотно приняло. Подобное изменение диеты у некоторых видов животных проходит нелегко и всегда связано с риском, что новое питание не подойдет животному и повредит ему. В таком случае можно легко его потерять. Некоторые животные упорно отказываются от непривычной еды, и доведенный до отчаяния зверолов вынужден отпускать их на волю. Другие, наоборот, сразу набрасываются на нее и едят с аппетитом. Иногда эти две совершенно противоположные реакции на незнакомую пищу случается наблюдать у двух различных представителей одного и того же вида.
Новая еда для муравьеда состояла из трех пинт молока, пары сырых яиц и фунта мелко нарубленного сырого мяса, сюда же было добавлено три капли рыбьего жира. Я составлял эту смесь на следующее утро. Когда она была готова, я разворошил ближайшее термитное гнездо и густо посыпал термитами молоко. Затем понес плошку муравьеду.
Он лежал на боку под деревом, свернувшись калачиком и прикрывшись хвостом, словно огромным страусовым пером. Хвост укрывал все его тело, так что издали его легко можно было принять за ворох сероватой травы. Когда видишь муравьедов в зоопарке, тебе и в голову не приходит, какую полезную службу несут их большие лохматые хвосты: свернувшемуся клубком между двумя травяными кочками и, словно зонтиком, прикрытому сверху хвостом муравьеду не страшна любая погода. Заслышав приближающиеся шаги, мой пленник встревоженно фыркнул, откинул хвост и взвился на дыбы, готовый к сватке. Я поставил перед ним плошку, произнес краткую молитву, чтобы он не оказался трудным ребенком, и отошел в сторонку. Муравьед приблизился к плошке, громко сопя, обнюхал ее со всех сторон, сунул в молоко кончик носа и заработал своим длинным серым змееподобным языком. Единым духом он вылакал всю плошку, а я стоял и смотрел на него со смешанным чувством восторга и недоверия.
Муравьеды относятся к животным, не имеющим зубов. Зато у них есть длинный язык и клейкая слюна, с помощью которых они подбирают пищу. Их язык действует по принципу липучки. Всякий раз, втягивая в себя язык, муравьед отправлял в рот энное количество питательной смеси. Работая таким «малопроизводительным» способом, он за ничтожно малое время подобрал всю смесь подчистую и, покончив с едой, еще раз обнюхал плошку, желая убедиться, что в ней ничего не осталось. Затем он снова лег, свернулся клубком, накрылся, словно палаткой, хвостом и сладко заснул. С этого момента он не требовал или почти не требовал за собой никакого ухода.
Несколько недель спустя, уже вернувшись в Джорджтаун, мы приобрели подругу для Амоса – так мы нарекли муравьеда. Двое поджарых, хорошо одетых индийцев прикатили к нам однажды утром в блестящем новехоньком автомобиле и спросили, не нужен ли нам барим (так называется по-местному гигантский муравьед). Мы, разумеется, ответили «да», после чего индийцы преспокойно открыли багажник и показали нам опутанную множеством веревок взрослую самку муравьеда. Вот был фокус так фокус, не то что какой-нибудь жалкий трюк с извлечением кролика из шляпы! Правда, животное было до того истощенным и израненным, что мы даже усомнились, выживет ли оно. Однако, как только мы оказали ей помощь и напоили, муравьедиха ожила и стала так решительно обороняться от нас, что мы сочли ее достаточно здоровой для знакомства с Амосом.
Амос жил в просторном огороженном загоне под сенью деревьев. Когда мы открыли ворота и предполагаемая невеста просунула в проход острый кончик своего носа, Амос встретил ее таким неджентльменским шипением, фырканьем и размахиванием лап, что мы поспешили убрать ее подальше. Решено было разгородить загон частоколом и поселить муравьедов порознь. Пусть они видятся и принюхиваются друг к другу через загородку, думали мы, тогда, может, у Амоса проявятся более нежные чувства.
В первый день самка решительно отказывалась от пищи, и это внушало нам немалые опасения. Она даже не притрагивалась к ней. И вот на другой день мне пришло в голову поставить во время завтрака плошку Амоса у самого частокола. Как только самка увидела (и услышала), что он принялся за еду, она подошла к загородке проверить, в чем дело. Амос ел с таким аппетитом, что она просунула свой длинный язык между кольями в его плошку, и они за десять минут вылизали ее. Отныне мы каждый день могли любоваться трогательным зрелищем дружной кормежки двух муравьедов, разделенных частоколом. В конце концов муравьедиха научилась есть и из своей собственной миски, хотя всегда предпочитала кормиться вместе с Амосом.
Доставив Амоса и его супругу в Ливерпуль и глядя, как их увозят в зоопарк, для которого они предназначались, я не без гордости думал о том, что привез в Англию целыми и невредимыми этих трудных для содержания в неволе зверей.
Глава VI. Капибары и кайман
Две недели, которые мы рассчитывали пробыть на Рупунуни, пролетели так быстро, что однажды вечером, полеживая в гамаках и подсчитывая на пальцах дни, мы с удивлением обнаружили, что в нашем распоряжении остается всего лишь четыре дня.
Стараниями Мак-Турка и местных индейцев наш зверинец основательно пополнился. Несколько дней спустя после поимки муравьеда Фрэнсис явился к нам верхом на лошади с мешком, в котором что-то пищало и возилось так, словно он был битком набит морскими свинками. Оказывается, писк этот производили три молодые, сильно напуганные капибары. Я уже упоминал про этих животных, когда говорил о свирепости пирай. Но не в этом их слава: капибары примечательны тем, что они самые крупные грызуны на земле. Что это значит, можно понять, лишь сравнив их с каким-нибудь из их родичей помельче. Взрослая капибара достигает четырех футов в длину, ее рост два фута, вес до ста с лишним фунтов. Ведь это просто громадина рядом с мышью-малюткой, в которой всего-то четыре с половиной дюйма от хвоста до кончика носа, а вес около одной шестой унции!
Этот гигантский грызун представляет собой жирного зверька с продолговатым телом, покрытым жесткой лохматой шерстью пестрой коричневой расцветки. Передние лапы у капибары длиннее задних, массивный огузок не имеет хвоста, и поэтому у нее всегда такой вид, будто она вот-вот собирается сесть. У нее крупные лапы с широкими перепончатыми пальцами, а когти на передних лапах, короткие и тупые, удивительно напоминают миниатюрные копыта. Вид у нее весьма аристократический: ее плоская широкая голова и тупая, почти квадратная морда имеют благодушно-покровительственное выражение, придающее ей сходство с задумчивым львом. По земле капибара передвигается характерной шаркающей походкой или скачет вразвалку галопом, в воде же плавает и ныряет с поразительной легкостью и проворством. Капибара – флегматичный добродушный вегетарианец, лишенный ярких индивидуальных черт, присущих некоторым его сородичам, но этот недостаток восполняется у нее спокойным и дружелюбным нравом.
Однако три малютки, привезенные Фрэнсисом, были настроены далеко не благодушно: они лягались, верещали и таращились на нас, словно на стаю ягуаров. В длину они были всего лишь фута по два, а ростом около фута, зато такие подбористые и мускулистые, что, когда они начинали отбиваться от нас, с ними никак нельзя было справиться. Я заметил, что они совсем не кусаются, хотя и вооружены здоровенными ярко-оранжевыми резцами, острыми и широкими, словно перочинный нож. При желании они могли бы серьезно поранить такими зубами. Порядком повозившись, мы вытащили их из мешка, да так и остались стоять посреди двора с визжащими капибарами в руках, не зная, что с ними делать: ведь клеток-то у нас не было! После долгих словопрений выход был найден: мы соорудили для зверьков маленькие веревочные шлейки наподобие той, какую сделали для муравьеда. Затем мы привязали капибар на длинных веревках к трем апельсинным деревцам и отступили назад полюбоваться своей работой. Почувствовав себя на воле, но опасаясь нашего присутствия, капибары ринулись искать защиты друг у друга и мигом запутались в веревках, а веревки перепутали между деревьями. Целых четверть часа мы отпутывали их друг от друга, от деревьев и от своих ног, а затем вновь привязали к деревьям, но уже подальше друг от друга. На этот раз они с отвратительным верещанием принялись бегать вокруг деревьев – и вот уж на стволах наросли толстые обмотки из веревок, а сами зверьки чуть не задохнулись. В конце концов мы вышли из положения, привязав веревки к ветвям деревьев высоко над головой зверьков: это давало им возможность бегать по относительно широкому пространству без риска запутаться и задохнуться.
– Бьюсь об заклад, они еще дадут нам жизни, – мрачно изрек я, когда мы управились с капибарами.
– Почему ты так думаешь? – спросил Боб. – Похоже, ты не очень-то им обрадовался. Ты их не любишь?
– Имею печальный опыт знакомства с ними еще по Джорджтауну, – объяснил я. – И с тех пор настроен против всей их семейки.
Это было в Джорджтауне. Мы со Смитом жили в пансионе на городских задворках, подыскивая место для нашей основной базы. Хозяйка пансиона милостиво разрешила нам держать в своем палисаднике зверей, которых мы будем приобретать, и мы злостно воспользовались ее любезностью. Бедная женщина просто не могла себе представить, к каким последствиям это может привести, и, лишь когда ее крохотный садик стало буквально распирать от обезьян и прочего зверья, а мы все еще никак не могли подыскать подходящее место для основной базы, она начала проявлять признаки беспокойства. Впрочем, мы и сами понимали, что садик становится несколько переуплотнен: постояльцам пансиона приходилось с величайшей осторожностью прокладывать себе путь к дому, ибо кому захочется, чтобы тебя хватали за ноги любознательные обезьяны. С появлением же капибары положение стало критическим.
Гигантского грызуна к нам привели на веревке поздно вечером. Это было еще не вполне взрослое, очень смирное животное. С царственно-отчужденным видом оно сидело в сторонке, пока мы торговались с его владельцем. Торг затягивался: владелец заметил, как разгорелись наши глаза, когда мы увидели капибару, – но в конце концов она стала нашей. Мы посадили ее в большой, похожий на гроб упаковочный ящик, затянутый проволочной сеткой, способной выдержать все наскоки зверька, навалили ему отборных плодов и травы, которые он принял с царственной величавостью, и поздравили себя с приобретением милого животного. Словно зачарованные, следили мы за тем, как оно поедает принесенные ему дары, потом с нежностью просунули ему сквозь сетку еще несколько плодов манго и отправились спать. Некоторое время мы лежали в темноте, разговаривая о чудесном новом обитателе нашего зверинца, затем постепенно стали засыпать. И вот около полуночи началось.
Меня разбудил весьма своеобразный шум, исходивший из садика под окном: будто кто-то наигрывал на варгане под бессвязный аккомпанемент ударника, колотившего по жестяной банке. Я лежал, прислушиваясь и гадая, что бы это могло быть, и тут меня осенило: «Капибара!» С криком «Капибара сбежала!» я выскочил из постели и босой, в одной пижаме бросился вниз по лестнице. Мой заспанный компаньон не отставал от меня ни на шаг. Когда мы спустились в палисадник, все было тихо. Капибара сидела на своих окороках, с надменным видом глядя перед собой в пол. Между нами разгорелся спор, кто шумел: капибара или не капибара. Я доказывал, что капибара, Смит доказывал, что не капибара. «У нее слишком спокойный, невинный вид», – говорил он, а я отвечал, что как раз это-то и доказывает ее виновность. Капибара сидела в залитой лунным светом клетке и невидящим взором смотрела сквозь нас. Шум не возобновлялся, и мы отправились обратно, продолжая ожесточенно спорить шепотом между собой. Только мы улеглись, как шум послышался вновь, да еще громче прежнего. Я встал с постели и выглянул в окно. Клетка капибары тихонько подрагивала в свете луны.
– Это она, проклятущая, – торжествующе сказал я.
– Что она делает? – спросил Смит.
– Шут ее знает. Только лучше пойти и прекратить это безобразие, не то она подымет на ноги весь дом.
Мы тихонько сошли по лестнице и встали в тени кустов. Капибара с величественным видом восседала перед сеткой. Время от времени она наклонялась вперед, подцепляла изогнутым зубом проволоку, оттягивала и отпускала, так что вся клетка начинала звенеть, словно арфа. Капибара прислушивалась к звуку, пока он не замирал, затем приподымала свое грузное тело и со всей силой хлопала задними лапами по жестяной поилке. Должно быть, она аплодировала самой себе.
– По-твоему, она хочет удрать? – спросил Смит.
– Нет, ей это просто нравится.
Капибара исполнила еще один наигрыш.
– Этому надо положить конец, не то она всех перебудит.
– А что тут поделаешь?
– Уберем жестянку, – со свойственным ему практицизмом заметил Смит.
– Да, но клавикорды-то останутся.
– Завесим чем-нибудь клетку, – сказал Смит.
Итак, мы убрали жестянку и завесили клетку мешками, полагая, что исключительно лунный свет располагает капибару к музицированию. Только мы убрались, как она снова принялась за свое.
– Как же быть? – в отчаянии спросил Смит.
– Давай ляжем и сделаем вид, будто мы ничего не слышим, – предложил я.
Мы улеглись. Треньканье продолжалось. Где-то в доме хлопнула дверь, в коридоре послышались шаркающие шаги, к нам постучали.
– Кто там? – откликнулся я.
– Мистер Даррелл, – раздалось за дверью. – Мне кажется, у вас кто-то убегает. Кто-то сильно шумит в палисаднике.
– Правда? – удивленно спросил я, повышая голос, чтобы перекрыть треньканье. – Большое спасибо, что сказали. Сейчас сходим посмотрим.
– Будьте любезны. Там у вас непорядок, вы слышите?
– Да, да, теперь слышу. Прошу прощения за беспокойство, – учтиво ответил я.
Шаги удалились, мы со Смитом молча переглянулись. Я вылез из постели и подошел к окну.
– Заткнись! – прошипел я.
Капибара продолжала солировать.
– Идея! – вдруг сказал Смит. – Отнесем ее к музею, там сторож присмотрит за ней до утра.
Ничего разумнее нельзя было придумать, и мы начали одеваться. Тем временем еще двое постояльцев пришли любезно предупредить нас, что у нас кто-то убегает. Мы были явно не одиноки в своем стремлении убрать капибару куда подальше. И вот мы спустились в палисадник, обмотали ящик еще несколькими мешками и двинулись вдоль по дороге. Недовольная тем, что ее потревожили, капибара забегала взад-вперед по клетке, раскачивая ее, словно качели. Хотя до музея было каких-нибудь полмили, мы трижды останавливались передохнуть, и капибара трижды наигрывала нам свои мелодии. Наконец мы обогнули последний угол, вот уж и ворота музея показались – и тут мы наткнулись на полисмена.
Мы все трое остановились и с подозрением воззрились друг на друга. Полисмен явно недоумевал, с чего бы это двум расхристанным джентльменам волочить по улицам гроб в такой час, когда им полагается быть в постели. Он отметил про себя выглядывающие из-под верхней одежды пижамы, отметил загнанное выражение наших лиц и особенно отметил гроб, который мы несли. В этот момент из гроба донесся удушаемый всхрап, и у полисмена глаза полезли на лоб; не иначе как эти вурдалаки собираются заживо похоронить какого-то несчастного! Похоже, он вовремя подоспел. Он кашлянул и произнес:
– Добрый вечер. Чем могу быть вам полезен?
Тут только до меня дошло, до чего трудно сколько-нибудь убедительно объяснить полисмену, зачем нам загорелось в час ночи проносить по улицам капибару в гробу. Я беспомощно взглянул на Смита, Смит беспомощно взглянул на меня. Собравшись с духом, я чарующе улыбнулся блюстителю порядка:
– Вечер добрый, констебль. Мы несем капибару в музей, – сообщил я и тут же сообразил, как нелепо звучит такое объяснение. Полисмен был того же мнения.