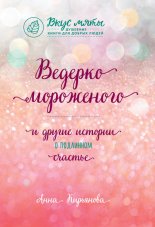Убить змееныша Акунин Борис

Трехглазов. Про посланника я ничего не думаю. Я про твои речи думаю.
Василий Голицын (изумленно). Ты понимаешь латынь?
Трехглазов. Я не всю жизнь по тайге бродил.
Василий Голицын. Кем же ты был прежде?
Трехглазов. Неважно, кем я был. Важно, кем я буду. Твоей тенью. Куда ты, туда и я. Пока я рядом, никто к тебе больше сзади не подкрадется.
Василий Голицын. Почему ты раньше колебался, а теперь вдруг согласился?
Трехглазов. Да уж не ради воеводства. На кой мне оно? Если ты хоть половину, хоть четверть исполнишь из того, о чем сейчас говорил, такого оберегателя надо оберегать. Ты нужен России.
Василий Голицын. Ага, о России заговорил. А то: живу сам по себе, наособицу. Как вольная вода.
Трехглазов. Если река велика и течет в нужную сторону, отчего же не влиться? Только вытянешь ли ты такую ношу, князь? Тут ума мало, тут смелость нужна.
Василий Голицын. Трусом никогда не был. Полки в бой водил, сам рубился и с татарами, и с поляками.
Трехглазов. Таких смелых, кто рубится, у нас много. Я про другую смелость говорю… Ладно, поглядим.
Василий Голицын. Ну гляди, гляди. На то ты и Трехглазов… Устал я. Пойду спать.
Трехглазов. Я буду сторожить за дверью.
Входит священник Сильвестр Медведев – порывистой, совсем не поповской походкой. Ряса у него лиловая, борода чеховская, на носу большие круглые очки.
Сильвестр. Василий Васильевич, я к тебе! Веришь ли, поужинал, помолился, думал ложиться спать, и вдруг оно – вдохновение! Стих пришел, сам собой! Будто лунным светом принесло. Вот, послушай. (Достает лист бумаги.)
Василий Голицын. Здравствуй, Сильвеструшка. (Трехглазову.) Это Сильвестр Медведев, он мне друг. Всегда его ко мне пускай. Он является когда пожелает, без объявления. Сильвестр тоже философ, как и ты. А еще он поэт.
Сильвестр (Трехглазову). Ты философ? Какой же школы – греческой, латинской, немецкой или французской?
Трехглазов. Русской. (Отходит в угол.)
Василий Голицын. Не обращай на него внимания, Сильвестр. Он – моя тень. Рад тебе. Хочешь вина?
Сильвестр. Успенский пост, нельзя. Разве что ради вдохновения? Нет, сначала послушай стих. (Воздымает руку, декламирует.)
- О, чюдеса творящаго всетворца нашего Бога
- Сколь всеблага и достосиянна дорога!
- Егда воздушная мира сего ясность
- Питает в душе человеков прекрасность!
- Беги прелготыя облаки страхования
- И будешь утешен чрез сердца упование.
- Во умных блюстилищах обрети смыслы
- И сможешь исчислить бессчетныя числы.
- Что буря мятежей и мраковетрия неки,
- Ежели духом крепки человеки?
- От ветротленныя дерзости тот погибоша,
- Кто очи свои от истины сей отверзоша.
У Сильвестра срывается голос, он приподнимает очки, вытирает слезы.
Сильвестр. Каково?
Василий Голицын. Сильно. Но у Овидия короче. И ясней.
Сильвестр. Что б ты понимал в поэзии, княже! Латинский язык точен и сух, оттого и зовется мертвым. А русский язык живой, его краса в буйности и словесном излишестве. Он ходит кругами, болтает вроде как ненужное и не всегда с ясным смыслом, но русский стих и не обращен к смыслу, он обращен прямо к сердцу. Что это за стихи, если в них сразу всё понятно? А впрочем я вчера простые написал. Нарочно для тебя.
- Бысть знаменитым средь вертепа – то не великая есть лепа.
- Се не подымет ввысь души. Свои заслуги не пиши
- Ты на бумаге суетрясной. Ей-ей, пиит, се труд напрасный!
- Трудись, чтоб весь себя отдать, а не любовь толпы снискать.
- Быть притчей на устах у всех – на что тебе такой успех?
Василий Голицын. Да-да, я часто об этом думаю! Те, ради кого я жизнь кладу, меня не любят. Конечно, мои труды не для того, чтоб люди меня любили. Но здесь, Сильвестр, есть и другое, хуже. По правде говоря, я и сам их не люблю. Понимаешь, вот я думаю: «народ» – и люблю народ. А думаю про живых людей, какие они есть, и как-то не очень… Только таких, какими они когда-нибудь будут. Какими должны быть… Это меня… скребет. Словно я прикидываюсь, изображаю то, чего нет.
Сильвестр. Сын мой, да что людям за дело, любишь ты их или нет. Ты делай, что тебе велят ум и сердце, а там уж как сложится. Только не обманывайся, что стараешься для народа. Будь с собою честен.
Василий Голицын. А для кого же я, по-твоему, стараюсь?
Сильвестр. Для собственной души. Это тебе самому больше всех надо – отдать себя миру сполна. Исполнить всё, на что ты способен. Про то и мой стих.
Василий Голицын. То есть мое дело прокукарекать, а там хоть не рассветай?
Сильвестр. Хорошо прокукарекаешь – рассветет.
Василий Голицын. Знать бы еще, что хорошо, а что плохо, в чем Добро, а в чем Зло. Всяк их по-своему понимает. Патриарх Иоаким говорит, что Добро – вера в Бога, а Зло – это безверие. Однако ж иные так верят в Бога, что и Зла никакого не надо. Братец мой двоюродный Борис Алексеевич, муж острого ума, говорит: добро – это порядок, а зло – это хаос. Однако ж наибольший порядок – в недвижности, в смерти. И без нарушения порядка не бывает развития.
Сильвестр. А на твой взгляд, что такое Добро и Зло? Ну-ка, скажи.
Василий Голицын. Да очень просто. Добро – всякое действие, от которого человек или государство, вообще жизнь, становится лучше. Зло – наоборот.
Сильвестр. Нет, сын мой, так не получается. Что для одного человека лучше, то для другого может быть хуже. Тем более для государств. Добро и Зло действительно вещи совсем простые, да не так, как ты мыслишь.
Василий Голицын. Что ж, просвети меня.
Сильвестр. Зло – это детскость. Добро – взрослость. Вот и вся премудрость.
Василий Голицын. Опять твои парадоксы. Это дитя, чистая душа, у тебя – Зло?
Сильвестр. А то нет? Ты погляди на малого ребенка без умиления его малостью. Он жаден, себялюбив, гадит на себя, действует без мысли о других и о последствиях своих поступков, ни за что не хочет отвечать, ничего не знает и не понимает, бывает бездумно жесток. А теперь вообрази, что так ведет себя здоровенный мужичина лет сорока. Что ты про него скажешь? Исчадие ада. Взрослея, человек перестает пугаться чепухи, не пачкает себя, не тащит в рот всякую дрянь, прежде чем что-то делать – думает. А есть люди, достигающие истинной зрелости. Такие бывают мудрыми, терпеливыми, твердыми перед тем, кто силен, и мягкими с теми, кто слаб. Это и есть взрослость, это и есть Добро. Беда в том, что многие человеки – большинство – так до самой смерти и ведут себя по-младенчески. Всё зло мира, сын мой, оттого, что мир еще ребенок.
Василий Голицын. То же относится и к странам?
Сильвестр. Конечно. Есть страны, которые ведут себя как глупые трехлетки. Есть страны, которые подобны непоседливым отрокам. Есть задиристые и буйные, похожие на юношей. А взрослых стран на свете пока ни одной нету.
Василий Голицын. А что такое тогда Бог?
Сильвестр. Взрослый среди детей – неразумных, озорных, паршивых, всяких… Погоди… (Вскакивает). Шевельнулось что-то… Господи, стих! «О чадо глупо, непутево, воздень горе свои глаза»… Нет. «Вотще свои таращит очи дитя на скорбного отца»… Пойду я, князь, пока не ушло. Прощай.
Бормоча, семенит к выходу.
Василий Голицын (смеясь). Я провожу. Опять заблудишься в переходах.
Трехглазов тенью следует за князем.
Василий Голицын. Тут-то за мной не ходи. В собственном доме мне опасаться нечего.
Голицын и Сильвестр выходят. Трехглазов остается. Оглядывает кабинет. Подходит к шкафам, смотрит на книги.
Вдруг раздается скрип. Один из шкафов начинает двигаться. Трехглазов прячется в нишу.
Из открывшегося потайного хода появляется фигура, наглухо замотанная в плащ с капюшоном. Тихо ступая, входит в комнату.
Трехглазов взмахивает плеткой, захлестывает неизвестному шею, притягивает к себе. Заносит нож.
Трехглазов. Кто таков? Убью!
Софья. Пусти, невежа! Я государыня Софья Алексеевна!
Скидывает капюшон. Под плащом блестит парчовое платье. Трехглазов отступает, после паузы кланяется.
Софья. Это ты кто? Где князь Василий Васильевич?
Трехглазов. Я охранник его милости. Аникей Трехглазов. Князь сейчас вернется.
Софья. Вася взял охранника? На него напали?! Опять?! Кто? Говори!
Трехглазов. …Двое каких-то в черном. С ножами.
Софья. Боже, то-то я места себе не нахожу… Он цел?
Трехглазов. Цел. Я был рядом. Я теперь всегда буду рядом.
Софья (подходит, берет его обеими руками за ворот). В глаза мне смотри. Я людей насквозь вижу, есть у меня от Бога такая сила… (Долго молча на него смотрит.) Нет, тебя насквозь не вижу. Но того, что разглядела, мне довольно. Ни на шаг от него не отходи, слышишь? Куда он, туда и ты. В опочивальне с ним запремся – под дверью карауль. Понял? (Трехглазов кивает.) Дороже головы во всей Руси, на всем свете нет. Сбереги мне ее.
Возвращается Василий Голицын.
Василий Голицын. Сонюшка! Как ты здесь? Случилось что?
Софья отталкивает Трехглазова, тот отступает к стене. Софья бросается к князю в объятья.
Софья. Тревожно стало… И не виделись почти, как ты из похода вернулся. Только во дворце, при чужих. Вот и решила наведаться нашим тайным ходом. На тебя опять напали?
Василий Голицын. Пустое. У меня теперь вон – охрана. Я вижу, ты моего Аникея взглядом уже посверлила. Ну и как он тебе – гож?
Софья. Будет негож – в прах сотру… Свет мой, радость моя, Васенька! Как же я боялась, пока ты в походе был! А давеча, во дворце, мучилась, что вижу тебя, но не могу при всех обнять, поцеловать!
Страстно его целует.
Василий Голицын. Я тебе про крымские дела еще не всё рассказал. Там есть материи, о которых боярам знать незачем. Думал, будем с тобой наедине…
Софья (прерывает его поцелуями). Потом про дела, потом…
Василий Голицын машет рукой Трехглазову: уйди! Тот отворачивается лицом к стене, но не уходит.
Василий Голицын. Когда мы вот так, вместе, я чувствую себя Платоновым андрогином, о две головы и четыре руки, могучим и неуязвимым, которому завидуют боги…
Софья (со счастливым смехом). Нет, Вася, мы не греки, мы русские. Мы с тобой – двуглавый орел.
Василий Голицын. Однако двуглавый орел – фигура не русская, а византийская, то есть тоже греческая. Она попала на Русь двести лет назад при государе…
Софья. Ну тебя с твоей ученостью… Помнишь, как ты мне, глупой дурочке, рассказывал про античную и русскую историю? Ах, как ты был хорош! Ах, как я на тебя смотрела! Не думала ни про Фемистокла, ни про Владимира Красно Солнышко, а лишь про одно: отчего мы, царские дочери, такие несчастные? Отчего обречены до смерти девками вековать? На что мне такая злая судьба – родиться в царском тереме? Всё бы отдала, только бы прожить жизнь с Васей, или хоть бы полюбиться с ним… Ничего бы не устрашилась! Да на что я ему, уродина, такому красивому, умному, ученому? Нет, правда, как ты меня полюбил? Ведь я дурнуха, в зеркало глядеться тошно.
Василий Голицын. Ты лучшая и прекраснейшая на свете. Я смотрю на тебя и вижу сияние. На Руси подобных тебе женщин не бывало со времен равноапостольной княгини Ольги. О тебе будут писать трактаты и слагать поэмы. Женщина, правящая страной, где женщин держат взаперти, где им не дают рта раскрыть. Государыня, при которой Россия повернется от тьмы к свету. Я не знаю, откуда в тебе столько смелости. Это тайна, перед которой я немею…
Софья. Какая тайна? Смелость моя, во-первых, от страха. Страха состариться на девичьей половине среди бабок, шутих и юродивых. А во-вторых, от любви. Ради того, чтоб быть с тобою, я на всё пойду. Да только мало во мне смелости. Если б я была по-настоящему смелой, я бы не таилась, а вышла за тебя замуж. Каждый день и каждую ночь были бы вместе…
Василий Голицын. Да разве можно? Я всего только Голицын, а ты царской крови.
Софья. Твой род и древнее, и выше. Вы – от великого Гедимина, а мой дед Михаил, сказывают, Самозванцу за столом прислуживал. Да и ляд бы с ней, с кровью… Ничего, дай срок. Исполним всё замысленное, и ничто нам не преграда. Ты державу поднимешь, тем и возвысишься. Тогда поженимся – никто слова не скажет. А скажет – пожалеет… Я нынче еще и за этим пришла. Пора тебе выше подняться. Завтра ступай к царям. Они будут тебя за Крымский поход награждать. Я подготовила от их имени указ, чтобы тебя пожаловали великой честью. Будешь отныне именоваться не оберегателем, а правителем, как в свое время Годунов.
Василий Голицын. Правителем? Не дерзко ли, при живых царях?
Софья. Какие они цари? Один дуренок, второй куренок. (Обнимает князя, целует.)…Давай забудем обо всем, хоть на малое время. Пойдем, милый. Будем только ты и я, а боле никого.
Тянет его за собой. Уходят, обнявшись. Сзади тенью следует Трехглазов.
Картина четвертая
В тронной зале
Из-за еще закрытого занавеса раздается торжественно-помпезная музыка: трубы, литавры, барабан. Потом стройный вопль множества голосов: «Слава государям! Слава России!»
Голос дьяка (медленно и монотонно читает). «…За твою к нам многую и радетельную службу, что такие свирепые и исконные креста святаго и всего христианства неприятели твоею службою никогда не слыхано от наших царских ратей поражены и отложа свою обычную свирепую дерзость, приидоша в отчаяние и в ужас…»
Занавес раздвигается. Старинный текст постепенно вытесняется «переводом».
На двух престолах, рядом, сидят в одинаковых парадных облачениях царь Иван и царь Петр. У Ивана жидкая бородка, приоткрытый рот. Петр тощ и очень юн. На обоих царские одежды смотрятся нелепо.
Сбоку и сзади от Петра стоит Борис Голицын. У кулис в почтительной позе – Василий Голицын, он в золоченых доспехах. С противоположной стороны – дьяк с указом в руках.
Дьяк. «…Не поддаваясь на провокации неприятеля, ты, князь-оберегатель, не дал себя вовлечь в затяжные бои и тем избежал ненужных потерь. Устрашенное выдержкой нашей доблестной армии, ханское войско в бессильной злобе отступало до самого Перекопа».
Дьяк поворачивается к кулисам, подает знак. Луженые глотки снова орут: «Слава государям! Слава России!»
Дьяк. «А мая двадцатого числа ты, главнокомандующий, подошел к Перекопу, увидел, что тот сильно укреплен, и мудро повелел встать лагерем, дабы не губить христианские души в напрасном кровопролитии, чего, несомненно, ожидали коварные нехристи, заготовившие множество боеприпасов, вырывшие ямы с кольями и заложившие пороховые мины с намерением взорвать их, если бы русское воинство, возглавляй его менее мудрый командир, опрометчиво пошло бы на штурм, тем самым угодив в ловушку, которую…»
Запутывается в придаточных и машет хору – тот снова кричит «Слава государям! Слава России!»
Пока дьяк пробирается через текст грамоты, цари, соскучившись, оживают. Сначала во весь рот зевает Иван. Петр пихает его локтем. Иван испуганно оглядывается на брата. Съеживается, сидит смирно. Но тут начинает ерзать непоседливый Петр. К нему наклоняется Борис Голицын, шепчет на ухо. Петр распрямляется.
Дьяк. «…Которую православное воинство счастливо избежало благодаря твоему, князь-оберегатель, осторожному предвидению».
Иван вертит головой. Ловит муху. Рассматривает ее с большим интересом. Сует в рот. Выплевывает, плаксиво морщится. Петр опять толкает его в бок.
Дьяк. «Нависнув над воротами Крыма грозной тучей, наша славная армия заставила хана и безбожных татар трепетать от ужаса. Они стали униженно и смиренно просить о мире, клянясь никогда больше не досаждать русским землям грабительскими набегами».
Машет рукой. «Слава государям! Слава России!» Петр ведет себя все беспокойней: его лицо искажается злобой, перекашивается судорогой. Борис Голицын успокаивающе касается плеча юноши, но это не помогает. Иван, наоборот, начинает клевать носом.
Дьяк. «Посрамив и усмирив басурман, ты, князь-оберегатель, с великой славой повернул обратно, привезя с собой из похода много добычи, в числе которой и ханское знамя».
Василий Голицын делает жест. Из-за кулис выходит Трехглазов и подает ему знамя – обычную палку с довольно жалкой тряпкой. Голицын недоуменно смотрит на нее и, подумав, идет вперед. Кладет «знамя» к подножию трона.
Хор орет «Слава государям! Слава России!» пуще прежнего. Иван просыпается, вскидывается, роняет шапку. Борис Голицын подбирает, надевает ее обратно, временно оставив Петра без присмотра.
Дьяк. «И за те небывалые подвиги постановляем мы, великие государи, наградить тебя, пресветлого князя-оберегателя Василия Васильевича Голицына, заслуженной наградой…»
Петр (вскакивая). Ничего я не постановлял! Какой наградой?! За что? Сто тысяч войска без толку простояли у входа в Крым, побоялись вступить в бой и ушли! Позор неслыханный! Весь народ о том говорит! Тебя не награждать, тебя судить надо!
Василий Голицын (строго). Народ – ладно, он темен. Ему подавай кровавые победы, вражеские головы, добычу. Но ты-то, государь, должен видеть дальше. На что нам было входить в Крым? Все равно его не удержишь, да и что в нем пользы? Прибытка от него не будет, одни расходы, да еще на нас всей своей мощью обрушилась бы Турция. Зачем нам большая война? А так и союзникам помогли, и крымцев приструнили, и потерь избежали. Всего, за чем шли в поход, достигли, да притом…
Петра трясет всё сильнее. Из-за его спины Борис Голицын подает оберегателю знаки: сбавь тон.
Петр (перебивает, переходя на истошный визг). Ты с кем говоришь?! Не сметь! Не прекословь царю, смерд! Много воли взял! Забрался к Соньке в постель и думаешь – ты царь! А держава тебе не Сонька! Не тот ты кобель, чтобы всю Россию…
Дьяк поспешно машет рукой. Вопли Петра заглушаются криками «Слава государям! Слава России!», «Слава государям! Слава России!», «Слава государям! Слава России!». Гремит бравурная музыка.
Иван (плаксиво кричит, затыкая уши). Не надо! Не надо!
Борис Голицын обхватывает Петра за плечи, тот вырывается, еще что-то кричит, но слов не слышно.
Борис Голицын (кричит Василию). Да уйди ты ради бога! Уйди!
Василий Голицын, покачав головой, уходит.
Занавес закрывается, но музыка и крики «Слава государям! Слава России!» не стихают.
Второй акт
Картина пятая
У царевны Софьи
Занавес еще закрыт, но слышен «старинный» голос нараспев.
«Старинный» голос. «…Семь тыщ сто девяносто седьмого лета месяца аугуста первого дня память. Сего аугуста первого дня в понеделок во втором часу по заутрене у великой государыни честныя всеблагия царевны Софьи Алексеевны на Верху в ея государыниной светлице думано тайно…»
«Старинный» голос слабеет, вытесняемый «современным» голосом. Он лишен выражения, механистичен и звучит, как закадровый или синхронный перевод.
«Современный» голос. «Протокол секретного совещания правительственного комитета от 1 августа 1689 года. Присутствовали: глава государства царевна С.А. Романова, глава правительства В.В. Голицын; глава силового блока Ф.Л. Шакловитый; телохранитель А. Трехглазов. Слушали: О некоторых вопросах внутренней политики».
Тем временем занавес открывается. В «светлице» нет ничего девичьего – она выглядит как рабочий кабинет. Стол буквой Т. Во главе стола Софья. У меньшего стола, лицом друг к другу, сидят Василий Голицын и Федор Шакловитый. За спиной у Голицына, на некотором отдалении, стоит Трехглазов. За отдельным столиком сидит писец.
Софья. Так и сказал – что тебя судить надо? При всех?
Василий Голицын. Кричал и оскорбительное, чего повторять не буду. Да, он уже не ребенок. И люто нас ненавидит.
Софья. Щенок! Нет, волчонок! Подрос, а мы за многими заботами пропустили. Это хвороба опасная. Как бы в государстве не началась смута. Что будем делать? (Писцу.) Эй, дальше писать не надо. Выйди! (Писец с поклоном пятится, исчезает.) Что скажешь, Федор Леонтьевич? Беречь государство от смуты – твоя служба.
Шакловитый (показывет на Трехглазова). Этот пусть тоже выйдет. Наш разговор не для лишних ушей.
Софья. Нет. Он при Василии Васильевиче должен быть всюду и всегда. Мой приказ.
Шакловитый (пожимает плечами). Твоя воля… Скажи, князь, а ты не зря царевну пугаешь? У меня в Преображенском свои людишки. Еженедельно докладывают. Если кто и мутит воду, так это Петрова мать, царица Наталья. Мои соглядатаи доносят, что мальчишка глуп, в голове у него ветер. Ему бы только немецкое вино пить, на лодке под парусом плавать да с потешными конюхами под барабан маршировать.
Василий Голицын. Знаю я шпионов. Они всегда доносят, что хочет услышать начальство. Нет, царь вырос. И мириться со своим положением он больше не будет. Меня и Борис, двоюродный брат, предупреждал. Боюсь, царевна, твой замысел насчет Петра не исполнится. Не хватит времени. Да и не подчинится Петр. Не та натура.
Шакловитый. Какой такой замысел?
Софья с Голицыным переглядываются. Князь кивает царевне.
Софья. Я не дура, Федор. Давно знала, что братец Петруша когда-нибудь вырастет и захочет настоящим царем стать. Закон на его стороне, да и баба-правительница всем как бельмо на глазу. Тут только один выход. Если б у старшего царя Ивана родился наследник, можно было бы объявить царем ребенка. Иван сам бы в монастырь ушел, Петра заставили бы. А малютку-царя мы с Василием Васильевичем воспитали бы. Оставили бы ему крепкую, обновленную державу, а сами бы… Но это тебя не касается.
Шакловитый. Замысел-то хорош, но есть закавыка. Царь Иван хоть и женат, да лишь для виду. Какие от него, убогого, дети? Уж не знаю, с кем его бедная царица дочку пригуляла.
Софья. Зато я знаю. Сама свела невестку с одним неболтливым молодцем. С первого раза не повезло – родилась дочка. Со второго, бог даст, получится и сын.
Василий Голицын. Говорю тебе: нет на это времени. И не отступится Петр от венца. Он бешеный.
Шакловитый. Мягок ты, Василий Васильевич. Не так с ним разговаривал. С бешеными нужна твердость. Они от твердости тишеют. Не наведаться ли мне, государыня, ко двору твоего любезного братца? Погляжу на него, потолкую. Может, не так страшен черт, как его малюют.
Софья. Что ж, Федор Леонтьевич, съезди. Петруша – волчонок, а ты матерый волчище. Погляди на него, вправь ему мозги. У молодой царицы Евдокии будет день ангела. Отвезешь от меня подарок.
Василий Голицын. И возьми с собой моего человека – Аникея Трехглазова.
Шакловитый (усмехнувшись). Для пригляда? Недоверчив ты стал, князь. Раньше таким не был.
Василий Голицын. У тебя учусь. (Трехглазову.) Один день без тебя обойдусь, чай не сгину. Смотри, запоминай. Я твоему глазу и чутью верю.
Софья. Ладно, Федор, ступай. Пускай теперь дьяк Монетного двора войдет. Будем с ним про обменную меру рубля к талеру говорить.
Картина шестая
Резиденция царя Петра в Преображенском
Перед закрытым занавесом немец-офицер муштрует шеренгу «потешных». Они в одинаковых синих кафтанах, с белыми портупеями крест-накрест. Дудит флейтист, стучит барабанщик – оба неумело. Царь Петр стоит в стороне, нетерпеливо отстукивая темп тростью. Он в треуголке и синем кафтане, в ботфортах, на боку шпага.
Офицер. Antreten! Augen-rechts! Gerade-aus! Ein-zwei-drei! Ein-zwei-drei![3]… Kehrt-um![4]
Шеренга пытается сделать поворот кругом, рассыпается.
Царь Петр (отбирает у барабанщика барабан). Дай! (Бьет.) Вот так! Вот так!
Офицер. Ein-zwei-drei! Ein-zwei-drei! Links! Links!
Шеренга движется нестройно, неуклюжий недоросль все время сбивается с ноги.
Царь Петр (сует барабан обратно барабанщику, колотит его тростью по спине). Бей исправно, сучий сын!
Петр бежит к шеренге, встает в строй, старательно марширует, задирая свои длинные ноги. У него получается быстрее, чем у остальных, они начинают мельтешить, чтобы не отстать.
Офицер. Schneller! Schneller![5]
Царь Петр. Сказано «шнелля», олухи! Нарочно вы, что ли?! Поспевай за мной!
Все очень стараются маршировать вместе с царем, у них даже начинает получаться.
Царь Петр. Гляди, капитан! Вот как надо!
Недоросль спотыкается, падает.
Офицер. Нет, херр Питер, так не надо. Muss man Geduld haben[6]. Я говориль. Не фсё зразу.
Петр впадает в ярость. Кидается к упавшему, начинает колотить его тростью, входя все в больший раж. Колотит по голове и куда придется.
Царь Петр. Меня позорить? Перед немцем позорить? Ты нарочно, нарочно! Убью!
Появляется Борис Голицын. Подбегает, удерживает царя за плечи.
Борис Голицын. Бить бей, но убивать-то зачем? Всех дураков убить – без народа останешься. Петр Алексеич, остынь… (Машет офицеру.)
Офицер (громким шепотом). Gerade-aus! Schneller! Links! Links!
Потешные поспешно утопывают за кулисы, за ними убегают флейтист с барабанщиком. Последним, охая, ковыляет недоросль.
Царь Петр. Дубины… Олухи… Мякинные мозги… Ненавижу! Мякоть русскую ненавижу! Простое дело – в ногу ходить… Не могут! Гурьбой валить, лясы точить, дрыхнуть до обеда – это у них всегда… Стадо баранов! Борис, почему у меня народ такой? За какие грехи?
Борис Голицын. Петр Алексеич, ты как мой братец Василий-то не будь. Это ему народ нехорош – глуп, темен, пуглив. А нам с тобой в самый раз. Ему одного только не хватает, народу нашему.
Царь Петр (понемногу успокаиваясь). Чего?
Борис Голицын. А вот этого самого. К чему ты их приучаешь.
Царь Петр. В ногу ходить?
Борис Голицын. Ну да. Представь себе, что вся Россия в ногу затопает: левый-правый, левый-правый. Это ж земля содрогнется, Европа съежится. Народу порядок нужен. Правила. Железные. Если у стада баранов хорошие овчарки, это называется армия. А с хорошим пастухом – великая держава. Империя.
Царь Петр. Я порядок люблю. Чтобы всё правильно! Всё как положено! Чтоб каждый на своем месте! Чтоб дома в ряд, и внутри домов чтоб всё по правилам, и чтоб одежда какая указано, и работа, и веселье – всё! И чтобы дури в головах не было, а одна только польза! Государева польза!
Борис Голицын. Ну, в головы и в сердца ты к ним не залезешь… И зачем? В головах у них ничего интересного нет, и не надо нам, чтоб было. А сердца… Вот Василий мучается, что он людишкам жизнь легче сделал, а они его не любят. Это потому, что Василий хоть и умник, а ни черта не понимает. Народ у нас разве за это любит?
Царь Петр. А за что?
Борис Голицын. Тебя учителя учили, в чем веселие Руси?
Царь Петр. «Веселие Руси есть пити и не может без того быти». Владимир Красное Солнышко сказал.
Борис Голицын. Дурак он был, а не солнышко. Потому и Киев не устоял, сгинул. А Москва не сгинет. Веселие Руси, государь, есть величие. Наш русак будет в дырявой избе сидеть, сухой коркой кормиться, лупи его кнутом, детей отбери – но если дашь ему величие, всё тебе простит. И за величие тебя полюбит.
Царь Петр (сдергивает с головы шапку, машет ей). Я дам России величие! Чего-чего, а величие дам!
Женский голос. Петруша, шапку надень!
Царь Петр (отмахиваясь). Ай, матушка! (Борису.) Нет от бабья покоя! Мать дура, жена дура, а хуже всех Сонька.
Борис Голицын. Ну, она-то не дура…
Царь Петр. Ненавижу! Ты говорил, недолго уже ждать.
Борис Голицын. Недолго. Сказано тебе: «не фсё зразу». Скоро твоя будет Россия. Увидишь.
Царь Петр. Да как? Откуда? У Соньки всё: стрельцы, пушки, казна. А у меня только дурни потешные… (Кивает туда, откуда доносится звук флейты и барабана.)
Женский голос. Петруша, шапку!
Борис Голицын. У царевны Софьи разум отдельно, кулак отдельно. Разум – мой брат, мечтатель расчудесный. Кулак – Федор Шакловитый, чугунная башка. Наше дело – подождать, когда кулак у разума из повиновения выйдет и дров наломает. Увидишь, всё само сладится.
Царь Петр. Ждать, ждать… Не могу больше ждать… Не хочу… Мне семнадцать лет уже!
Женский голос. Петруша, головку напечет!
Царь Петр. Ну тебя, надоела! (Смотрит за кулисы.) В ногу, сволочи, в ногу!
Убегает, замахиваясь тростью. Борис Голицын бежит за ним.
Занавес раздвигается.
Картина седьмая
Царские покои в Преображенском
Деревянные, обветшавшие палаты. На сцене две царицы – одна средних лет, Наталья Кирилловна, мать Петра, другая совсем девочка, его жена Евдокия. Обе празднично одеты, набелены, нарумянены. Стоят около стола, на котором разложены подарки.
Из окна доносятся звуки флейты, стучит барабан.
Царица Евдокия (достает из коробки зеркало на подставке). Ой, матушка, гляди, какая красота! Это мне английские купцы прислали!
С удовольствием смотрится в зеркало.
Царица Наталья. Дай-ка сюда, Евдокеюшка… (Отбирает зеркало, разглядывает себя, поправляет кику.) Ай, хорошее зеркало, ласковое. Молодит. Возьму. На что тебе молодиться, ты и так молода…
Царица Евдокия. Матушка, Наталья Кирилловна! Ты уже забрала веницейское кружево, перламутровый гребень, горностаевую полушубку. Зеркало хоть оставь!
Пробует отобрать зеркало обратно.
Царица Наталья. Не навсегда беру. На время. Помру – всё тебе достанется.
Царица Евдокия (со вздохом). Бери, что ж. Может, зеркало мне тоже приснилось…
Царица Наталья. Опять она про сон! Сколько можно?
Царица Евдокия. А то не сон? Была я девушка как девушка, звали Парашей Лопухиной, жила себе с отцом-матерью. Вдруг увезли из дома в царские палаты, стали мять-щупать, одевать-раздевать, будто куклу. Сказали: будешь царицей всея Руси. Повенчали с каким-то. Первый раз его в церкви увидела. А он мальчишка совсем, на три года младше, пух на губе. Слюной брызжет, дергается, табачным зельем пахнет… Говорят: ты теперь не Прасковья Илларионовна, дворянская дочь. Ты теперь Евдокия Федоровна, царица. А кто это – «Евдокия Федоровна, царица»? Может, и не я вовсе. Может, снится мне всё…
Царица Наталья. Дура! Ущипнуть, чтоб проснулась?