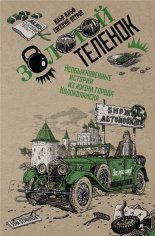Игра в ложь Уэйр Рут

Наконец мы очутились на крохотной лестничной клетке перед стеклянной дверью. Девочка, что привела нас, дернула дверь, натянув заржавевшую пружину, и мы вступили в галерею.
Стены были низкие, а потолок как таковой вообще отсутствовал. Перекрещенные балки уходили прямо под треугольную крышу. Взгляд, оценивающий высоту этой крыши, неминуемо натыкался на бесчисленные этюды, что подсыхали, прикрепленные к балкам. Пространство было занято различными предметами – вероятно, их использовали для натюрмортов. Были здесь и пустая птичья клетка, и сломанная лютня, и чучело мартышки с мудрыми, скорбными глазами.
Солнце проникало сюда только сквозь окна верхнего света. Я поняла: студия расположена под самой крышей, в мансарде, над кабинетом математики. Потому и обычных окон нет – стены для них слишком низки. Все помещение, плотно уставленное деталями натюрмортов, увешанное картинами, залитое бледным позднеосенним светом, являло удивительный контраст с другими классными комнатами – белостенными, почти стерильными, по-казенному пустыми. Я буквально замерла в дверном проеме, щурясь и моргая.
– Амброуз, я тут запуталась… – пропищала какая-то второклашка.
Амброуз? Я вытаращила глаза. В Солтене преподавали в основном женщины, и к каждой из них следовало обращаться «мисс», независимо от фамилии и семейного положения. Ни одна из учительниц не позволяла называть себя просто по имени.
Кого же столь фамильярно назвали Аброузом? Я оглядела студию, и тут-то мне впервые предстал он – Амброуз Эйтагон.
Давно, еще до встречи с Оуэном, я рассказывала о нем своему тогдашнему парню. Описать Амброуза не получалось, хоть тресни. Фотографии у меня сохранились, но на них запечатлен обычный человек среднего роста, с жесткими и довольно редкими темными волосами, сутулый от постоянного корпения над этюдами. Как и у Кейт, его лицо было тонким и подвижным, а годы пленэра и необходимость щуриться на ярком солнце изрядно добавили ему морщин. Парадоксальным образом с морщинами Амброуз Эйтагон казался не старше, а моложе своих сорока пяти лет. Грифельно-синие глаза (передавшиеся по наследству Кейт) были единственной незаурядной особенностью внешности Амброуза – но фотографии не передают их живости, столь мне запомнившейся. А ведь Амброуз и минуты не сидел спокойно. Он был как шарик ртути. Память подбрасывает сотни кадров, в которых Амброуз пишет красками либо рисует углем, смеется, скручивает папиросу, отодвигает стакан сухого красного вина (оно хранилось в двухлитровых бутылках в кухне под умывальником; никто, кроме Амброуза, не мог пить такую кислятину). А главное – всеми, буквально всеми его движениями, всеми действиями руководила любовь.
Лишь такой крупный художник, как Амброуз Эйтагон, мог стать вместилищем столь огромного запаса жизненных сил, совместить в себе столько противоречий – каменную сосредоточенность и беспокойную энергичность, а еще – загадочный магнетизм при весьма ординарной внешности. Что интересно – он так и не написал автопортрета. По крайней мере, я о таковом не слышала. Есть в этом своеобразная ирония, ведь Амброуз рисовал буквально все – птиц над рекой, солтенских девчонок, хрупкие, неброские растения, что выживают на соляных маршах, трепещут на летнем ветру, разлетаясь пухом семян, рябь на водах Рича…
Кейт он рисовал с истинной одержимостью. Вся мельница была буквально завалена набросками: Кейт ест, плавает, спит, играет… Позднее Амброуз стал рисовать нас с Теей и Фатимой; правда, он всегда спрашивал разрешения. Как сейчас, помню его хрипловатый серьезный голос (Кейт даже интонации унаследовала): «Не возражаешь, если я, хм, тебя слегка увековечу?»
Мы никогда не возражали. Хотя, может, и следовало бы.
Однажды, бесконечным летним днем, Амброуз взялся рисовать меня – за кухонным столом, со съехавшей бретелью сарафана, упершую подбородок в ладони, устремившую взгляд прямо на него. До сих пор помню, как солнце припекало мне щеку, каким приливом жара реагировало сердце на каждый мой взгляд, устремленный к Амброузу. И как искрило между нами в те моменты, когда Амброуз отрывался от наброска и наши взгляды встречались.
Набросок достался мне, но где он сейчас, я понятия не имею. Я почти сразу отдала его Кейт на хранение. В школьной спальне набросок было негде спрятать, показывать родителям и солтенским девочкам казалось невозможным – они бы все равно не поняли. Никто бы не понял.
Когда Амброуз пропал, сразу поползли слухи – о его прошлом, о давней наркозависимости, о том, что у него и диплома-то преподавательского не было. Но хрустким и звонким октябрьским утром я ничего об этом не знала. Понятия не имела ни о роли Амброуза в жизнях нас четырех, ни о том, как ему самому аукнется наша дружба с его дочерью, ни о том, сколь долго будет рябить вода, утекающая с нашей первой встречи. Я тогда стояла в дверях, вцепившись в ремешок сумки, запыхавшаяся, и смотрела, как Амброуз Эйтагон сутулится над ученическим мольбертом. Вот он взглянул на меня своими синими-пресиними глазами, улыбнулся, пустив вокруг глаз и бородки лучики морщин, и произнес:
– Привет.
Затем отложил кисточку, вытер руки о фартук и добавил:
– Похоже, мы еще не встречались. Меня зовут Амброуз.
Я лишь рот открывала, словно рыба. Амброуз умел одним только взглядом уверить, что нет для него во всей вселенной человека дороже, чем тот, к которому он сейчас обращается. Умел создать впечатление, будто вы с ним наедине – и пусть комната полна людей.
– Я… меня зовут Айса. Айса Уайлд.
– А меня – Фатима, – пролепетала Фатима, уронив сумку.
Я заметила, что она тоже оглядывается с изумлением, точно Аладдин в пещере сорока разбойников. Еще бы – студия, полная сокровищ, так не походила на остальные школьные помещения.
– Фатима, Айса, – заговорил Амброуз, – я сердечно рад познакомиться с вами.
Он взял мою руку, но не пожал, как я ожидала, а стиснул мне пальцы, словно скрепил этим жестом нашу некую клятву. Руки у Амброуза были теплые и сильные, в складочки, в кутикулу намертво въелась краска: ясно было – ее не отмыть никакими щетками.
– А теперь, девочки, – Амброуз обвел студию широким жестом, – берите мольберты и кисти, проходите, усаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.
И мы повиновались.
То, что уроки рисования кардинально отличаются от других уроков, мы поняли сразу. Во-первых, учителя всех называли по имени; во-вторых, ни одна из девочек не надевала на рисование ни блейзер, ни галстук.
– Катастрофа, если галстук тащится по вашей акварели, – пояснил Амброуз в тот первый день, почти заставив нас развязать наши «удавки».
Но дело было не только в предполагаемой порче рисунка. Дело было в свободе от формальностей. Снимая галстуки, мы словно получали возможность дышать; в остальное время на каждую из нас давила школьная уравниловка.
Несмотря на то, что буквально все девчонки были влюблены в Амброуза и пытались привлечь его внимание – расстегивали блузки, чтобы явить ему, склонившемуся над ученическим холстом, краешек бюстгальтера, – Амброуз оставался невозмутим. На занятиях он был настоящим профессионалом. Держал дистанцию – в прямом и в переносном смысле. Помню, как в самый первый день он подошел ко мне, заметив мою неравную борьбу с эскизом. Я тогда подумала: сейчас поступит, как моя прежняя учительница рисования, мисс Драйвер – та имела привычку привалиться к ученику сзади своим душным животом, обдать запахом пота. Амброуз, напротив, остановился в добром футе от меня, застыл, вдумчиво созерцая мои труды. Я его отлично видела в зеркальце, прикрепленном к мольберту, – мы рисовали автопортреты.
– Дерьмово получается, да? – спросила я с безнадежностью в голосе. И тотчас прикусила язык, приготовившись к нотации за сквернословие.
Амброуз дурного слова будто и не разобрал. Он с прищуром смотрел на мою работу, едва ли замечая меня саму. Я протянула ему карандаш, ожидая, что он станет вносить исправления, как, бывало, делала мисс Драйвер. Рассеянно Амброуз взял карандаш, но бумаги им даже не коснулся. Зато он взглянул мне в лицо и серьезно сказал:
– Вовсе не дерьмово. Но ты, Айса, в зеркало-то и не смотришь. Рисуешь наугад. Нужно смотреть; нужно всматриваться. В свое отражение. В себя.
Я отвернулась, попыталась сделать, как наставлял Амброуз. Всмотрелась в себя, вместо того чтобы пялиться на его лицо, на котором морской ветер и солнце оставили столь заметные следы. Ничего хорошего в зеркале я не увидела – только прыщики на подбородке, детскую припухлость щек да непослушные волосы, кое-как собранные резинкой.
– У тебя потому не получается, что ты рисуешь отдельные черты, а не личность. Ты, как и всякий другой человек, не являешься набором досадливых ужимок, которые выдают твое недовольство собой. Лично я, глядя на тебя, вижу…
Амброуз замолчал, остановив взгляд на моем лице. Я ждала продолжения. Он смотрел так пристально, что мне больших усилий стоило не ерзать на стуле.
– Лично я вижу отважную девушку, – наконец выдал Амброуз. – Отважную и усидчивую. Я вижу девушку с тонкой внутренней организацией и силой, о которой она сама пока не догадывается. Я вижу в глазах этой девушки беспокойство, которое ей, впрочем, нет нужды испытывать.
Я вспыхнула. Слова, в устах любого другого нестерпимо банальные, у Амброуза прозвучали как простая констатация факта; вероятно, виной всему был хрипловатый голос.
– Вот и постарайся передать все это на бумаге, – сказал Амброуз.
Вернул мне карандаш и вдруг улыбнулся доверительно, широко. Сразу, словно нарисованные быстрой умелой рукой, проступили морщинки вокруг синих глаз.
– Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел, – добавил Амброуз.
Я не нашлась с ответом, только кивнула. До сих пор слышу его голос, так похожий на голос Кейт, – отрывистый, с дивной хрипотцой. «Нарисуй девушку, которую я в тебе разглядел». Тот эскиз у меня сохранился. На нем – девчонка, открытая миру; девчонка, которой нечего таить, кроме собственной ранимости. Одна беда: той девчонки, которую увидел Амброуз, в которую он поверил, больше нет на свете.
Может, ее никогда и не было.
Фрейя просыпается от моих шагов, хотя я крадусь на цыпочках. В комнате Люка (даже мысленно не могу назвать ее иначе) я пытаюсь убаюкать свою дочь. Тщетно. Приходится взять Фрейю в постель (в постель Люка). Кормлю лежа, опираюсь на локоть над маленьким компактным тельцем, столь хрупким, если противопоставить его моему весу.
Так мы и лежим – я и Фрейя. Смотрю на нее, жду, когда меня сморит сон; думаю об Амброузе… о Люке… о Кейт, которая живет совсем одна в разрушающемся доме, что мельничным жерновом повис у нее на шее. С завораживающей медлительностью дом погружается в дюны и тянет с собою упрямую Кейт, не желающую расстаться с этим бременем.
Дом поскрипывает на ветру, пошатывается. Переворачиваю подушку прохладной стороной кверху. Я должна бы думать об Оуэне – а думаю о прошлом, о долгих, томных летних днях, что мы проводили на мельнице. Мы пили, купались и хохотали; Амброуз все это зарисовывал, а Люк… Люк просто смотрел из-под своих тяжелых миндалевидных век.
Может, все потому, что я – в его комнате; но только ни разу за эти семнадцать лет воображение не рисовало мне Люка столь отчетливо. Призраки его личных вещей роятся надо мной, его простыни нежат мое тело, и я не могу отделаться от ощущения, будто сам Люк, во плоти, лежит рядом – такой теплый, такой долговязый, такой загорелый и растрепанный.
Наваждение до того реально, что в попытке его стряхнуть я не выдерживаю – поворачиваюсь, открываю глаза. Разумеется, мы с Фрейей здесь одни. Качаю головой.
До чего я докатилась? У меня, как и у Кейт, крыша едет, а расшатывают эту крышу призраки былого.
Но ведь была же одна давняя ночь, что я провела в этой постели!.. Голоса и прочие звуки преследуют меня, словно заело пластинку, словно она прокручивает все тот же трек.
Они все здесь: Люк, Амброуз, да и мы тоже – тонкорукие, гибкие девчонки, что смеялись без умолку до тех пор, пока дивное лето не завершилось катастрофой, заставив нас замереть в ужасе, а потом карабкаться дальше, применять ложь не ради забавы, а ради выживания.
В этом доме призраки нас прежних чуть ли не реальнее, чем три женщины, что спят этажом выше, этажом ниже, через стенку. Их присутствие осязаемо, и я вдруг понимаю, почему Кейт не в силах уехать.
Я почти сплю. Бессильно беру телефон – посмотреть, который час. Когда я возвращаю его на тумбочку, отсвет экрана падает на покоробившийся пол, и я что-то замечаю. В щели между половиц белеет, рябит строчками уголок бумажного листа. Что это? Письмо, написанное Люком и потерянное, а может, спрятанное?
Сердце колотится, я будто вторгаюсь на территорию Люка (впрочем, отчасти так и есть), тяну за уголок и достаю бумагу из пыли и паутины. Сплетения линий говорят о том, что это – рисунок. При свете экрана толком не разберешь, а лампу включать я не хочу, иначе Фрейя проснется. Крадусь к открытому окну. Шторы колышет морской бриз, луна почти полная. Поворачиваю листок в лунных лучах.
Это эскиз, написанный акварелью. Девичий портрет. Возможно, изображена Кейт. Автор, скорее всего, Амброуз. Наверняка сказать не могу, и вот почему: портрет весь исчеркан черной ручкой, линии жирные, на лице – даже двойные и тройные. В них – злоба, столь отчаянная, что местами острие стержня прорвало бумагу. Некто выколол нарисованные глаза девушки – в чем не было нужды, ведь лицо и без того практически полностью замазано. Явная попытка вычеркнуть эту девушку из жизни, стереть из памяти, уничтожить полностью.
С минуту стою у окна, на ветру, пытаюсь понять, чья это работа. Люка? Нет, исключено. Люк никогда бы так не поступил – он любил Кейт. Может, свой портрет испортила сама Кейт? Исключено и это. Впрочем, как ни странно, в акт вандализма со стороны Кейт мне легче поверить.
Тщетно пытаюсь разгадать тайну эскиза, пропитанного яростью, но вдруг в окно врывается ветер и выхватывает бумагу из моих пальцев. Попытки поймать листок безуспешны: он порхает над матовым мутным Ричем, ложится на водную гладь, быстро намокает и тонет.
Что бы ни означал этот рисунок с девичьим лицом – его больше нет. Меня потряхивает, несмотря на духоту ночи. Ложусь в постель и невольно думаю: пожалуй, и к лучшему, что рисунок канул в воду.
После дня и вечера, столь насыщенных эмоциями, я должна бы провалиться в сон без сновидений – нет же. Сначала мне не дает расслабиться исчерканный портрет, затем я все-таки засыпаю, однако сны мои мрачны и запутанны, как коридоры Солтен-Хауса. Я бреду по этим коридорам, поднимаюсь по винтовым лестницам, ищу комнаты, которых в Солтене никогда не было, и, разумеется, не нахожу их. Впереди меня идет Кейт, я слышу ее голос, но не могу за ней угнаться. «Сюда, – говорит Кейт, – мы почти пришли». Ей отвечает жалобный крик невидимой во сне Фатимы: «Опять врешь!..»
А потом раздается лай Верного, я улавливаю звуки шагов и приглушенное: «Тише, Верный, тише». Хлопает дверь – значит, Кейт вывела пса на прогулку.
И снова тихо. Настолько, насколько может быть тихо в старом, кишащем призраками доме, который из последних сил противостоит ветрам и приливам. В очередной раз я просыпаюсь от голосов, доносящихся снаружи, от громкого встревоженного шепота. Сажусь в постели, тру глаза. Что происходит? Утро. Солнце пробивается сквозь тонкую ткань занавесок, и моя Фрейя – словно в озерце света, ее ручки и ножки непроизвольно подрагивают. Она спит. Вдруг начинает хныкать, и я беру ее на руки, прикладываю к груди – но нашей идиллии мешают чужие голоса. Фрейя вскидывает головку, оглядывает комнату; кажется, больше всего ее смущает характер освещения. У нас в Лондоне летом, после полудня, свет ложится пыльными желтоватыми пластами. Здесь он ослепительно чист – до того, что больно глазам – и не знает ни минуты покоя. Блики от волн пляшут на потолке, на стенах – вся комната в движении.
И еще голоса… тихие, взволнованные голоса, оттеняемые по временам жалобным повизгиванием Верного.
Наконец я не выдерживаю. Заворачиваю Фрейю в одеяльце, набрасываю халат, босиком иду вниз по деревянной лестнице, осторожничая на изъеденных временем ступенях. Дверь, выходящая в сторону суши, распахнута, снаружи льется свет – но еще прежде, чем я преодолеваю последний лестничный виток, мне ясно: случилось что-то плохое. Так и есть: плиточный пол залит кровью.
Замираю на ступенях, стискиваю Фрейю, прижимаю к груди, словно такая близость способна унять болезненное сердцебиение. Фрейя пищит, и лишь тогда я соображаю: мои пальцы впились ей в пухлые ножки. Ослабление хватки требует усилий – это было инстинктивное движение, и приходится задействовать волю. Между тем я уже ступила на окровавленный пол.
Только теперь я вижу: это не просто пятна крови. Это следы от окровавленных собачьих лап. Собака у нас одна – Верный. Следы идут от входной двери, делают круг по комнате и удаляются из дому, словно Верного поспешно выгнали.
Голоса доносятся снаружи, со стороны суши. Влезаю в сандалии и выхожу, щурясь от солнца.
Кейт и Фатиму я вижу со спины; Верный сидит рядом с Кейт, тихонько, тоскливо подвывает. Накануне Верный разгуливал свободно – сейчас он в ошейнике, и тонкая рука Кейт сжимает короткий поводок.
– Что случилось, девочки?
Кейт с Фатимой оборачиваются. В следующее мгновение Кейт делает шаг в сторону, и моему взору предстает нечто доселе скрытое. Моя ладонь зажимает рот, я сглатываю, а когда вновь обретаю дар речи, голос у меня дрожит:
– Господи. Она что… мертвая?
Дело не в самом факте – мне и раньше доводилось видеть мертвые тела; дело в эффекте неожиданности, в несоответствии кровавого месива сине-золотому, восхитительному летнему утру. Шерсть влажная – наверное, ее промочил прилив; кровь медленно стекает в черные щели мостков, пропитывает глинистую отмель. Прилив успел отхлынуть, остались только лужицы, а крови достаточно, чтобы окрасить воду в цвет ржавчины.
Фатима мрачно кивает. Прежде чем покинуть стены дома, она не забыла надеть хиджаб и выглядит сейчас как женщина-врач тридцати с хвостиком лет – а не как вчерашняя девчонка-школьница.
– Мертвее не придумаешь, – говорит Фатима.
– Но… но почему… как?.. – мямлю я, не в силах спросить прямо: «Кто?»; между тем мой взгляд устремляется к Верному.
Морда у него вымазана кровью. Привлеченная запахом, на окровавленный собачий нос присаживается муха. Верный взвизгивает, мотает головой. Муха улетела; длинный розовый язык вывалился из пасти в попытке слизнуть липкую мерзость.
Хмурая Кейт пожимает плечами:
– Понятия не имею. Наверняка не мой Верный – он сам как ягненок, хотя… хотя чисто физически он мог бы… Да, он мог бы.
– Но как же?..
Прежде чем мой невнятный вопрос тает в воздухе, взгляд успевает метнуться от мостков к изгороди. Калитка открыта.
– Вот черт!
– То-то и оно. Если бы я только знала, никогда бы его не выпустила.
– Кейт, милая! Мне так жаль! Наверное, это Тея открыла…
– Ну-ка, ну-ка – что конкретно открыла Тея?
Оборачиваюсь на заспанный голос. Тея, взъерошенная, с неприкуренной сигаретой в пальцах, жмурится на пороге мельницы.
– Тея, я в том смысле, что… – осекаюсь, переступаю с ноги на ногу.
Я и правда не думала валить все на Тею – как бы ни прозвучало мое предположение.
Внезапно Тея видит кровь, израненную плоть, мокрую шерсть.
– Черт. Что случилось? При чем тут я?
– Кто-то оставил калитку открытой… – Голос у меня затравленный. – Я совсем не имела в виду, что…
– Неважно, кто не закрыл калитку, – резко обрывает Кейт. – Виновата я. Я должна была проверить все запоры, прежде чем выпускать Верного.
– Это что, твой пес сделал, да?
Тея, бледная, как полотно, пятится от трупа, от Верного, от его окровавленной морды.
– Господи боже.
– Мы не знаем, – коротко поясняет Кейт.
Вид у Фатимы перепуганный, и мысль ее мне ясна: если не пес это сделал – тогда кто?
– Пойдемте отсюда, – говорит Кейт.
От ее резкого поворота с кишок, вываленных на мостки, срывается стая мух – чтобы через мгновение вернуться к пиршеству.
– Пойдемте в дом, – продолжает Кейт. – Надо обзвонить фермеров – может, кто овцы недосчитался. Черт. Только этого нам не хватало.
Пояснения мне не нужны. Дело не только в овце, не только в том, что созерцать растерзанный овечий труп втройне тяжелее с похмелья. Дело в зловонии, которое пропитало воздух. В крови, которая отравила морскую воду, сделала ее мерзкой, враждебной для нас. Сама смерть взяла курс на мельницу.
Фермера, недосчитавшегося овцы, Кейт находит лишь с четвертого или пятого звонка. Затем ждет. Она цедит кофе, старается абстрагироваться от мушиного жужжания над трупом – жужжания, которое слышно даже через закрытую дверь. Тея отправилась досыпать, мы с Фатимой заняты Фрейей – поджарили для нее тост. Фрейя, конечно, его не ест – только делает вид.
Кейт меряет шагами комнату; мечется, словно тигрица в клетке, подходит то к окну, выходящему на Рич, то к подножию лестницы; без конца, до мельтешения в глазах, повторяет маршрут. Она курит самокрутку – дрожь пальцев, а значит, и весь настрой, заметны лишь по вибрациям этой самокрутки в тонких пальцах.
Внезапно Кейт дергает головой, и вместо тигрицы я вижу собаку – чуткую, настороженную собаку. Мгновением позже звук, от которого Кейт так встрепенулась, доходит и до меня. Это – шорох автомобильных шин. Кейт выскакивает из дому, закрывает за собой дверь. Снаружи рокочет чужой недовольный голос, полушепотом извиняется бедная Кейт.
– Простите, пожалуйста. Мне так неловко… Что? В полицию?..
Фатима не выдерживает:
– Как думаешь, Айса, нам выйти?
– Даже не знаю… – Мои пальцы теребят оборку халата. – Этот фермер… он вроде не очень зол. Может, Кейт сама разберется?
Фатима держит Фрейю на руках. Подхожу к окну. Кейт с фермером нависли над мертвой овцой. Фермер и впрямь не столько рассержен, сколько опечален. Кейт кладет ему руку на плечо – жест утешительный, не объятие, нет – но что-то близкое к объятию. Впрочем, Кейт сразу отдергивает руку. Слов фермера не разобрать. Вдвоем они берут злосчастную овцу за ноги, тащат по мосткам и бесцеремонно забрасывают в кузов фермерского пикапа.
– Сейчас принесу деньги, – произносит Кейт.
Фермер закрепляет задний борт. Кейт поворачивается к дому, в пальцах у нее на миг мелькает нечто маленькое, окровавленное – мелькает и исчезает в кармане.
Отшатываюсь от окна. Успеваю прежде, чем открывается дверь; прежде, чем, встряхивая головой, словно стараясь отделаться от дурного впечатления, входит Кейт.
– Все в порядке? – спрашиваю я.
– Не знаю. Вроде того.
Кейт моет окровавленные руки, затем делает шаг к комоду, где лежит кошелек. Открывает отделение для купюр, заглядывает. Выдыхает:
– Вот черт!
– Наличные нужны? – поспешно спрашивает Фатима.
Поднимается, передает мне Фрейю.
– Подожди, сейчас принесу. Моя сумка в спальне.
– Я тоже участвую. Сколько нужно?
Хорошо, что и я могу помочь Кейт.
– Сотни две, – вполне спокойно отвечает Кейт. – Овца, конечно, столько не стоит, но хозяин вправе вызвать полицию, а мне это не нужно.
На лестнице появляется Фатима с сумочкой.
– Вот, у меня есть сто пятьдесят. Еще на Гемптон-Ли, когда заправлялась, вспомнила, что в Солтене банкомат днем с огнем не сыщешь, и сняла с карты немного нала.
– Нет, половина – с меня.
Одной рукой удерживая на плече Фрейю, достаю из сумки, которую оставила болтаться на лестничной подпорке, тугой кошелек.
– У меня достаточно денег, Кейт. Возьми, пожалуйста.
Достаю пять хрустящих двадцаток, причем Фрейя, развеселившись, пытается ухватить каждую из них. Фатима добавляет сотенную купюру. От Кейт нам достается короткая, печальная улыбка.
– Спасибо, девочки. Я отдам, как только мы до Солтена доберемся, – на почте есть банкомат.
– Не надо отдавать, – возражает Фатима.
Но Кейт уже закрыла за собой дверь, ее голос доносится от пикапа. Фермер что-то бурчит, забирая деньги. Затем слышится шорох шин. Пикап удаляется, увозит с мельницы растерзанную овцу.
Кейт возвращается бледная, но с выражением облегчения на лице.
– Слава богу. Теперь едва ли он в полицию станет звонить.
– Но ты ведь не на Верного думаешь? – уточняет Фатима.
Кейт молча подходит к раковине, снова моет руки.
– У тебя кровь на рукаве, Кейт, – говорю я.
– И правда. – Кейт оглядывает свою одежду. – Откуда только в этой старой овце столько кровищи?
Улыбается она криво – понятно, о чем вспомнила. О мисс Винчельси, о пьесе «Макбет», в которой так и не сыграла. Кейт передергивает плечами, сбрасывает жакет прямо на пол, подставляет под кран ведро.
– Помочь? – спрашивает Фатима.
Кейт отрицательно качает головой:
– Нет, не надо. Пойду ополосну мостки, а потом приму ванну. Я такая грязная, просто ужас.
Еще бы. Даже у меня ощущение, будто я пропиталась запахом свежей крови, а ведь не я, а Кейт помогала фермеру тащить мертвую овцу.
От стука закрываемой двери я вздрагиваю. Слышно, как Кейт разом выплескивает воду из ведра на мостки, как метет веником по доскам.
Укладываю Фрейю в коляску.
– Как думаешь, Айса, это пес овцу загрыз?
Фатима говорит шепотом. Пожимаю плечами. Одновременно смотрим на Верного, пристроившегося на коврике возле холодной печи. Вид у него несчастный и пристыженный, в глазах тоска. Под нашими взглядами Верный вздрагивает, вновь принимается облизывать морду розовым языком, недоуменно поскуливает. Чует: что-то не так.
– Трудно сказать, – отзываюсь я.
Одно ясно: я никогда не оставлю Фрейю наедине с этим псом.
Жакет Кейт так и валяется на полу. Меня охватывает внезапное желание помочь, хотя бы в мелочи.
– Слушай, Фати, не знаешь, есть у Кейт стиральная машина?
Фатима озирается по сторонам.
– Неа. Помнишь, в Солтен-Хаусе она всегда сдавала одежду в общую стирку? Кстати, и Амброуз стирал свои вещи сам, прямо в раковине. А что?
– Да вот, хотела постирать жакет. Наверное, лучше сначала его замочить?
– Ага, замочи, только в холодной воде. Тогда кровь быстрее отойдет.
Поскольку стиральной машины нигде не видно, я затыкаю раковину пробкой, пускаю холодную воду, поднимаю с пола жакет. Разумеется, перед замачиванием нужно проверить карманы – что я и делаю. Лишь когда мои пальцы нащупывают нечто мягкое, склизкое, я вспоминаю о предмете, который Кейт столь торопливо сунула в карман там, на мостках.
Предмет – бесформенный комок – оказывается в моих пальцах. Невольно вскрикиваю от отвращения и спешу сунуть руку под кран. Комок, подобно лепестку, разворачивается в холодной воде, скользит на дно раковины.
Не знаю, чего я ожидала – но только не этого. В моих руках – записка, розовый от крови клочок бумаги с оборванными краями, с расплывшимся, но все еще читабельным текстом. Вот что нацарапано шариковой ручкой:
Может, и ее в Рич кинешь, а?
Чувство, меня охватившее, совершенно ново. Это паника – полная, абсолютная. С минуту я стою словно каменная, не в силах не только говорить, но даже дышать. Кровавая вода омывает мои пальцы, сердце бьется о ребра, щеки краснеют от раскаяния и страха.
Кто-то что-то выведал. Кому-то что-то известно.
Мой взгляд обращается к Фатиме – та уткнулась в мобильник, вероятно, пишет сообщение Али. Открываю рот, но по велению внутреннего голоса тотчас закрываю. Пальцы без моего ведома, сами собой, терзают, рвут бумажный комок, впиваются ногтями в ладони, и скоро с запиской покончено, ни единого слова не уцелело. Свободной рукой выдергиваю из раковины пробку, и розовая вода устремляется в сточное отверстие вместе с запиской. Я включаю кран и смываю в канализацию все следы, все обрывки, все волоконца, способные послужить уликами против нас.
И вот их нет, словно никогда и не было.
Мне просто необходимо выйти на воздух.
Кейт все еще в ванной, Тея спит, Фатима включила ноутбук и проверяет почту; ее силуэт отчетливо выделяется на фоне окна.
Фрейя сидит на полу. Пытаюсь играть с ней – тихонько, чтобы не мешать Фатиме. Раскрыла любимую тактильную книжку дочки, читаю полушепотом. Дети в книжке затеяли прятки. Но я то и дело забываю перевернуть страницу, и Фрейя хлопает по ней ладошкой, возмущается: мол, что же ты, мама?
– А где у нас малыш? – шепчу я, однако подпустить в тон загадочности не получается – может, потому, что Верный все так же лежит на своем коврике, облизывает морду длинным языком. У меня только одно на уме: схватить дочь и унести ее из этого дома.
Снаружи доносится стрекотанье кузнечиков, а из головы не идут овечьи кишки на мостках. Открываю в книжке очередное окошечко, в котором застыла нарисованная детская мордашка, – и вижу нечто страшное. Прямо за чудесной, восхитительной, самой сладкой в мире ножкой Фрейи таится острая щепка, отколовшаяся от половицы.
Место, где я когда-то с таким наслаждением полуночничала, теперь полно угроз.
Резко встаю, хватаю Фрейю, которая от неожиданности икает. Книжка из ее ручонок падает на пол.
– Фати, я пойду прогуляюсь.
Фатима отвлекается от ноутбука:
– Ага, иди. Куда направишься?
– Еще не решила. Может, в деревню.
– До нее же почти четыре мили!
Подавляю внезапное раздражение. Мне и без Фатимы отлично известно, сколько миль до Солтена. Я тоже не раз преодолевала это расстояние.
– Ничего, мне полезно пройтись, – говорю я спокойно. – Обувь подходящая, коляска прочная. Обратно на такси можно вернуться.
– Ну, раз ты уверена… Приятной прогулки, Айса.
– Спасибо, мамуля.
В этой фразе прорывается мое раздражение. Фатима выдавливает улыбку.
– Что, и правда так получилось? Прости. Честное слово, не стану напоминать тебе про пальто и про пи-пи на дорожку.
Прыскаю смехом. Принимаюсь устраивать Фрейю в коляске. Фатиме всегда удавалось рассмешить меня, а можно ли сердиться, когда смешно?
– Насчет пи-пи совет совсем нелишний, Фати, – соглашаюсь я, обуваясь. – Мышцы тазового дна уже не те, что раньше.
– Кому-кому, а мне можешь не рассказывать, – рассеянно отзывается Фатима, щелкая по клавиатуре. – Доктор Кегель[4] в помощь. Сжимайся!
Снова смеюсь. Выглядываю в окно. Солнце шлифует воды Рича, над дюнами поблескивает марево. Не забыть намазать Фрейю защитным кремом. Куда я его дела?
– Он в пакете с умывальными принадлежностями, – произносит Фатима – не очень внятно, ведь между зубов она держит карандаш.
Вздрагиваю.
– Что ты сказала?
– Услышала, как ты бормочешь «Где защитный крем?». Увидела, как роешься в детской сумке. Вспомнила, что натыкалась на тюбик в ванной.
Боже, неужели я крем вслух упомянула? Точно крыша едет. Расслабилась в отпуске по уходу за ребенком, начала сама с собой разговаривать, озвучивать свои мысли, привыкнув, что дома никого нет. Становится не по себе. Что еще я выболтала?
– Спасибо, Фати. Будь добра, пригляди минутку за Фрейей, пока я в ванную сбегаю.
Фатима кивает. Спешу в ванную, топая по ступеням.
Дверь заперта изнутри. Лишь дернув за ручку, вспоминаю: Кейт все еще моется.
– Кто там?
Голос приглушен дверью, но усилен эхом.
– Извини, Кейт, мне нужен защитный крем для Фрейи. Можешь передать?
– Сейчас открою, сама возьмешь.
Слышится плеск воды. Щелкает задвижка. Кейт опускается обратно в ванну.
– Заходи, Айса.
Приоткрываю дверь, однако осторожничаю напрасно. Кейт успела скрыться в мыльной пене, видна только голова с небрежным пучком волос да длинная, стройная шея.
– Извини за вторжение. Я быстро.
– Валяй.
Кейт поднимает из пены ногу и берется за бритвенный станок.
– Зря я вообще заперлась. Ничего принципиально нового ты все равно здесь не увидишь. Гулять пойдешь, да?
– Да. Может, в Солтен наведаюсь. Пока не знаю.