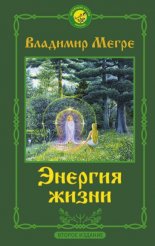Прощай, гвардия! Дашко Дмитрий

Вместо пролога
Память – сволочная штука. Она не дает забыть то, что мы видим в страшных снах, и подводит в самый неподходящий момент. Однако без нее нельзя.
В летописи моей жизни не так уж и много страниц, которые я хотел бы вычеркнуть, однако они есть. Я не ангел и потому совершал поступки, которыми никогда не смогу гордиться. Но все, что было мной сделано плохого, я же и искупил – потом и кровью, своей и врагов.
Порой меня тянет на философию. Сейчас я могу себе это позволить.
Оглядываясь на дорогих моему сердцу людей – отца, мать, дедушек и бабушек, – я невольно прихожу к выводу, что мое поколение – всего-навсего бледное подобие тех, кто победил в страшной войне, сломал хребет фашистской гадине, поднял страну из разрухи, построил могущественную державу, которую и боялись, и любили.
Да, не все у них было гладко и просто, им многое пришлось пережить, но это был народ-победитель, народ-строитель.
А что сделали мы? Кого победили, что сумели построить?
Ответ – перед глазами. Глаза можно закрыть, можно притвориться, что ничего не видишь. Но реальность кусается, и кусается больно. Ее не проведешь.
Мы – лузеры, соорудившие из обломков великого государства страну-мутанта. Прожигатели добра, накопленного до нас. Беспутные наследники. Те, у кого не осталось ничего святого.
Мы делаем вид, что все идет по плану, что все так и должно быть; почиваем на лаврах, не забывая пинать поверженного льва.
Наша история извращена, в ней роется носами продажная сволочь, отрабатывающая заграничное содержание. Иногда, важно похрюкивая, она извергает из себя переваренные помои. Предполагается, что это – истина в последней инстанции. Мы утираемся и терпим.
Терпим!
Нам врут с экранов телевизоров, с газетных и журнальных страниц. Обещают одно, делают другое. Главные коррупционеры борются со взятками; развалившие энергетику устраивают нанопрорыв, «осваивая» миллиарды государственных средств. И никто им не указ, даже прокурор. Высочайше велено: «Не трогать». Дербань – не хочу.
Терпим!
Горят леса, потому что нет лесников. Последних профессионалов пинками выгнали из леса, сократили. Кто теперь будет следить за лесными богатствами? Есть ли смысл колотить в рынду, если ближайшая пожарная машина одна на десять деревень, да и той по штату положен один преклонного возраста «огнеборец»?
Терпим!
Самой народной эмблемой сочинской олимпиады становится пила: на лыжах, коньках, с клюшкой. Кому не ясно, что она пилит?
Народ молчит, народ-терпила безмолвствует.
Мы меняем наши богатства на разноцветные фантики. На эти фантики олигархи, чиновники и генералы катаются на лыжах в Куршевеле, возя с собой табуны дорогих шлюх.
Ах да, Куршевель нынче не вполне комильфо. Так, чай, не единственный из пафосных курортов.
Нам нечем гордиться, нас не за что уважать.
Кто стал нашим ориентиром, на кого мы хотим походить, кем собираемся стать?
Космонавтами, врачами, военными, учеными, геологами, инженерами?
Нет, эти профессии давно потеряли престиж. Произошло страшное: умами завладели ловкие дельцы-бизнесмены, спекулянты, ворюги-чинов ники и прочая беспринципная мразь.
Они сделали нас нищими, моральными уродами, уселись на наших плечах, присосались к нашим артериям и пьют нашу кровь. И будут пить, пока мы это не изменим.
Или не изменю я, парень из двадцать первого века, которого странные игры неведомой цивилизации забросили в далекое осьмнадцатое столетие.
Только, надеясь на меня, сами не оплошайте.
Пролог
«Шведского майора Синклера, укрывающегося под именем Гагберх, разыскать; имеющуюся при нем тайную переписку королевского двора Швеции с турецким султаном изъять и доставить в Петербург; самого майора умертвить так, чтобы даже духу его не осталось. Лучше всего утопить, как кутенка…»[1]
Поручик драгунского полка Левицкий вызубрил инструкцию фельдмаршала Миниха лучше «Отче наш». Знал, но никогда не произносил заученные строки вслух. Есть вещи, не предназначенные для людских ушей.
Была и вторая инструкция, не менее важная и секретная. Ее Левицкий получил от другого человека, которого уважал и… страшно боялся. Она тяготила офицера куда сильнее, чем убийство какого-то шведа, по сути шпиона вражеской державы.
Из-за нее драгун не мог спокойно спать, прикладывался к бутылке чаще обычного, чего товарищи его – капитан фон Кутлер и поручик Веселовский – не одобряли. Однако вынуждены были терпеть, ибо драгунский офицер, несмотря на малый чин, считался среди них старшим.
Внутренний карман походного камзола оттягивал портрет-медальон с изображением шведского майора, которому доверили перевозить секретную переписку между Блистательной Портой и Стокгольмом. Вешать картину на грудь, рядом с нательным крестиком, Левицкий постеснялся. И без того грехов на душе накопилось – вовек не отмоешься.
Работы сия парсуна была искусной. Глядя на нее, Левицкий все крепче убеждался, что не иначе как продал свою душу художник нечистому, ибо рисовать с такой особливой тщательностью простому смертному не дано. И холст был непростой. На удивление гладкий, приятный на ощупь.
Миниатюру эту Левицкому вручил тот страшный человек, который дал ему и вторую инструкцию. Если бы не медальон, искать шведа в огромной Польше было все равно что иголку в стоге сена. Кроме паспорта на выдуманную фамилию Гагберх, у майора наверняка имелись и другие документы.
Проклятущий Синклер метался из одного конца в другой, трое русских офицеров, как ищейки, пытались встать на его след. Иной раз казалось: вот-вот они настигнут злополучного шведа, ан не тут-то было. Синклер исчезал, будто снег весной, просачивался ручейком сквозь кордоны. Манил близким присутствием и пропадал. Был, да весь вышел; растаял, как привидение на рассвете.
Левицкий отчаянно ругался, искал рукой походную фляжку с хлебным вином и, обнаружив ее пустой, ярился пуще прежнего.
Однажды им повезло. Место безлюдное, одинокая карета, нет свидетелей, вообще никого, кроме лже-Гагберха, его слуг да случайного попутчика. Ни о чем не подозревавший Синклер сопротивления не оказал, разве что фон Кутлеру понадобилось разок приложить его рукояткой шпаги, чтобы швед перестал кочевряжиться и показал тайник.
Левицкий, убедившись, что их не надули и бумаги те самые, за которыми пришлось гоняться уйму времени, рубанул палашом, отделяя голову незадачливого курьера от туловища. Брезгливо вытер лезвие и вложил оружие в ножны. Конфиденты тем временем добивали слуг, невзирая на их мольбы о пощаде. Свидетелей быть не должно. Пострадал и попутчик – французишка, купец Кутурье. Его оставлять в живых было всего опасней.
– Убить, – велел Левицкий.
Скоро с кучкой шведов и французом было покончено.
Жаль, ни реки, ни озера, а то бы веревку с камнем на шею – и бултых на дно вместе с уликами. Не найдет никто, не разыщет.
Трупы спрятали в густых кустах, от чужих глаз подальше. Если и наткнется кто по случаю, спишет на разбойников, благо тех на дорогах разоренной войной и вспышкой чумы Речи Посполитой всегда вдосталь.
– Теперь можно и в Петербург, за наградой, – довольно улыбаясь в усы, произнес фон Кутлер.
Он уже видел себя майором, а то и полковником. Миних обещал наградить по-царски, слово фельдмаршал всегда держал.
Поручик Веселовский тоже мечтал о повышении, но по-своему. Его манила блестящая служба в гвардии; в канцелярии давно лежало письмо с просьбой о переводе в Семеновский полк на любую подходящую ваканцию. Ходу прошению пока не давали, однако после выполнения столь щекотливого поручения все должно было перемениться исключительно в лучшую сторону.
Левицкий бережно опустил секретные бумаги в кожаную сумку. Первая инструкция выполнена… почти. Но ведь есть и вторая. Самая противная и тяжелая. Сколько из-за нее было водки выпито, не счесть.
Господи, что же я творю?!
Откуда ни возьмись, в руках драгуна появились заряженные пистолеты, припасенные как раз для этого случая. Стрелком он был метким, впустую тратить пули не стал. Два выстрела, два бездыханных тела недавних конфидентов.
Упокой их души, Боженька!
Простите меня…
Он похоронил бывших товарищей неподалеку от шведов. Даже постоял минутку в скорбном молчании, держа под мышкой запыленную треуголку. Развевался плащ на ветру, дымились пистолеты. Запах пороха щекотал ноздри.
Левицкий взгромоздился на сытого коня, приготовился дать ему шпоры и тут вспомнил.
Медальон. Был четкий приказ его уничтожить.
Жаль красивую вещицу.
Исполнительный Левицкий положил парсуну на камень и раскрошил каблуком. Порядок.
А теперь пришло время тайное сделать явным. Европа должна узнать о коварном злодеянии русских. Пусть об этом напишут все газеты.
Ему было противно от содеянного, но иногда ради благой цели приходится вершить черные дела.
Женщина, которую он боготворил, должна взойти на престол. Став императрицей, она никогда не забудет того, кто ей в этом помог.
Храни ее Бог!
Страшный дом на окраине Питера, холодный, нетопленый. Здание не первый год заброшено, как и несколько соседних. Смотрит на мир черными провалами окон без рам, поскрипывает гнилыми досками. Ветер гуляет по пустым комнатам, по-хозяйски распоряжается дверьми: открывает и закрывает, когда захочет и перед кем захочет. И никого над ним нет, никакой другой силы.
Владельцы давно уже забыли о доме, перестали горевать о выброшенных на ветер деньгах. Строиться в столице – занятие не из дешевых, не всякий потянет. Да и что в ней хорошего, в этой Северной Пальмире? Не парадиз, точно. Вот уж учудил Петр Ляксеич, царствие ему небесное. Сыскал место!
Кругом болота, неспокойная Нева норовит выплеснуться из берегов, сыро, промозгло. Что ни день, то дождь. А не дождь, так снег.
Мороз, и тот неправильный. В иных краях на такой рукой махнешь да спокойно делами займешься. Зато в Петербурге чуть ударит, всего ничего затрещит, и вот уже нет спасения душе христианской. Только и радости, что у костра, гвардейцами на улице разведенного, отогреться. И – дворами-дворами, избегая открытых, холодящих до костей прошпектов.
Сытая, не в пример спокойная Москва тиха и благообразна. Сияет маковками церквей, зовет малиновым звоном колоколов. И народ в белокаменной живет чинно, по старинке, как дедами да прадедами завещано. Но не там нонче бьется сердце России.
Из Петербурга бежит свежая кровь дорогами-артериями к другим городам да весям. Скачут эстафетой курьеры, везя царские указы; с барабанным боем выходят на площадь глашатаи. Слушай честной народ, рты открывай, удивляйся.
Из северной столицы приходит все новое, а раз новое – то страшное и непонятное.
Скрипя полозьями по нерасчищенным сугробам, возок остановился у дома. Всхрапнули лошади, стали ушами прядать. Почуяли кого-то. И верно: мимо прокатили санки с краснощекими пьяненькими солдатами, горланившими свое. Этим все нипочем. Гуляют по случаю турецкой виктории да возвращения из крымских степей. Надрывают луженые глотки.
Мундиры на солдатах новехонькие: зимние шапки-треухи, долгополые зеленые шинели. В столице все это примелькалось, а вот народ приезжий смотрит с удивлением. Непривычно оно как-то.
Из возка выбрались двое в лисьих шубах, меховые шапки надвинуты глубоко, только и видно, что глаза. У одного, ростом и видом неприметного, злые и напряженные, у второго – скорее растерянные.
– Зачем вы привезли меня в эту глухомань? – спрашивает второй.
Каркают с деревьев вороны, самые непугливые слетают с веток, начинают бродить неподалеку. Прыгают бесстыжие воробьи, ищут теплые лошадиные «яблоки».
– Скоро увидите, Семен Андреевич, – многообещающе отвечает невидный собой мужчина.
Внутри дома едва ли теплее, чем снаружи, потому никто и не думает заходить.
Семен Андреевич зябко ежится. Шуба не спасает, мерзнут руки в соболиной муфте.
– У меня мало времени, – говорит он, ози раясь.
– Напрасно вы его не потратите, – уверяет неприметный.
К возку подкатил еще один, точь-в-точь такой же. Встал напротив. Рванул дверцу, напуская холода в теплое нутро, неприметный. Открыл и встал сбоку.
Женщина – высокая, смуглая, – не дожидаясь, когда подадут руку, попыталась выбраться наружу, но неприметный ожег ее таким взглядом, что смуглянка тут же плюхнулась обратно.
– Взгляните.
– Зачем? Вы везли меня через весь город ради этого? Конспиратор… Это даже не смешно! – замерзший Семен Андреевич не на шутку обозлился.
– Я вас прошу: взгляните, – настойчиво повторил неприметный.
– Хорошо! Как же мне надоели ваши выкрутасы, любезнейший!
Семен Андреевич без интереса уставился на женское личико. Определенно, красавицей сия Венера не была, но вид имела чрезвычайно знакомый.
Где-то ему уже приходилось ее видеть… Вспомнить бы еще, где именно.
– Неужто?! – вдруг ахнул он и испуганно закрыл рукой рот, чтобы случайное слово не вырвалось, не пошло гулять по улице.
– Трогай, – приказал неприметный кучеру.
Возок с женщиной умчался прочь, будто его ветром сдуло. Только колючий снег по сторонам.
– Это действительно та, о ком я думаю? Во всяком случае, очень похожа, – уже спокойным тоном спросил Семен Андреевич и удостоился кивка. – Но зачем вам… она?
– Фильм «Человек в железной маске» смотрели? Не тот, в котором играл этот болван Ленька Смирнов, простите, Леонардо ди Каприо[2], а другой, совместный англо-французский. Он еще в советском прокате шел во времена моей молодости.
Семен Андреевич кивнул. По долгу службы ему приходилось смотреть многое, в том числе и старое (как это ни странно звучит применительно к нынешним обстоятельствам) кино.
Неприметный удовлетворенно продолжил:
– Вот я и подумал, почему бы и мне не разыграть эту историю, только на новый лад.
– Простите, а как же наши планы, договоренности? – расстроенно забормотал собеседник.
– Появление этого фон Гофена смешало все наши карты, уважаемый. Вариант с карманным переворотом, устроенным дражайшей Лисавет Петровной, уже не прокатит. Теперь будет недостаточно роты пьяных гренадер. Нужно действовать решительней и тоньше.
– Тоньше?! – почти вскричал Семен Андреевич. – После того, что вы на днях устроили, о какой тонкости может идти речь? Вы, можно сказать, весь Петербург на уши поставили. Да что там Петербург?! Европа бурлит как котел.
Собеседник довольно ухмыльнулся:
– Этого я и добивался. Иногда, чтобы провернуть задуманное, приходится хорошенько взбаламутить стоячее болото.
Семен Андреевич покачал головой:
– Я не в восторге от вашей инициативы и доложу обо всем, как только вернусь. Уверен, ТАМ, – многозначительно подчеркнул говоривший, – меня поддержат. Мы не договаривались, что вы будете устраивать всякие фокусы и закидоны.
Оппонента это ни капельки не смутило. Он лишь невозмутимо пожал плечами:
– Поступайте, как вам угодно. Я лишь пытаюсь исправить ситуацию.
– Скажите спасибо фон Гофену. Это из-за него нам приходится кардинально менять планы. И, кстати, – глаза говорившего превратились в щелочки, – не боитесь, что он тоже вычислит вас, как вы вычислили его?
– Фон Гофен залечивает раны в сотнях верст отсюда. Жаль, не получилось убить его во время той заварушки с татарами. Война бы все списала, и эта проблема решилась бы навсегда.
Семен Андреевич отчего-то улыбнулся. Ему вдруг с жуткой силой захотелось натянуть нос чванливому собеседнику, сбить с него самодо вольство.
– К сожалению, ваши сведения устарели. Фон Гофен поправился и держит путь сюда. Скоро он прибудет в Петербург.
Неприметный сжал пальцы в кулак до хруста, налил глаза кровью, стал страшен. И сказал с железной прямотой и уверенностью:
– Пусть приезжает. Я до него везде доберусь.
Из огромных окон виднелись костры, возле которых грелись гвардейцы-семеновцы, заступившие на охрану подступов ко дворцу. Неподалеку со свистом гарцевала казачья полусотня императорского эскорта. Всадники мерзли, но упрямо продолжали отрабатывать экзерциции.
В богато убранной гостиной, залитой светом и жарко натопленной, собрались самые главные лица государства Российского. Не было разве что вице-канцлера Остермана, по обычаю своему сказавшегося больным, хотя никто из присутствовавших не сомневался: все, что будет произнесено под сводами дворца, обязательно дойдет до ушей влиятельного вельможи.
Анна Иоанновна, откинувшись на спинку стула с изогнутыми резными ножками и мягким сиденьем из голубого бархата, грозно вопросила:
– Ужель это и есть твое окончательное решение?
Позади императрицы стоял в напудренном парике и роскошном камзоле фаворит Бирон. Его красивое, чуть тронутое оспой лицо было бесстрастным, как у хорошего дипломата. Правую руку с перстнем, украшенным бриллиантом, он положил на плечо российской царицы, не то успокаивая, не то чтобы подать тайный знак в нужный момент. К слову фаворита самодержица российская всегда прислушивалась, однако поступала по своему разумению.
– Да, ваше величество, – спокойно ответил виновник сего собрания.
«Маленький» принц Антон Ульрих Брауншвейгский вернулся из похода возмужавшим. Его было не узнать. Куда делись робость движений, опущенный взгляд, еле слышный голос? Исчезло даже легкое заикание, служившее раньше предметом всеобщих насмешек.
Перед собравшимися стоял боевой офицер в парадном кирасирском мундире. Рука его покоилась на позолоченном эфесе палаша. Подбородок горделиво приподнят. Это была не бестактность не знающего правил и приличий хама, а уверенность человека, который привык находиться среди сильных мира сего, и более того – сам принадлежал к этому узкому кругу.
Чуть удлиненное благородное лицо, погрубевшая от порохового дыма и походов кожа, коротко стриженные светлые волосы, безупречная выправка, идеально прямая спина, широкие плечи, сверкающая кираса. Он был прекрасен в этот момент, настоящий рыцарь без страха и упрека.
Молод, великолепно сложен, полон решимости и мужества.
Собравшиеся сознавали это, а более всех – цесаревна Анна Леопольдовна. Она покусывала нежные тонкие губы, ловя себя на мысли, что куда-то исчезает прежняя неприязнь и вместо нее появляется другое чувство. Красавчик граф Линар[3], который покорил ее сердце и был за то спроважен из России, вдруг потерял былую привлекательность, отступив на второй план. Как далеко было тому распудренному светскому хлыщу до блестящего офицера, по праву носившего регалии и ордена.
– Вы действительно решили оставить службу в российской армии и вернуться в Брауншвейг? – нахмурившись, вопросила императрица.
– Ваше величество, я вынужден просить абшида. Когда меня пригласили в Россию, я и помыслить не мог, что являюсь частью матримониального плана российского и венского дворов. Мне думалось, что я вызван, дабы верой и правдой служить вашему величеству на воинском поприще. Теперь, когда мне стали известны истинные причины, боюсь, что я недостоин сей высочайшей чести. И тем паче, как истинный мужчина и кавалер, я не хочу приносить муки той, что не испытывает ко мне настоящего чувства. Прикажите мне умереть на поле битвы, ваше величество, и я с радостью умру с вашим именем на устах. Но стать ненавистным существом в глазах вашей несравненной племянницы выше моих сил. Покорнейше прошу простить меня и разрешить отставку.
Принц встал на одно колено и коснулся губами платья императрицы.
– Дурак, – тихо, но так, чтобы это слышали все, сказала Анна Иоанновна.
Она поднялась и быстрой походкой направилась к выходу. Внезапно императрица покачнулась, стала оседать, и если бы не ловкость караульного солдата, быть беде. Тут же подскочил Бирон, подхватил обессилевшее тело императрицы и на всю залу закричал:
– Лекаря государыне! Скорее!
С другого конца дворцовых покоев уже бежал встревоженный придворный врач Бидлоо.[4]
Приступы у императрицы повторялись все чаще. Лекарь прекрасно понимал, что это значит. Жить императрице оставалось совсем немного. Его врачебное искусство лишь оттягивало неизбежное.
Анну Иоанновну уложили на кровать. Бидлоо выгнал посторонних. При императрице остались лишь он, его помощник и фаворит. Остальные придворные топтались возле закрытых дверей опочивальни.
Внизу уже гремел шпорами стремительный Миних, примчавшийся в ту же секунду, как узнал о случившемся. Дурные вести разносятся быстро.
Бледная Анна Леопольдовна оказалась возле принца. Он дружески взял ее под локоть.
– Ах, оставьте! – обиженно произнесла она. – Вы ведь отказались от меня. К чему теперь все ваши галантности?
– Разве не этого вы хотели? – удивился принц. – Разве не жаждали всей душой избавиться от меня – постылого, ненавистного, навязанного вам жениха?
Анна Леопольдовна отвернулась, не зная, что сказать. Принц был прав, но лишь отчасти. Еще час назад она так и думала, а сейчас… Все поменялось. Это не было любовью с первого взгляда, ибо знали они друг друга уже несколько лет. Но таким принца она еще не видела. Дифирамбы, которые Антону Ульриху пели газеты, раньше казались ей обычной лестью. Рассказы тех, кто воевал вместе с кирасирским полковником на турецкой войне, лишь немного пошатнули прежнее мнение.
Теперь же она понимала, что все написанное и услышанное было правдой. Мальчик стал мужем, мужчиной.
Болезненный приступ с тетушкой лишь обострил чувства Анны Леопольдовны. Она вдруг ощутила себя слабой. Прежний уютный мирок трещал по швам. В такое мгновение любая женщина мечтает о твердой и сильной руке.
– Вы, – цесаревна запнулась, – стали другим. Я не узнаю вас. Моя лучшая подруга Юлиана… Вы разбили ей сердце. Она забыла нашу дружбу, бредит только вами. Мы уже несколько дней в ссоре. Я велела ей не показываться у меня, пока ее страсть не утихнет.
– Можете поверить моему слову – я не прикладывал к этому усилий и, уж тем более, не хотел, чтобы вы лишились лучшей подруги. Никаких поводов я не подавал. Вашей фрейлине стоит обратить внимание на другую креатуру. В России много красивых, образованных и богатых молодых людей. Они составят госпоже фон Трейден подходящую партию.
– А мне? Что вы посоветуете мне? – грустно спросила цесаревна.
Без тетушки-императрицы и единственной подруги она чувствовала себя уязвимой.
Антон Ульрих пожал плечами:
– Я не вправе советовать вам, ваше высочество. Надеюсь, императрица подпишет мое прошение об абшиде.
Анна Леопольдовна притихла, набираясь духу, и наконец произнесла:
– А если я попрошу вас изменить решение, прислушаетесь ли вы к моей просьбе?
Принц деликатно улыбнулся.
Все же этот фон Гофен оказался прав. Если изменить себя, изменится и остальное. Жаль, их встреча случилась поздно. Иметь такого советчика – настоящее благо.
– Только при одном условии, принцесса. Если вы выйдете за меня замуж по любви, – уверенно сказал Антон Ульрих.
Король Швеции Фредрик I был не в духе. Его любовница Хедвига Таубе во всеуслышание объявила, что не пустит короля в свою постель, пока тот не перестанет быть презренным «ночным колпаком»[5] и не отомстит московитам за коварное убийство майора Синклера.
Фредрик мог бы найти себе утешение в объятиях других женщин, но, проклятье, все достойные королевского внимания придворные дамы, как одна, оказались приверженцами партии «шляп», а опуститься до связи с простолюдинками король не мог, опасаясь народных волнений. И без того чернь негодует и отпускает острые шуточки в адрес короля, который так и не сподобился выучить язык своих подданных.
Оставались еще два любимых развлечения: охота и попойка, но заявившийся с утра пораньше бывший президент Канцелярии барон Арвид Горн околачивался в приемной, настаивая на скорой встрече.
Пришлось принять.
Пусть министр находился в отставке, однако влияние его в риксроде[6], а значит, и в политике осталось. С таким человеком приходилось считаться даже королю, тем более шведскому, который, по примеру британских монархов, лишь царствовал, но не правил.
Выглядел опальный вельможа не лучшим образом. Привыкшему к бурлящим политическим страстям, Горну было тяжело оказаться вдали от рулевого весла королевства и окунуться в тихий патриархальный мирок поместья, где важнейшими проблемами были рождение очередного теленка у пестрой коровы Магды да починка прохудившейся крыши сарая.
Барон похудел, осунулся. Его длинный нос выглядел столь уныло, что король едва не расхохотался.
– Только не говори, что соскучился по мне, старина Арвид! – с большим трудом подавляя усмешку, поприветствовал король.
– Прошу прощения, ваше величество, но я хотел бы сразу перейти к делу, – с нажимом проговорил Горн.
– Тебя беспокоит возможная война с московитами? – догадался Фредрик.
– Да, ваше величество, – кивнул барон. – Боюсь, если она начнется, мы проиграем, потеряв если не все, то многое.
– Чего ты хочешь от меня? – удивился король. – Все решения принимает риксрод.
– В риксроде засели «шляпы», опьяненные ненавистью к России. Они жаждут мести за поражение в прошлой войне. Мечтают вернуть утерянные территории. Убийство Синклера только плеснуло масла в огонь. Эти безумцы не понимают, как опасно трогать русского медведя, когда тот спит. Тем более, что у нас уже были разговоры с вице-канцлером российского двора Остерманом. Московиты готовы пойти на уступки и вернуть часть захваченных земель. Они не горят желанием воевать с нами и хотят мира.
– Мое влияние на риксрод незначительно. Тебе ли этого не знать, барон? – усмехнулся король.
Барон чуть приподнял выщипанные брови:
– Но они могут послушать вас, ваше величество, если вы приведете веские доводы. Вы – последний шанс на спасение королевства от неминуемой беды. Доклад, учиненный генерал-поручиком Будденброком по поводу нашей готовности к войне, ложен.[7]
– С чего ты это решил? Будденброк знает свое ремесло. Он уверяет, что войско можно собрать без затруднения; амуниции, пороха и съестных припасов у нас в достаточном количестве. К тому же армия московитов вконец расстроена войной с турками, все полки состоят из новонабранных рекрутов. Как говорит наш бравый генерал Левенгаупт: «На одного шведа надобно десять русских. Нашей армии, чтобы победить, надо только показаться».[8]
– Будденброк ярый сторонник «шляп» и преследует собственные интересы, а Левенгаупт желает реванша. Он хорошо помнит унижение от проигранных московитам баталий. Доклад Будденброка – ложь от начала до конца. Мы не готовы к войне. А Россия уже не та, что была при императоре Петре. Теперь это могущественная держава, с которой приходится считаться даже Версалю.
– Версаль, – задумчиво протянул Фредрик. – Версаль на нашей стороне, любезный барон. Король Людовик не поскупился на деньги и обещания. Он готов наполнить шведскую казну полновесным золотом, если мы укажем русским их место и проучим, ткнув носом в собственные испражнения, как поступают с глупым щенком, чтобы отучить его пакостить там, где нельзя. К тому же сами московиты будут нам помогать. Из Петербурга до меня доходят вести, что императрица слаба здоровьем. Ей пора задуматься о преемнике. Мы выступим на стороне принцессы Елизаветы. Те, кто хочет, чтобы дочь императора Петра заняла престол, станут действовать с нами заодно. Наш посол в России фон Нолькен уже ведет с Елизаветой переговоры. Думаю, она примет наши условия и наши деньги.
– Остановите это, мой король! Умоляю! – Горн упал на колени.
В этот момент в дверях показался запыхавшийся королевский адъютант. Его лицо было красным и зловещим.
– Ваше величество, простите за вторжение. У меня страшные новости из Петербурга.
– Тебя прислало к нам провидение! – воскликнул король. – Говори же скорей, не испытывай моего терпения.
– Ваше величество, наш посол в Московии убит. Проклятые русские застрелили фон Нолькена в его собственном доме.
– Вот видишь, – торжествующе сказал Фредрик, обращаясь к Горну, – даже если бы я выполнил твою просьбу, ничего бы не вышло. Самому Господу угодно, чтобы Швеция наказала вероломную Россию. Да будет так! Да начнется война! Только, – он приложил палец к губам, – никто не узнает, что мы собираемся воевать, пока нога нашего солдата не ступит на земли московитов. Все приготовления будут осуществляться в строжайшем секрете. Чтобы никто не пронюхал об этом, я отправляю тебя, старина Арвид, под домашний арест. Надеюсь, другие «колпаки» окажутся рассудительными и не станут извещать русских.
– Мне очень жаль, ваше величество, – склонил голову Горн.
– Чего тебе жаль, барон? – удивился король.
– Швецию, ваше величество. Только ее и ничего больше.
Раздобревшая на малороссийских борщах да пампушках цесаревна Елисавет Петровна проснулась рано. Что-то разбудило ее, а что именно, она так и не поняла. Валяться в постели расхотелось. И без того все бока отлежала.
Вялый после ночных услад, чернявый Алешка Розум, зевая, посматривал, как «прынцесса» сама надевает длинный ночной халат, натягивает на полноватые ножки тонкие шелковые чулки последней парижской моды, ищет на холодном полу тапочки.
– Ах, мыши проклятущие!
Розум приподнялся на подушке, спросил недоуменно:
– Что случилось, Лизанька?
– Да твари окаянные гляди, что натворили! – Цесаревна сунула под нос любовнику изгрызенный тапок. – Не съели, так поднадкусали. А ведь любимые были. По ноге сношенные. – Елизавета пустила слезу, до того ей стало жалко съеденные мышами тапки, а еще больше себя, бабу беспутную.
– Не кручинься, Лизанька. Станешь царицей, купишь себе мильон таких. Тыщу платьев выпишешь себе из самого Парижу. Заживем!.. – Розум мечтательно закатил красивые глаза.
– Царицей?! – Елизавета насмешливо повела бровью. – Кто ж меня царицей-то сделает при живой тетеньке да сеструхе Анке, чтоб ей пусто было, дурище! Прости мя, Господи! – испуганно перекрестилась она на образа.
– Я тебя царицей сделаю, Лизавета Петровна. – В комнату без стука впорхнул лейб-медик цесаревны, вертлявый низкий Лесток. Он стоял за дверями и слышал разговор. – Не сумлевайся.
Лейб-медик цесаревны не испытывал ни малейшего стеснения и в сторону «гражданского супруга» великой княжны даже не смотрел.
– Ах, Жано! Ты опять подслушивал! – капризно повела маленьким вздернутым носиком цесаревна.
– Все тайны умрут со мной, – стукнул себя по груди маленький лекарь. – Ты же меня знаешь. Дозволь ручку твою поцелую белоснежную аки мрамор.
– Целуй.
Встав на одно колено, Лесток прикоснулся влажными губами к руке Елизаветы, смачно чмокнул и с восторгом произнес:
– Какая теплая она, ваше высочество, будто молоко парное! Сладкая, аки мед. И пахнет вкусно.
– На чужой каравай… – заговорил недовольный любовник, но цесаревна знаком оборвала его.
– Как же ты из меня царицу делать будешь, Жано, миленький?
Поскучневший Алешка отвернулся к стене. Государственных дел и опасных разговоров он старательно избегал.
– Ваше высочество, да нешто не ясно вам как? – засуетился ловкий лейб-медик. – Тетушка ваша со дня на день отбудет в чертоги небесные, а ежели задержится, так ненадолго. А после этого корона сама в ваши руки упадет. Нешто народ немке ее отдаст, сестричке вашей ненаглядной? Токмо лишь подождать чуточек придется.
– Не могу я ждать, – загрустила цесаревна. – Остерман, подлюка, опять планы свои вынашивает. Хочет меня замуж спихнуть, чтобы с глаз долой. Жениха подыскал – брата принца Брауншвейгского. Тетушка дюже довольна такому марьяжу. Две племянницы мои, молвит, еще сильнее породнятся. Как только свадьбу Анкину сыграют, так и моей быть. Увезут в глухомань немецкую, и прости-прощай Россия.
– Не кручинься, Лизаветушка. Не ты ли дщерь Петрова?
– Я, – кивнула цесаревна. – Токмо батюшка не позаботился, чтобы за мной престол русский оставался. И матушка тоже не догадалась о першпективах моих призаботиться.
– Не успели они, ваше высочество. Ну, так мы это поправим, – заулыбался Лесток. – Ждем вестей хороших. Скоро свеи в поход на нас пойдут, мне это доподлинно из самой Стекольны известно. Хотят они тебя на троне императорском видеть. И деньги обещают. Я с них да с версальцев пятнадцать тыщ червонцев, окромя помочи воинской, еще запросил.
– Деньги и впрямь не лишними будут. А вот война… Нешто штыками свейскими хочешь меня императрицей сделать? – испугалась Елизавета.
– Что ты, матушка, – как мельница, замахал руками лейб-медик. – Упаси Господь обо мне такие думы думать. Просто война зачнется, и тетушка твоя полки гвардейские на нее двинет. Новая гвардия – она ко всему привычна, а старая, что семеновские молодцы, что преображенские, думается мне, роптать начнет. Устали они после похода турецкого, а кто не устал… ну, так людишки мои верные о тех позаботятся. Знаешь, сколько их у меня?! Ужасть как много.
– А тетушка? – опасливо спросила Елизавета.