Перерастая бога. Пособие для начинающих Докинз Ричард
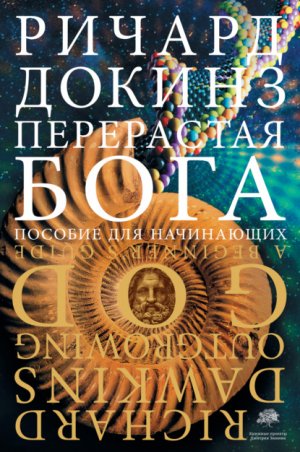
© Richard Dawkins Limited, 2019
© А. Гопко, перевод на русский язык, 2022
© А. Бондаренко, оформление, 2022
© ООО “Издательство АСТ”, 2022
Издательство CORPUS ®
Уильяму и всем молодым людям, достаточно повзрослевшим, чтобы решать самим за себя
Часть первая
Прощай, Бог!
Глава 1
Так много богов!
– Верите ли вы в бога?
– В какого именно?
На протяжении человеческой истории люди по всему миру поклонялись тысячам богов. Политеисты верят сразу во многих богов (theos означает по-гречески “бог”, а poly – “много”). У викингов верховным божеством был Вотан (Один). К числу других их богов относились Бальдр (бог красоты), Тор (бог грома со своим огромным молотом) и его дочь Фруд. Были там среди прочих Снотра, Фригг и Ран (богини мудрости, деторождения и моря, соответственно).
Древние греки и римляне тоже были политеистами. Как и у викингов, их боги были очень похожи на людей – наделены сильными человеческими страстями и эмоциями. Двенадцать греческих богов и богинь нередко объединяют с аналогичными римскими, выполнявшими, как считалось, те же самые функции. Это, например, Зевс (у римлян – Юпитер), мечущий громы и молнии царь богов; Гера (Юнона), его жена; Посейдон (Нептун), бог морей; Афродита (Венера), богиня любви; Гермес (Меркурий), вестник богов, летавший при помощи крылатых сандалий; Дионис (Вакх), бог вина. Из основных религий, сохранившихся до наших дней, политеистическим является индуизм с его тысячами богов.
Бесчисленное множество греков и римлян полагали, будто их боги реально существуют: молились им, приносили им в жертву животных, благодарили богов за удачу и обвиняли их, когда что-то шло не так. Откуда мы знаем, что эти жившие в эпоху античности люди заблуждались? Почему теперь никто не верит в Зевса? Точный ответ нам неизвестен, но большинство из нас уверенно согласится с тем, что по отношению к вышеперечисленным древним богам все мы атеисты (“теистом” называют того, кто верит в бога или богов, а “атеистом” – приставка “а-” обозначает отрицание – того, кто не верит). Некогда римляне называли атеистами ранних христиан, потому что те не верили ни в Юпитера, ни в Нептуна, ни в кого-либо еще из толпы тогдашних божеств. Сегодня мы подразумеваем под этим словом людей, не верящих ни в каких богов вообще.
Как, подозреваю, и вы, я не верю ни в Зевса, ни в Посейдона, ни в Тора, ни в Венеру, ни в Купидона, ни в Снотру, ни в Марса, ни в Одина, ни в Аполлона. Не верю я и в древнеегипетских божеств, таких как Осирис, Тот, Нут, Анубис или его брат Гор, о котором, как об Иисусе и о множестве других богов по всему миру, говорили, будто он родился от девственницы. Также я не верю ни в Хадада, ни в Энлиля, ни в Ану, ни в Мардука, ни в прочих божеств Древней Вавилонии.
Я не верю ни в Аньянву, ни в Маву, ни в Нгаи, ни в какого-либо из африканских богов солнца. Кроме того, я не верю ни в Билу, ни в Гновээ, ни в Вало, ни в Вуриупранили, ни в Карраур, ни в какую угодно еще солнечную богиню аборигенных племен Австралии. Не верю также ни в кого из многочисленных кельтских богов и богинь: ни в ирландскую богиню солнца Этайн, ни в Элату – бога луны. Не верю ни в Мацзу, китайскую богиню воды, ни в бога-акулу Дакуваку с Фиджи, ни в хеттского морского дракона Иллуянку. Не верю ни в единого из бесчисленных сотен небесных, речных, океанских богов, богов солнца, звезд, луны, погоды, огня, леса… Так много богов, чтобы в них не верить!
А еще я не верю в Яхве, бога евреев. Но вполне вероятно, что вы в него верите, если были воспитаны в иудейской, христианской или мусульманской традиции. Еврейский бог был перенят христианами и (под арабским именем Аллаха) мусульманами. Христианство и ислам – побочные ветви более древней религии иудаизма. Первая часть христианской Библии полностью иудейская, и священная книга мусульман Коран тоже частично списана с еврейских манускриптов. Три эти религии – иудаизм, христианство и ислам – обычно принято объединять под общим названием “авраамических”, поскольку все они восходят к мифическому прародителю Аврааму, также почитаемому в качестве отца-основателя еврейского народа. Мы еще встретимся с Авраамом в одной из следующих глав.
Все три авраамические религии называют монотеистическими, так как их приверженцы утверждают, будто верят только в одного бога. Есть несколько причин, почему я выразился “утверждают, будто”. Яхве, главный бог современности (в силу чего я буду писать его с заглавной буквы – “Бог”), пробился с самых низов, начав свою карьеру как бог племени древних израильтян, о которых, по их мнению, заботился, считая своим “избранным народом”. (То, что сегодня Яхве поклоняются во всем мире, – результат исторической случайности: распространения христианства в Римской империи после обращения императора Константина в 312 году.) Соседние племена чтили своих собственных богов, полагая, что те оказывают им особую протекцию. И хотя израильтяне поклонялись Яхве, богу своего племени, это вовсе не обязательно означает, будто они не верили в богов других, враждебных им, племен – например, в Ваала, бога плодородия древних хананеев, – они просто считали Яхве более могущественным и до крайности ревнивым: горе вам, если он поймает вас на заигрывании с другими богами.
Монотеизм современных христиан и мусульман также весьма сомнителен. Скажем, они верят в злого “дьявола”, называемого Сатаной (в христианстве) или Шайтаном (в исламе). Известен он и под рядом других имен: Вельзевул, Князь Мира Сего, Нечистый, Лукавый, Белиал, Люцифер. И хотя богом его не называют, но наделяют богоподобными качествами; считается, что он, вместе с возглавляемыми им силами зла, ведет грандиозную войну против сил добра, возглавляемых Богом. Одни религии часто заимствуют идеи у других, более ранних. Так, представления о вселенской борьбе добра со злом идут, вероятно, от зороастризма – одного из древнейших вероучений, основанного персидским пророком Зороастром (Заратустрой) и оказавшего влияние на авраамические религии. Зороастризм – религия с двумя богами, где добрый бог (Ахура-Мазда) и злой (Ангра-Майнью) оспаривают первенство друг у друга. Небольшое количество зороастрийцев сохранилось до сих пор, главным образом в Индии. Вот, кстати, еще одна религия, которую я не исповедую и вы, наверное, тоже.
Одно из самых нелепых обвинений, предъявляемых атеистам (особенно популярное в Америке и исламских странах), – это будто они поклоняются Сатане. Конечно же, на самом деле в злых богов атеисты верят не более, чем в добрых. Они отрицают все сверхъестественное. В Сатану верят только религиозные люди.
Христианство напоминает политеизм и в других отношениях. “Отца, Сына и Святого Духа” называют “триедиными”. Как именно это понимать – предмет длящихся столетиями дискуссий, зачастую яростных. Звучит как формула для сжатия политеизма в монотеизм. Будет простительно назвать это тритеизмом. Произошедший в ранней христианской истории раскол между Восточной (Православной) и Западной (Римско-католической) церковью был в значительной степени спровоцирован несогласием в следующем вопросе: от кого исходит (что бы это ни значило) Святой Дух – от Отца и Сына или же только от Отца. Богословы действительно проводят свое время в размышлениях на подобные темы.
А ведь есть еще Мария, мать Иисуса. Для католиков она богиня во всех отношениях, кроме наименования. Они отказываются называть ее богиней, но все равно молятся ей. Они верят, что она была “непорочно зачата”. Что это означает? Ну, католики считают всех нас “рожденными во грехе”. Даже крохотных младенцев, которым грешить вроде бы рановато. Как бы то ни было, по мнению католиков, Мария (как и Иисус) была исключением. Все остальные унаследовали грех Адама – самого первого человека. На самом деле Адама никогда не существовало, а следовательно, и грешить он не мог. Но католических богословов не смутить подобными мелочами. Также католики полагают, будто Мария, вместо того чтобы умереть, как остальные люди, была вся целиком утянута “вверх”, на небо. Они изображают ее в виде “Царицы Небесной” (а иногда даже “Царицы Мира”!) с маленькой короной, едва удерживающейся на макушке. Все это, по-видимому, делает ее богиней как минимум не меньшей, чем многие тысячи индуистских божеств (которых сами индуисты называют различными проявлениями одного-единственного бога). Если древние греки, римляне и скандинавы были политеистами, значит, следует считать таковыми и католиков.
Молятся католики и отдельным святым – умершим людям, пользующимся репутацией исключительных праведников и “канонизированным” римским папой. Папа Иоанн Павел II канонизировал 483 новых святых, а нынешний папа, Франциск, – ни больше ни меньше как 813 за один день. Многим святым приписывают особые способности, усиливающие действенность молитв по определенным поводам или от определенных групп лиц. Так, святой Андрей – покровитель рыбаков, святой Бернвард – зодчих, святой Дрого – владельцев кофеен, святой Гуммар – лесорубов, святая Лидвина – конькобежцев. Если вам не хватает терпения, католик посоветует помолиться святой Рите Кашийской. Если ваша вера недостаточно тверда, попробуйте обратиться к святому Иоанну Креста. Испытываете недомогание или страдаете душевно – положитесь на святую Димфну. Больные раком склонны уповать на святого Перегрина. Потеряли ключи – святой Антоний, вот кто вам нужен. Кроме того, есть еще и ангелы различных рангов: от серафимов на самом верху иерархии до вашего личного ангела-хранителя. Промежуточные ступени вроде архангелов – посередине. Опять-таки католики будут отрицать, что считают ангелов богами или полубогами, и возразят, что на самом деле не молятся святым, а просто просят их замолвить словечко перед Богом. Мусульмане тоже верят в ангелов. Равно как и в демонов, которых называют джиннами.
Относятся ли Дева Мария, святые, архангелы и ангелы к богам и полубогам? Не думаю, что это имеет хоть какое-то значение. Спорить, тождественны ли ангелы полубогам, – все равно что спорить об эквивалентности фей сильфидам.
И хотя вы, скорее всего, не верите ни в фей, ни в сильфид, вполне может быть, что вас вырастили в традициях одной из трех авраамических религий: иудейской, христианской или мусульманской. Вышло так, что меня растили как христианина. Я ходил в религиозные школы и был конфирмован в возрасте 13 лет по англиканскому обряду. А в 15 лет полностью порвал с христианством. Одна из причин состояла в следующем. Еще когда мне было девять, я сообразил, что если бы родился среди викингов, то твердо верил бы в Одина и Тора. Родись я в Древней Греции – поклонялся бы Зевсу и Афродите. Если бы в наше время я родился в Пакистане или Египте, верил бы, что Иисус – только пророк, а вовсе не Сын Божий, как учат христианские священники. Если бы мои родители были иудеями, я все еще ждал бы Мессию – долгожданного обещанного спасителя, – вместо того чтобы считать этим Мессией Иисуса, как учили меня в христианских школах. Люди, вырастающие в различных странах, подражают родителям и верят в бога или богов своей страны. Эти вероучения противоречат друг другу и, следовательно, не могут быть правильными все сразу.
Если же какое-то одно из них верно – почему непременно то, что случайно досталось вам вместе со страной рождения? Не нужно обладать чересчур саркастическим умом, чтобы однажды подумать: “Ну не примечательно ли, что почти каждый ребенок исповедует религию своих родителей и всякий раз именно она оказывается единственно верной!” Мало что вызывает во мне столько отвращения, сколько эта привычка метить малолетних детей религией их родителей: “католический ребенок”, “протестантский ребенок”, “ребенок-мусульманин”. Подобные выражения можно услышать и из уст самих детей – слишком маленьких, чтобы обсуждать религиозные взгляды, не говоря уже о том, чтобы иметь свои собственные. Это представляется мне столь же абсурдным, как говорить о “ребенке-социалисте” или о “ребенке-консерваторе”, а таких высказываний никто себе в жизни не позволит. Не думаю, что мы вправе рассуждать и о “детях-атеистах”.
Ну а теперь еще несколько терминов для обозначения неверующих людей. Многие, даже не веря ни в одного из вышеперечисленных богов, предпочитают избегать слова “атеист”. Некоторые просто говорят: “Я не знаю, мы не можем знать”. Такие люди зачастую называют себя агностиками. Ввел это понятие (на основе греческого слова “незнающий”) Томас Генри Гексли, также известный под прозвищем “дарвиновский бульдог”, поскольку он публично отстаивал идеи Дарвина, когда Дарвин был слишком нерешителен, слишком занят или слишком болен, чтобы постоять за себя самому. Некоторые из тех, кто называет себя агностиками, полагают, что боги могут с равной вероятностью как существовать, так и не существовать. Мне такая позиция кажется неубедительной, и Гексли со мной согласился бы. Мы не можем доказать, что фей не существует, но это не значит, будто мы считаем вероятность их существования равной 50 %. Более рассудительные агностики говорят, что не могут утверждать наверняка, но думают, что существование любых богов крайне маловероятно. Другие, возможно, скажут, что оно не так уж и невероятно, просто нам это неведомо.
Также есть те, кто не верит ни в одного из упоминавшихся здесь богов, но все равно нуждается в “некой высшей силе”, в “истинно духовном начале”, в созидательном разуме, о котором мы не знаем ничего, кроме того, что он сотворил Вселенную. Эти люди, вероятно, скажут что-нибудь вроде следующего: “Я, пожалуй, не верю в Бога, – подразумевая, по-видимому, авраамического бога, – но не могу поверить и в то, что воспринимаемый нами мир – это все, что есть. Должно существовать и что-то большее, что-то потустороннее”.
Некоторые из них называют себя пантеистами. Верования пантеистов несколько туманны. Они говорят что-нибудь типа “мой бог – это все”, или “мой бог – Вселенная”, или “мой бог – это глубокая тайна всего недоступного нашему пониманию”. Великий Альберт Эйнштейн употреблял слово “Бог” в значении, весьма близком к последнему приведенному определению. Это сильно отличается от того бога, который слушает ваши молитвы, читает сокровенные мысли и прощает вам грехи (или карает за них) – то есть делает все то, чем предположительно занимается Бог Авраама. Эйнштейн категорически отрицал веру в какое-либо персонифицированное божество, способное к подобным действиям.
Еще есть те, кто называет себя деистами. Они не верят ни в кого из тысяч известных историкам персонифицированных богов. Но их вера несколько конкретнее, чем у пантеистов. Они верят в разумного творца (разумное начало), который придумал законы Вселенной и привел в действие все мировые механизмы при зарождении времени и пространства, после чего он (или оно?) отошел в сторону и расслабился, предоставив вещам развиваться самостоятельно согласно установленным им законам. Некоторые из отцов-основателей США – например, Томас Джефферсон и Джеймс Мэдисон – были деистами. Подозреваю, что, доведись им жить не в восемнадцатом столетии, а после Чарльза Дарвина, они были бы атеистами, но доказать этого я не могу.
Когда люди называют себя атеистами, они не имеют в виду, будто располагают доказательствами отсутствия богов. Строго говоря, невозможно доказать несуществование чего-либо. У нас нет положительных подтверждений того, что богов не существует, так же как нет доказательств отсутствия фей, сильфид, эльфов, домовых, лепреконов и розовых единорогов. Аналогичным образом мы не можем доказать, что на свете нет Санта-Клауса, Пасхального зайца и Зубной феи. Вы можете выдумать миллиарды вещей, которые никто не сможет опровергнуть. Философ Бертран Рассел выразил эту мысль при помощи яркого и запоминающегося образа. Если вам заявят, говорил он, будто вокруг Солнца вращается по орбите фарфоровый чайник, вы не сможете опровергнуть это утверждение. Но невозможность опровергнуть явление – слабоватая причина для веры в него. В некотором очень строгом смысле мы все должны быть “чайниковыми агностиками”. На практике же все мы – “а-чайникисты”. Вы можете быть атеистом в том же самом (формально агностическом) смысле, в каком вы а-чайникист, а-феист, а-эльфист, а-единорогист и а-все-что-только-можно-выдумать-ист.
Строго говоря, мы все должны быть агностиками по отношению к миллиардам тех вещей, что каждый может придумать и никто не способен опровергнуть. Но мы не верим в них. И пока кто-нибудь не предъявит нам причину, чтобы поверить, такая вера будет пустой тратой времени. Именно с подобным отношением мы подходим к Тору, Аполлону, Ра, Мардуку, Митре и Великому Джуджу с Горы. Нельзя ли нам продвинуться чуть дальше и посмотреть точно так же на Яхве или Аллаха?
Я сказал “пока кто-нибудь не предъявит причину”. Ну что же, очень многие люди предъявляли свои причины для веры в того или иного бога или же в какую-либо разновидность “высшей силы” и “разумного творца”. Следовательно, надо рассмотреть эти причины и понять, насколько они убедительны. Некоторые из них мы обсудим в этой книге. Особенно в ее второй части, где речь пойдет об эволюции.
Что касается данной неисчерпаемой темы, пока скажу только одно: эволюция – установленный факт. Мы с вами – родственники шимпанзе, чуть более дальние родственники нечеловекообразных обезьян, гораздо более дальние родственники рыб и так далее.
Многие верят в своего бога или богов на основании письменного источника: Библии, Корана или еще какой-нибудь священной книги. Эта глава уже должна была подготовить вас к тому, чтобы счесть такую причину сомнительной. На свете столько различных верований. Откуда вы знаете, что правдива именно та священная книга, на которой вы выросли? А если все прочие книги ошибаются, тогда что дает вам основания считать свою менее ошибочной, чем другие? Вероятно, многие из тех, кто читает эти строки, выросли на одном определенном священном писании – на христианской Библии. В следующей главе речь пойдет именно о ней: кто написал Библию и почему кто-либо должен считать написанное в ней правдой?
Глава 2
Но правда ли это?
Многое ли из того, что мы читаем в Библии, правда?
Откуда мы вообще знаем, что какой бы то ни было исторический факт действительно имел место? Откуда мы знаем, что существовал Юлий Цезарь? Или Вильгельм Завоеватель? В живых не осталось ни одного очевидца, да и очевидцы на удивление ненадежны – это вам скажет любой полицейский, занятый сбором свидетельских показаний. О существовании Цезаря и Вильгельма мы знаем потому, что археологами были обнаружены указывающие на то предметы, а также потому, что сохранилось множество прижизненных документальных подтверждений. Но когда для удостоверения подлинности события или личности имеется только одно свидетельство, да еще и записанное много десятилетий или веков после смерти всех мыслимых очевидцев, историков одолевают сомнения. Такое свидетельство будет считаться малоубедительным, поскольку оно передавалось из уст в уста и запросто могло исказиться. Особенно если тот, кто записал его, был изначально предвзят. Как сказал Уинстон Черчилль: “История будет ко мне благосклонна. Я собираюсь написать ее”. В этой главе мы увидим, что почти ко всем историям Нового Завета про Иисуса есть вопросы. Что касается Ветхого Завета, ему придется подождать до главы 3.
Иисус должен был говорить на арамейском – семитском языке, близком к ивриту. Книги Нового Завета были в оригинале написаны по-гречески, а Ветхого – по-древнееврейски. Существует множество переводов на английский. Самый известный из них – это датируемая 1611 годом. Библия короля Иакова, названная так потому, что ее заказал король Иаков I Английский (он же Иаков VI Шотландский). Я предпочитаю именно версию короля Иакова, ее язык прекрасен, что неудивительно – ведь речь идет об английском языке времен Шекспира. Но поскольку современным читателям этот язык не всегда понятен, я нехотя принял решение использовать здесь один из современных переводов – Новую международную версию. Все библейские цитаты взяты оттуда, если не указано иное.
Существует игра, которой часто забавляются на вечеринках, известная как испорченный телефон (в Америке ее называют китайским телефоном, а в Британии – китайским шепотом). Вы рассаживаете в ряд, скажем, десять человек. Первый нашептывает что-нибудь (например, некую историю) на ухо второму. Второй пересказывает это, также шепотом, третьему. Третий – четвертому и так далее. В конце концов, когда рассказ доходит до десятого игрока, тот произносит его вслух для всей компании. Если первоначальная история не была до чрезвычайности короткой и простой, она претерпит значительные изменения, нередко забавные. Передаваясь по цепочке, поменяются не только отдельные слова, но и важные подробности рассказа.
До изобретения письменности и возникновения археологической науки устный пересказ баек со всеми присущими ему свойствами испорченного телефона был единственным – и ужасающе ненадежным! – источником знаний об истории. С каждым новым поколением рассказчиков, приходившим на смену предыдущему, история искажалась все сильнее и сильнее. В конечном итоге реально происходившие события растворялись в мифах и легендах. Трудно сказать, существовал ли какой-нибудь живой прототип у легендарного греческого героя Ахилла или у ставшей притчей во языцех красавицы Елены, чей лик “тысячи судов гнал в дальний путь”[1]. Когда поэт Гомер наконец записал эти истории (а мы не знаем, когда это произошло, даже в каком веке), они уже были исковерканы многими поколениями устных рассказчиков. Какая бы то ни было достоверная правда улетучилась из них. Мы не знаем ни кем был этот “Гомер”, ни когда он жил; был ли он слепым, как гласит легенда; один это был человек или несколько. Не знаем мы также, откуда взялись его истории, прежде чем их исказило сито многочисленных пересказов. То ли сперва это было изложение фактов, затем до неузнаваемости приукрашенное, то ли это изначально был вымысел, впоследствии многократно перевиравшийся…
То же самое касается и историй из Ветхого Завета. У нас не больше оснований верить им, чем гомеровским историям об Ахилле и Елене. Рассказы про Авраама и Иосифа – это еврейские легенды, точно так же как сказания Гомера – легенды греческие. Ну а как насчет Нового Завета? Тут больше надежды отыскать подлинные факты – ведь речь идет о периоде относительно недавнем: всего о каких-то двух тысячах лет назад. Но много ли нам действительно известно об Иисусе? Можем ли мы быть уверены хотя бы в том, что он существовал? Большинство исследователей – хотя и не все – склоняются к тому, что да. Какими же доказательствами мы располагаем?
Евангелия? Их печатают в начале Нового Завета, поэтому можно подумать, что они были написаны первыми. В действительности же самые древние книги Нового Завета находятся ближе к концу – это послания апостола Павла. К сожалению, о жизни Иисуса Павел практически не упоминает. Он много говорит о духовном значении Иисуса, особенно о его смерти и воскресении. Но почти ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь претендовать на изложение исторических фактов. Возможно, Павел считал, что его читателям биография Иисуса уже известна и так. Но может быть, он сам ее не знал: напоминаю, что евангелия еще не были написаны. Или же он просто не считал это важным. Отсутствие в посланиях Павла информации об Иисусе приводит историков в недоумение. Не странно ли, что Павел, желавший, чтобы люди поклонялись Иисусу, практически не рассказывает им, что же именно тот сказал и сделал?
Другая причина беспокойства историков – почти полное отсутствие упоминаний об Иисусе в каких-либо источниках помимо евангелий. Писавший по-гречески еврейский историк Иосиф Флавий (37 – ок. 100) не нашел сказать ничего, кроме следующего:
Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по Его имени[2].
Многие историки полагают, что этот фрагмент – фальшивка, вставленная каким-нибудь христианским переписчиком. Наиболее подозрительная фраза: “То был Христос”. В иудейской традиции Мессией (Христос – просто греческий перевод этого слова) называют долгожданного царя или полководца, который должен родиться, чтобы одолеть всех врагов еврейского народа. Христиане учили, что Мессией был Иисус. Но тот вовсе не выглядит полководцем с точки зрения правоверного иудея. И это еще очень мягко говоря. Проповедь мира – вплоть до совета подставлять другую щеку после удара – совсем не то, чего мы ожидаем от бравого вояки. Иисус не только не повел евреев против их тогдашних угнетателей – римлян, но и смиренно позволил этим последним казнить себя. Мысль, будто Иисус был Мессией, показалась бы столь набожному иудею, каким был Иосиф Флавий, абсолютно нелепой. Ну а если бы Иосиф вопреки своему воспитанию вдруг решил, что Мессией оказалась именно такая неожиданная личность, как Иисус, он поднял бы вокруг этого немало шуму, а не просто обронил бы между делом: “То был Мессия”. Все это очень смахивает на позднейшую христианскую подделку. Именно такого мнения и придерживаются большинство исследователей в наши дни.
Помимо этого, единственным древним историком, упомянувшем об Иисусе, был римлянин Тацит (54–120). Приписываемое ему свидетельство выглядит более убедительным благодаря аргументу “от противного”: ничего хорошего о христианах Тацит не говорит. Описывая на латыни эпизод, связанный с преследованиями ранних христиан императором Нероном, он сообщает следующее:
И вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал изощреннейшим казням тех, кто своими мерзостями навлек на себя всеобщую ненависть и кого толпа называла христианами. Христа, от имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат; подавленное на время, это зловредное суеверие стало вновь прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, куда отовсюду стекается все наиболее гнусное и постыдное и где оно находит приверженцев[3].
Как бы то ни было, подлинность данного фрагмента тоже считается сомнительной.
По мнению большинства, хотя и не всех, исследователей, соотношение вероятностей говорит в пользу того, что Иисус все-таки существовал. А ведь мы могли бы знать наверняка, не сомневайся мы в исторической достоверности четырех евангелий Нового Завета. Вплоть до недавнего времени никто и не подвергал их сомнению. В английском языке есть даже устойчивое выражение “евангельская истина”, обозначающее высшую степень правдивости. Но сегодня, после исследований ученых (преимущественно немецких) девятнадцатого и двадцатого столетий, этот оборот звучит несколько фальшиво.
Кто написал евангелия? Когда? Многие ошибочно полагают, что Евангелие от Матфея написал сам мытарь Матфей, один из двенадцати ближайших сподвижников Иисуса. А Евангелие от Иоанна якобы составил другой человек из той же компании – Иоанн, известный также как “возлюбленный ученик”. Авторство Евангелия от Марка приписывают молодому приятелю Петра, самого главного из всех учеников Иисуса, а Евангелия от Луки – некоему врачу, дружившему с апостолом Павлом. Но ни у кого нет ни малейшего представления о том, кто действительно написал эти тексты. Ни в одном из четырех случаев нет никаких убедительных доказательств. Ранние христиане просто для удобства поставили в начале каждого из евангелий чье-нибудь имя. Вероятно, это выглядело лучше скучных нейтральных обозначений вроде A, B, C или D. Ни один серьезный исследователь сегодня не думает, будто евангелия написаны очевидцами, и все сходятся на том, что даже самое древнее, от Марка, было составлено через 35–40 лет после смерти Иисуса. Лука и Матфей взяли большинство своих историй у Марка плюс кое-что из ныне утраченного греческого документа, так называемого источника Q. Все, что изложено в евангелиях, пострадало от десятилетий устной передачи, и прежде чем эти четыре текста были записаны, они подверглись свойственным испорченному телефону искажениям и преувеличениям.
Убийство президента Кеннеди в 1963 году видели своими глазами сотни людей. Оно заснято на пленку. О нем в тот же день сообщили все газеты мира. Была создана Комиссия Уоррена – специальный орган, призванный расследовать происшедшее во всех подробностях. Итоговый 888-страничный доклад комиссии утверждает, что Кеннеди был застрелен Ли Харви Освальдом, действовавшим в одиночку. Однако с годами событие обросло мифами, легендами и теориями заговора, которые, вероятно, будут множиться, передаваясь из уст в уста еще долго после смерти всех очевидцев.
После так называемых терактов 11 сентября, случившихся в Нью-Йорке и Вашингтоне, прошло почти двадцать лет – меньше, чем между кончиной Иисуса и написанием самого первого из евангелий, от Марка. События 11 сентября тщательно задокументированы, изложены множеством свидетелей и с тех пор всячески пережеваны вплоть до мельчайших деталей. Однако же по их поводу нет никакого единства мнений. Интернет бурлит противоречивыми слухами, легендами и теориями. Одни видят здесь американский заговор. Другие – происки Израиля. Кое-кому даже чудятся козни инопланетян. Одно время некоторые бездоказательно считали вдохновителем терактов иракского диктатора Саддама Хусейна. В их глазах это оправдывало ввод войск в Ирак президентом Бушем (хотя официальная причина вторжения всегда была иной). Очевидцы фотографировали лик Сатаны, мерещившийся им в облаках пыли, висевших в тот день над Нью-Йорком.
К сожалению – и с появлением интернета это стало особенно ясно, – люди любят сочинять небылицы. Слухи и сплетни распространяются подобно эпидемиям, вне зависимости от того, правдивы они или нет. Великому американскому писателю Марку Твену приписывают высказывание: “Ложь обойдет полсвета, пока правда едва успеет обуться”. И речь идет не только о злонамеренном обмане, но и просто о хороших историях, которые, хоть они и неверны, приятно и весело рассказывать, особенно если вам их выдали за чистую монету и вы не знаете точно, правда это или нет. Или об историях, что, даже не будучи забавными, сверхъестественны и необъяснимы – вот еще одна причина, почему многие передают их из уст в уста.
Приведу типичный пример, как вымышленная история распространяется благодаря своей занимательности и соответствию людским ожиданиям и предубеждениям. Вначале ознакомлю вас с контекстом. Вам, возможно, приходилось слышать о церковном “восхищении”. Некоторые проповедники и авторы, опираясь на отдельные пассажи из Библии, умудрились убедить тысячи людей, преимущественно американцев, что в ближайшее время немногие счастливцы, избранные за свою праведность, внезапно поднимутся в воздух и вознесутся на небеса. Это “восхищение” возвестит обещанное “второе пришествие” Иисуса. Все остальные – невосхищенные – люди будут “отвергнуты”. Наши знакомые начнут вдруг бесследно исчезать. Под “вознесением на небеса” подразумевается, вероятно, что восхищенные австралийцы и восхищенные европейцы рванут в противоположных направлениях!
А теперь собственно обещанная история. Это чистая выдумка, но многие в нее верят, и она наглядно показывает, как может распространиться хорошая байка. Некая женщина из Арканзаса ехала вслед за грузовиком, который вез надутые воздушные шары, имевшие форму людей в натуральную величину. Грузовик разбился, и розовые надувные куклы, наполненные гелием, стали подниматься в небо. Женщина, думая, что на ее глазах совершается восхищение и второе пришествие Христа, завопила: “Он вернулся, вернулся!” – и на полном ходу полезла через люк в крыше своей машины, дабы тоже быть взятой на небо. Все это закончилось массовым столкновением 20 автомобилей, убившим 13 ни в чем не повинных людей, а также саму героиню повествования. Обратите внимание на вымышленную подробность о 13 невинных жертвах. Вы, возможно, думаете, что пустым пересудам такая точность деталей не свойственна. В таком случае вы ошибаетесь.
Судите сами, насколько эта история “заразна”. Если бы кто-то рассказал вам ее как реальный случай, вы почти наверняка поспешили бы пересказать ее кому-нибудь еще. Байки разносятся просто потому, что они хорошие. Быть может, дело в их занятности. Быть может, в том, что нам приятно всеобщее внимание, когда мы рассказываем что-нибудь интересное. История с наполненными гелием куклами не просто чрезвычайно яркая – она еще и перекликается с человеческими упованиями и заранее составленными суждениями. А разве это не могло быть справедливо и для историй о чудесах Иисуса и о его воскресении? Наверняка ведь первые адепты молодой христианской религии с особенным рвением разносили байки и слухи об Иисусе, не проверяя их достоверность.
Возьмем искаженные пересказами легенды про 11 сентября или гибель Кеннеди: вообразите, насколько легче и основательнее они бы исказились, не будь у нас кинокамер, газет и никаких письменных свидетельств, оставленных ранее чем через 30 лет после случившегося. Нам было бы не на что опереться, кроме устных сплетен. Именно так обстояли дела после смерти Иисуса. По всему Восточному Средиземноморью, от Палестины до Рима, были разбросаны изолированные очаги христианства самого разного толка. Контакты между этими обособленными группками были слабыми и нерегулярными. Евангелия еще не были написаны. Нового Завета, чтобы объединить разрозненные общины, не существовало. У них не было согласия по множеству вопросов: например, следует ли считать христиан иудеями (и подвергать обрезанию) или же это совершенно новая религия. Сквозь некоторые послания апостола Павла проглядывает личность сильного лидера, стремящегося навести порядок в этой неразберихе.
Установленный библейский “канон” – то есть совокупность книг, включенных в официальный список, – окончательно сложился только через несколько веков после смерти Павла. Стандартный канон той Библии, которую читают сегодня христиане (точнее, протестанты), включает в себя 27 книг Нового Завета и 39 – Ветхого. (У христиан, исповедующих католицизм и православие, есть еще набор дополнительных книг, нередко называемых апокрифами.)
Хотя в официальный канон входят только евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, мы увидим, что примерно в одно время с ними было составлено множество других жизнеописаний Иисуса. В значительной степени канон был утвержден в ходе съезда церковных иерархов, известного как Римский собор 382 года. Это произошло в те богатые событиями дни, что наступили для христианства после признания его официальной религией Римской империи вследствие обращения императора Константина Великого. Если бы не Константин, вы, возможно, были бы воспитаны в поклонении Юпитеру, Аполлону, Минерве и прочим богам Древнего Рима. Значительно позже христианство распространилось по всей Южной Америке усилиями двух других великих империй: Португальской (в Бразилии) и Испанской (на остальной части континента). Повсеместное присутствие ислама на севере Африки, Индостане и Ближнем Востоке – также следствие завоеваний.
Как я уже сказал, евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна были всего лишь четырьмя из множества ходивших по рукам во времена Римского собора. К некоторым из менее известных евангелий я вскоре еще вернусь. Все они могли бы войти в канон, но по различным причинам ни одно из них туда не попало. Зачастую дело было в том, что их сочли еретическими – это просто-напросто означает, что их содержание противоречило “правоверным” воззрениям участников собора. Некоторую проблему составило и то, что они были написаны чуть позже евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но, как мы уже знаем, даже евангелие от Марка появилось недостаточно рано для того, чтобы рассматривать его как надежное свидетельство.
Четыре евангелия, оказавшиеся в привилегированном положении, были выбраны отчасти вследствие причин, имеющих больше отношения к поэтической прихоти, нежели к исторической правде. Так, Ириней – один из богословов, оказавших влияние на историю раннего христианства и известных как Отцы Церкви, – жил примерно за двести лет до Римского собора. И он был убежден, что евангелий должно быть ровно четыре, не больше и не меньше. Ириней указывал (как будто это имело какое-то отношение к делу) на то, что есть четыре стороны света и четыре ветра. Отметил он также (как если бы сказанного было недостаточно), что в Откровении Иоанна божий трон стоит на четырех животных с четырьмя лицами. Судя по всему, этот образ был навеян ветхозаветным пророком Иезекиилем, коему привиделись четыре животных, вышедших из клубящегося вихря, с четырьмя лицами каждое. Четыре, четыре, четыре, четыре – от четверки никак не отделаться. Очевидно, что и канонических евангелий должно быть четыре! К моему прискорбию, подобные “рассуждения” сходят в богословии за логику.
Само Откровение, кстати говоря, было включено в канон лишь позже, а лучше бы его не включали вообще. На острове Патмос некоему парню по имени Иоанн приснился странный сон, и Иоанн записал его. Всем нам снятся сны, зачастую довольно-таки странные. Мои, например, почти всегда такие, но я не записываю их и уж точно не нахожу их настолько интересными, чтобы докучать ими другим людям. По части странности сновидение Иоанна превосходит большинство людских снов (почти как если бы спящий был под действием наркотиков). Оно оказало большое влияние на умы, просто потому что сумело каким-то образом попасть в библейский канон и снискало себе репутацию пророческого. Его очень любят цитировать пылкие американские проповедники. Наряду с Первым посланием апостола Павла к Фессалоникийцам Откровение Иоанна – основной источник уже упоминавшейся здесь идеи о “восхищении Церкви”. Также из него берет начало опасное представление о том, что долгожданное Второе пришествие Христа станет возможным только после так называемой битвы при Армагеддоне. Вследствие этого убеждения некоторые американцы жаждут всеобщей войны на Ближнем Востоке с участием Израиля. Они считают, что это и будет “Армагеддон”.
Книги об “отвергнутых” пользуются поразительной популярностью, и тысячи людей, главным образом в США, искренне лелеют нелепое убеждение, что “восхищение” действительно произойдет. Причем в самое ближайшее время. Существуют даже веб-сайты, рекламирующие платные услуги по уходу за вашей кошкой на случай, если вдруг вас без предупреждения “вознесут” на небо во плоти. Печально, что люди не понимают, насколько велика роль случайности в том, какие книги вошли в канон, а какие оказались… отвергнутыми!
Большой промежуток времени, прошедший между смертью Иисуса и написанием евангелий, – не единственная причина сомневаться в исторической достоверности последних. Кроме того, они еще и противоречат друг другу. Хотя все евангелия единодушно утверждают, что Иисуса сопровождали двенадцать особо приближенных учеников, однако насчет того, кем были все эти люди, нет никакого согласия. Матфей и Лука ведут родословную Иосифа, мужа Марии, от царя Давида через два совершенно не похожих друг на друга ряда предков, коих Матфей насчитал 25, а Лука – 41. Мало того, предполагается, будто Иисус родился от девственницы, – таким образом, считать Иисуса потомком Давида на том основании, что потомком Давида был Иосиф, христиане никак не могут. Также в евангелиях встречаются расхождения с установленными историческими данными – например, о римских правителях и их деятельности.
Еще одна проблема, не позволяющая принять евангелия за правдивое изложение событий, связана с прослеживаемым в них навязчивым стремлением к исполнению пророчеств Ветхого Завета. Особенно это касается Матфея. Он производит впечатление человека, вполне способного выдумать происшествие и вписать его в евангелие, просто чтобы оправдать какое-нибудь пророчество. Самый вопиющий пример – сочиненная им легенда о том, что Мария родила Иисуса, будучи девственницей. Эта одна из тех легенд, которым в полной мере удалось зажить своей собственной жизнью. Матфей рассказывает про ангела, явившегося заверить Иосифа, что его нареченная супруга Мария беременна от Бога, а не от другого мужчины. (Кстати говоря, это расходится с рассказом Луки, где ангел приходит непосредственно к Марии.) Как бы то ни было, Матфей без тени смущения продолжает, честно признаваясь своим читателям, что
все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог[4].
Пожалуй, слово “смущение” я употребил здесь не к месту. У Матфея, кем бы он ни был, представления об исторической достоверности сильно отличались от наших. Исполнение пророчества было для него важнее того, что происходило на самом деле. И он бы не понял, почему я так выразился – “без тени смущения”.
Совершенно не понял Матфей и самого пророчества. Оно находится в седьмой главе книги пророка Исаии. И из чтения этой книги очевидно – впрочем, похоже, не для Матфея, – что речь идет не об отдаленном будущем, а о ближайших событиях. Пророк говорил царю Ахазу о некой конкретной молодой женщине, которая присутствовала там же и даже была на тот момент уже беременной.
“Дева” из приведенной Матфеем цитаты соответствует слову “альма” в древнееврейском тексте Исаии. “Альмой” могли называть девственницу, но могли и просто молодую женщину – примерно так же, как обстоит дело с английским словом maiden, используемым в обоих значениях. Когда книгу Исаии перевели на греческий для той версии Ветхого Завета, называемой Септуагинтой, которую мог читать Матфей, “альма” превратилась в “партенос” – а это слово уже определенно означает именно “девственницу”. Простая ошибка переводчика положила начало повсеместно распространившемуся мифу о Пресвятой Деве Марии, ставшей для католиков своего рода богиней, “Царицей небесной”.





