Евклидово окно. История геометрии от параллельных прямых до гиперпространства Млодинов Леонард
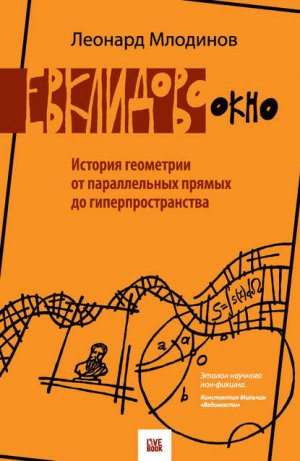
Первый великий схоласт боролся за логическое рассуждение как метод выяснения истины. Им был парижанин XII века Пьер Абеляр. Его позиция в средневековой Франции была чревата неприятностями. Абеляра отлучили от Церкви, а его книги сожгли. Самый знаменитый схоласт Св. Фома Аквинский также отстаивал методы разума, но вот он оказался для Церкви удобоварим. Аквинский подошел к знанию с позиций Подлинного Верующего — или, скажем так, как человек, не желавший, чтобы у огня, разведенного на его книгах, грелись перемерзшие зимней ночью монахи. Аквинский не отправился вслед свободно ведущим его рассуждением, а начал с принятия истинности католической веры и взялся ее доказывать.
Аквинского Церковь проклинать не стала, зато ему решительно противостоял его современник, схоласт Роджер Бэкон. Бэкон первым из натурфилософов придал огромное значение эксперименту. Абеляру не поздоровилось лишь из-за того, что он поставил разум выше Писания, а еретик Бэкон поставил превыше всего истину, выведенную из наблюдения за физическим миром. В 1278 году его отправили в тюрьму — на четырнадцать лет. Он умер вскоре после того, как был отпущен на свободу.
Уильям Оккамский, францисканец из Оксфорда, впоследствии парижанин, знаменит той самой «бритвой», которая и по сей день актуальна для физической науки. Попросту говоря, принцип бритвы Оккама сводится к следующему: теории следует создавать, делая как можно меньше допущений, взятых с потолка. У струнной теории, например, есть намерение строго вывести фундаментальные константы — заряд электрона, число (и тип) существующих «элементарных частиц» и даже число измерений пространства. В предыдущих теориях вся эта информация принималась аксиоматически: ее включали в построения, а не выводили из них. И к математике применима такая эстетика: например, при создании геометрической теории следует опираться на минимально необходимое количество аксиом.
Оккам ввязался в свару между францисканским орденом и папой Иоанном XXII и был отлучен от Церкви. Он сбежал, получил прибежище у императора Людовика IV и осел в Мюнхене. Умер в 1349-м, в разгар чумы.
Из четверых схоластов — Абеляра, Аквинского, Бэкона и Оккама — пронесло только Аквинского. Абеляра, помимо отлучения, еще и кастрировали: его представления о браке не совпали с таковыми у дядюшки его возлюбленной, а тот оказался каноником Католической церкви.
Схоласты сделали громадный вклад в интеллектуальное возрождение Запада. Одним из наследников их учения оказался загадочный французский священник из селения Аллемань[100], подле Кана[101]. С точки зрения математики его работы оказались наиболее многообещающими. В современных книгах по астрономии и математике этот человек, ставший епископом Лизьё, едва упоминается. В соборе Парижской Богоматери давно уж не светят поминальные свечи, заказанные его братом Анри. Мест его памяти на Земле почти не осталось, но вполне символично, что, прибыв на Луну, вы сможете посетить кратер, названный в его честь — кратер Орем.
Глава 10. Скромное обаяние графиков
Суровая сноровистая женщина плывет в лодке по речным протокам в глубине тропических лесов Амазонии — возвращается домой к кровожадным рыбам и ордам москитов, останавливаясь в лесных хижинах, ведомых мало кому, кроме немногих одиноких местных. Она не персонаж из Средневековья. Она из нашего века. Кто она? Может, врач? Волонтер международной помощи? Нет, даже не тепло. Она везет кремы, духи и косметику компании «Эйвон».
Тем временем в нью-йоркской головной конторе ее начальники в костюмах анализируют ход своей мировой войны с сухостью кожи, применяя методы, изобретенные человеком, о котором, без сомнения, ни один из этих начальников сроду ни разу не задумался. Вообразим графики, отражающие ежегодный рост прибылей «Эйвона» по сегментам рынка: международные показатели — синим, местные — красным. Ежегодный отчет иллюстрирует общий оборот компании, объемы сбыта, прибыли отдельных торговых точек; в нем целые страницы прочих показателей во всех мыслимых видах графиков и диаграмм — и тебе столбчатых, и круговых.
Если бы средневековый торговец показал кому-нибудь результаты своей работы в таком виде, на него бы вытаращили глаза. Что означают эти разноцветные геометрические фигуры, соседствующие в том же документе с римскими цифрами? Макароны и сыр уже успели изобрести (сохранился английский рецепт XIV века[102]), а вот идею поженить числа и геометрические фигуры — нет. Ныне графическое представление знания настолько общепринято, что мы едва ли думаем о нем как о математическом приеме: даже самый матемафобный директор «Эйвона» понимает, что линия на графике прибылей, тянущаяся вверх, есть многая радость. Но куда бы ни тянулись графики — вниз или вверх, — изобретение их стало жизненно важным шагом на пути к теории местоположения.
Союз чисел и геометрии греки понимали, увы, неверно — аккурат в этом месте философия оказалась помехой. В наши дни любой школьник изучает, грубо говоря, числовой ряд — линию, обеспечивающую упорядоченную связь между точками на ней и положительными и отрицательными целыми числами, равно как и между всеми дробями и прочими числами на этой линии. Эти «другие числа» — иррациональные, т. е. не целые и не дроби, как раз их отказался признавать Пифагор, но они тем не менее существуют. Числовой ряд обязан включать в себя и их — без иррациональных чисел в нем возникнет бесконечное множество дыр.
Мы уже говорили, как Пифагор открыл квадрат с длиной стороны в единицу, у которого диагональ равна квадратному корню из двух, а это иррациональное число. Если эту самую диагональ отложить в числовом ряду от нуля, другой ее конец обозначит точку, соответствующую иррациональному числу — квадратному корню из двух. Запретив обсуждение иррациональных чисел — они не вписывались в его представления о том, что все числа обязаны быть либо целыми, либо дробными, — Пифагор был вынужден запретить и ассоциацию прямой с числом. Таким способом он замел эту неувязку под ковер — и придушил тем самым одну из самых плодотворных идей в истории человеческой мысли. У всех свои недостатки.
Одним из немногих преимуществ утери греческих трудов стал упадок влияния пифагоровых представлений об иррациональных числах. Теория иррациональных чисел не получила твердого фундамента аж до самого Георга Кантора и работ его современника Рихарда Дедекинда — в XIX веке. И тем не менее, со Средних веков и до Дедекинда и Кантора большинство математиков и ученых закрывали глаза на кажущееся несуществование иррациональных чисел и вполне счастливо, хоть и неумело, все равно их применяли. Очевидно, радость получения правильного ответа перевешивала неприятности работы с числами, которых не существует.
В наше время применение «нелегальной» математики — общее место науки, особенно физики. Теория квантовой механики, например, разработанная в 1920–1930-х годах, очень полагалась на нечто придуманное английским физиком Полем Дираком — дельта-функцию. Согласно математике того времени, дельта-функция попросту равнялась нулю. По Дираку же, дельта-функция равна нулю всюду, кроме одной точки, где ее значение — бесконечность, и, если применить эту функцию вместе с определенными методами счисления, она дает ответы одновременно и конечные, и (обычно) отличные от нуля. Позднее французский математик Лоран Шварц смог доказать, что правила математики можно переформулировать так, чтобы допустить существование дельта-функции, и из этого доказательства родилась целая новая область математики[103]. Квантовые теории поля в современной физике в этом смысле тоже можно считать «нелегальными» — во всяком случае, никто пока не смог успешно доказать, говоря математически, что такие теории существуют «по правилам».
Средневековые философы горазды были говорить одно, а записывать другое — или даже писать сначала одно, а потом другое в полном противоречии с первым, лишь бы сберечь шкуру. И вот в середине XIV века Николай Орезмский[104], позднее — епископ Лизьё, — изобретая графики, не слишком беспокоился о противоречиях, возникающих из-за иррациональных чисел. Орем по умолчанию игнорировал вопрос о том, достаточно ли одних лишь целых и дробных чисел для заполнения базисной прямой графика. Он сосредоточился на том, как приспособить свои новые картинки к анализу количественных отношений.
Графики можно воспринимать как изображение функции, отражающее изменение одного количества в связи с изменением другого. Прибыли компании «Эйвон» от продаж в странах третьего мира в зависимости от времени, сожженные вами калории в зависимости от пройденного расстояния, максимальная дневная температура воздуха в зависимости от географического местоположения — вот они, примеры функций. Любую можно понять, построив ее график. У графика из последнего примера есть специальное название, намекающее на некую более глубинную связь: это карта. Метеорологическая.
Любая карта — своего рода график. К примеру, «нормальная» географическая карта отражает названия городов и стран, а также, быть может, еще кое-какие данные — в зависимости от их географического положения. Греки и прочие, не отдавая себе в этом отчета, применяли такие графики — карты — тысячи лет. Неясно, отдавал ли себе отчет и Орем, но ключевой вопрос он все-таки затронул: имеет ли какой-либо географический или геометрический смысл кривая или иная геометрическая форма, образованная графиком, построенным на некотором множестве данных, т. е. функция?
Если построить график зависимости степени возвышенности земли от местоположения, получится знакомая нам топографическая карта, и ее связь с реальной географией очевидна. Гора в форме уточки на карте местности будет отражена фигурой уточки. А вот если изобразить зависимость погоды от местоположения, получится тоже некоторая поверхность, но не буквальная форма погоды, а некая геометрическая фигура, смысл которой можно изучить. Соотнеся таким образом функции с геометрией, мы получаем описание взаимосвязи между определенными типами функций и типами форм. Изучение линий и поверхностей превращается, стало быть, в изучение тех или иных функций, и наоборот; вот он, союз геометрии и числа. И именно этот шаг и делает изобретение Оремом графиков таким важным для математики.
Сила графиков, применяемых не-математиками к анализу закономерностей в данных, обусловлена все той же связью чисел с геометрией. Человеческий ум легко распознает некоторые простые формы — например, линии и окружности. Разглядывая некую совокупность точек, мы пытаемся затолкать их в эти привычные формы и в итоге можем заметить геометрические закономерности, если данные представлены в виде графика, хотя закономерности в тех же данных, представленных таблицей, можно запросто проглядеть. Искусство построения графиков в этом ключе проанализировано в классическом труде Эдварда Тафта «Наглядное представление количественной информации».
Рассмотрим три довольно скучные колонки чисел:
В каждой представлены некоторые замеры, т. е. каждая величина имеет погрешность эксперимента. Первый набор чисел назовем данными Алексея — допустим, их получил студент по имени Алексей, и, аналогично, второй и третий наборы — Николая и мамы. Если представить эти данные как функцию времени, возникнет ли какая-нибудь закономерность, а если возникнет, то какая? Вот в чем вопрос.
Глядя на числа в таблице, усмотреть закономерности непросто, но стоит построить графики, все немедленно проясняется. График, построенный на данных Алексея, — прямая, если не считать точки с координатой времени 2, где Алексей либо чихнул, либо отвлекся на приятеля и его компьютерную игру.
Данные Николая укладываются в хорошо нам известную форму под названием парабола, которая описывает, например, зависимость энергии пружины от длины ее растяжения или высоты положения летящего пушечного ядра от пройденного расстояния. Математически говоря, эта форма описывается функцией, где измеряемая величина возрастает с квадратом времени (или расстояния). Мамин график есть верхняя правая четверть окружности, одной из самых распространенных форм в нашей жизни, и, как и в случае Алексея, одной из основных евклидовых фигур. Но вот из одних лишь записанных цифр это куда как не очевидно.
Орем применил эту новую мощную геометрическую методику для доказательства одного из знаменитейших законов физики того времени — мертонского правила[105]. Между 1325 и 1359 годами группа математиков из оксфордского Мертон-Колледжа, предложила понятийный аппарат для количественного описания движения. В античных дискуссиях расстояние и время рассматривались как количества, которые можно описать численно, однако «быстроту», она же «скорость», никто не считал.
Данные принимают форму
Ключевая теорема, выведенная мертонской школой, — мертонское правило — оказалась своего рода мерной линейкой в гонках черепахи и зайчихи. Вообразим некоторую черепаху, которая бежит, скажем, одну минуту со скоростью, допустим, в одну милю в час. А теперь вообразим зайчиху, стартующую еще медленнее, но с постоянным ускорением — так, что к концу минуты она несется с гораздо большей прытью, чем ее соперница, движущаяся с постоянной скоростью. Согласно мертонскому правилу, если через минуту движения с постоянным ускорением зайчиха бежит вдвое быстрее черепахи, они прошли к этому моменту одно и то же расстояние. Если скорость зайчихи больше черепашьей более чем вдвое, она окажется впереди, а если менее чем вдвое — отстанет.
Если облечь все это в ученые термины, правило звучит так: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением из состояния покоя, равно расстоянию, пройденному объектом за то же время со скоростью, равной половине от максимальной. С учетом мутности представлений о местоположении, времени и скорости, а также недоразвитости инструментов измерения мертонское правило производит сильное впечатление. Однако без приемов матанализа или алгебры мертонцы никак не могли доказать своих рассуждений.
Николай Орезмский доказал это правило геометрически, применив методику графиков. Он принялся откладывать время по горизонтальной оси, а скорость — по вертикальной. Таким способом постоянная скорость отображалась в виде горизонтальной прямой, а постоянное ускорение — линией, устремляющейся вверх под некоторым углом. Орем понял, что площадь под этими линиями — прямоугольник и треугольник соответственно — есть пройденное расстояние.
Расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением (в мертонском правиле), таким образом, есть площадь прямоугольного треугольника, чье основание пропорционально времени движения, а высота представляет максимальную скорость. Расстояние, пройденное объектом с постоянной скоростью, задается площадью прямоугольника с таким же основанием, как и у треугольника, а высота его вполовину меньше высоты треугольника. Оставалось лишь доказать, что площади этих двух фигур равны. Например, если удвоить этот треугольник, достроив к его гипотенузе такой же, и удвоить прямоугольник, достроив к нему такой же по верхней стороне, получится одна и та же фигура.
Орем применил аналогичное графическое рассуждение[106] при формулировке закона, который обычно приписывают Галилею: расстояние, пройденное объектом с постоянным ускорением, растет с квадратом времени. Убедиться в этом можно, представив вновь все тот же прямоугольный треугольник, чья площадь есть расстояние, пройденное с постоянным ускорением. Эта площадь пропорциональна произведению основания на высоту, а они в свою очередь пропорциональны времени.
Такое интуитивное понимание Оремом природы пространства не менее поразительно. А еще Николай Орезмский утер Галилею нос[107], фактически сделав вклад в эйнштейнову теорию относительности. В пределах этой теории имеет смысл лишь относительное движение. Учитель Орема в Париже, Жан Буридан, считал, что Земля не может вращаться: если бы она вращалась, стрела, пущенная вертикально вверх, падала бы в другое место. Орем возразил своим примером: мореход на корабле, вытягивая руку вдоль мачты, воспринимает это движение как вертикальное. Однако нам с суши это движение увидится как диагональное — потому что корабль движется. И кто же тогда прав? Орем считал, что сам вопрос в данном случае сформулирован неверно: невозможно выяснить, происходит ли движение объекта без соотнесения его с другим. Ныне это наблюдение иногда называют принципом относительности Галилея.
Николай Орезмский не опубликовал множество своих трудов, а многие не довел и до логического завершения. Во многих своих рассуждениях он подошел вплотную к научному перевороту, но во имя Церкви всякий раз отступал. К примеру, опираясь на свой анализ относительности движения, Орем пришел к размышлениям о том, можно ли развить астрономическую теорию, согласно которой Земля бы вращалась и даже двигалась бы вокруг Солнца, — эти революционные идеи позднее провозгласили Коперник и Галилей. Но Орем не только не смог убедить в этих представлениях своих современников, но и сам в конце концов от них отказался, и сдался он не перед доводами разума[108], а перед Библией. Ссылаясь на псалом 93: 1, Орем писал: «Облечен Господь могуществом[109] препоясан: потому вселенная тверда, не подвигнется»[110].
Во многом Николай Орезмский обрел блистательные прозрения о природе мира, но всякий раз отшатывался от истины, открывавшейся ему. Например, у Орема были крайне скептические представления о демонах, граничившие с ересью: он утверждал, что их существование не может быть доказано законами природы. И, тем не менее, как добропорядочный христианин, он продолжал считать, что они существуют как объект веры. Быть может, умиляясь собственной противоречивости, Орем писал как-то[111], следуя Сократу: «Я действительно не знаю ничего, кроме того, что я ничего не знаю». Преданность Орема религиозному ведомству оказалась вознаграждена: он рос в бедности, а стал советником короля, послом и наставником Карла V. Благодаря поддержке монарха в 1377 году Орема за пять лет до смерти возвели в сан епископа.
Хотя нет никаких доказательств того, что Галилей использовал какие-либо труды Орема, интеллектуальное наследование очевидно. Увы, революция Николая Орезмского в математике так и не произошла, и миру пришлось подождать еще 200 лет, а пока Церковь слабела, двое других французов украдкой приняли эстафету и на сей раз изменили математику навсегда.
Глава 11. Солдатская сказка
31 марта 1596 года[112] хворая французская аристократка, сухо кашляя — возможно, туберкулез, — родила своего третьего ребенка. Младенец оказался слабым и болезненным. Несколько дней спустя мать скончалась. Врачи предсказывали, что вскоре и чадо последует за родительницей. Отцу ребенка пришлось ох как не просто, однако он не сдался. Первые восемь лет он не выпускал сына из дома, почти все время держал в кровати, приставил к нему сиделку и сам заботился о нем со всей родительской любовью. Ребенок протянет пятьдесят три года, прежде чем его доконают слабые легкие. Так был спасен для мира один из его величайших философов, архитектор следующей математической революции — Рене Декарт.
Когда Декарту было восемь (некоторые говорят, десять[113]), отец отправил его в Ла-Флеш, иезуитскую школу — тогда еще новую, но вскоре приобретшую знаменитость. Ректор школы позволял юному Декарту допоздна валяться в кровати, покуда ученик не готов был явиться на занятия. Неплохая привычка, если удается ее поддерживать, а у Декарта это получалось вплоть до последних месяцев жизни. Учился Декарт хорошо, но по окончании восьми школьных лет начал демонстрировать скептицизм, которым и прославился как философ: он пришел к убеждению, что все, чему его учили в Ла-Флеш, либо бесполезно, либо ошибочно. Вопреки этому осознанию он подчинился желанию отца и провел еще два года в бесполезной учебе, на сей раз — в соискании степени в юриспруденции.
Наконец Декарт забросил науку букв и переехал в Париж. Там он ночами вел светскую жизнь, а днем лежал в постели и изучал математику (приступая к занятиям, разумеется, после полудня). Математику он полюбил, и она даже время от времени приносила ему доход — Декарт применял ее за игровым столом. Однако довольно скоро Париж Декарту приелся.
Что делали молодые люди с некоторыми средствами во времена Декарта, если желали странствовать и искать приключений? Шли в армию. В случае Декарта — в армию принца Морица Оранского (Нассауского). То была настоящая добровольческая армия — Декарту за его службу не платили. В итоге все остались при своих: Декарт не только ни в каких военных действиях не поучаствовал — через год он присоединился к вооруженным силам противника, герцога Баварии. Странное дело: сначала вербуемся к одним и не воюем, потом к другим — и опять не воюем. Но в тот период в войне Франции и Голландии против Испано-австрийской монархии возникло затишье, а Декарт пошел в армию ради путешествий, а не из политических соображений.
Служить Декарту понравилось: он встречался с людьми из разных краев, и в то же время ему хватало уединения, чтобы посвящать его изучению математики и наук, а также размышлениям о природе Вселенной. Его странствия почти немедленно принесли плоды.
Однажды в 1618 году солдат Декарт оказался в маленьком голландском городке Бреда, где увидел толпу, собравшуюся вокруг уличного объявления. Он подошел ближе и попросил пожилого зеваку перевести ему написанное на французский. Ныне в таком объявлении можно прочесть что угодно — рекламное воззвание, запрет парковки, призыв помочь с поисками человека. Но есть такое, чего теперь в уличных объявлениях не встретишь, а именно: математическую задачку, адресованную широкой публике.
Декарт осмыслил поставленную задачу и отметил походя, что она довольно проста. Его переводчик — может, озлившись на него, а может, забавы ради — взял незнакомца на слабо и принялся подначивать: дескать, давай, реши-ка. И Декарт решил. Пожилой собеседник ученого, человек по имени Исаак Бекман, сильно изумился, что само по себе целое дело: Бекман был выдающимся голландским математиком своего времени.
Бекман и Декарт так подружились, что Декарт впоследствии писал[114] о Бекмане как о «вдохновителе и духовном отце» его учений. Именно Бекману Декарт четыре месяца спустя описал свои революционные взгляды на геометрию. Письма Декарта другу в следующие пару лет обильно приправлены отсылками к новым представлениям об отношениях между числами и пространством.
Всю свою жизнь Декарт относился к работам греков весьма критически, однако геометрия раздражала его пуще прочего. Она казалась ему неуклюжей и усложненной без всякой необходимости. Ему, казалось, противны были сами формулировки греческой геометрии, вынуждавшие его трудиться прилежнее потребного. Анализируя задачу, поставленную греком Паппом Александрийским, Декарт писал, что «мне утомительно уже то, сколько всего об этом надо писать»[115]. Он критиковал их систему доказательств, потому что каждое новое оказывалось уникальным в своем роде, и одолеть его можно было «лишь при условии великого изнурения воображения»[116]. Не одобрял он и того, как греки определяли кривые — описательно, что само по себе, конечно, бывало скучным, а доказательства делало путаными. Ныне ученые пишут, что «декартова математическая лень — притча во языцех»[117], но самому Декарту вовсе не совестно было искать некую связующую систему, что упростила бы доказательства геометрических теорем. Таким способом он мог спать дольше и все равно больше сделать для науки, чем критиковавшие его более прилежные ученые.
Сравним для примера определение круга Евклидом (часть I «Начал») и Декартом — и убедимся в успехах последнего:
Евклид: Круг есть плоская фигура, содержащаяся внутри одной линии[118], на которую все из одной точки внутри фигуры падающие[119] прямые равны между собой[120].
Декарт: Круг есть все х и у, удовлетворяющие уравнению х + у = r для заданного значения r.
Даже тем, кто не в курсе, что такое «уравнение», определение Декарта должно показаться проще. И вся штука не в том, чтобы определить, что такое уравнение, а в том, что в декартовом методе круг определяется им. Декарт перевел язык пространства на язык чисел и, что еще важнее, применил этот перевод к перефразированию геометрии в алгебру.
Декарт начал свой анализ с превращения плоскости в подобие графика, изобразив горизонтальную прямую и назвав ее осью х, а вертикальную — осью у. За исключением одной существенной детали, любая точка на этой плоскости описывалась теперь двумя числами: вертикальным расстоянием до горизонтальной оси, обозначенным у, и горизонтальным расстоянием до вертикальной оси, обозначенным х. Точки на плоскости с тех пор записываются в виде «упорядоченных пар» (х; у).
Но вернемся к существенной детали: если буквально отмерить расстояния, как описано выше, для каждой пары координат (х; у) найдется более одной точки. Например, рассмотрим две точки, каждая из которых на единичный отрезок выше оси х, но располагаются они по обе стороны от оси у: допустим, одна лежит на два единичных отрезка правее, а другая — на два единичных отрезка левее. Поскольку обе точки расположены на один единичный отрезок выше оси х и обе — в двух единичных отрезках от оси у, в соответствии с нашим рассуждением обе можно описать парой координат (2, 1).
Такая же неоднозначность возникает в почтовых адресах. Могут ли два человека, проживающие по адресу 80-я улица, 137, задрать нос и заявить: «Да я б никогда в том районе жить не стал». Отчего бы и нет? «Вестсайдская история» и «Истсайдская история» — однозначно две разные истории[121]. Математики избавляются от этой неоднозначности в координатах в точности так же, как градостроители — в почтовых адресах, с той лишь разницей, что первые используют знаки «плюс» и «минус», а вторые приписывают к адресу «восточный»/«западный» или «северный»/«южный». Математики подрисовывают знак «минус» к координате х всех точек, размещающихся левее оси у (т. е. «восточной стороне» — «истсайду»), и к координате у всех точек, расположенных ниже оси х (т. е. «южной стороне», или «саутсайду»). В нашем случае у первой точки координаты останутся без изменений — (2, 1), а у второй станут такие: (-2, 1). Мы делим плоскость на четыре четверти (квадранта) — северо-восточная, северозападная, юго-восточная и юго-западная. У всех точек в «южном» квадранте значение координаты у отрицательное, а у всех точек в «западном» отрицательно значение координаты х. Эту систему обозначения принято называть декартовыми координатами. (На самом деле примерно тогда же аналогичное открытие сделал Пьер Ферма, однако если за Декартом водилась дурная привычка ни на кого не ссылаться в своих публикациях, Ферма имел худшую склонность — не публиковать свои работы вообще.)
Ясное дело — и мы в этом уже убедились — применения координат как таковых новинкой не было. Птолемей еще во II веке использовал систему координат в своих картах[122]. Но работы Птолемея сводились исключительно к географии. Никакого другого значения — помимо приложимости к земному шару — он в них не видел. Подлинное новаторство идей Декарта применительно к координатам состояло не в них самих, а в том, что Декарту удалось из них извлечь.
Изучая классические греческие кривые, манеру определения которых Декарт столь глубоко презирал, он, тем не менее, обнаружил удивительные закономерности. Например, он изобразил несколько прямых и выяснил, что для любой прямой координаты х и у любой точки на ней всегда связаны простым отношением. Алгебраически эту связь можно выразить уравнением вида ах + by + c = 0, где а, b и с — постоянные, т. е. обычные числа вроде 3 или 4 1/2, и зависят они лишь от того, какую прямую в данный момент мы рассматриваем. Это означает, что любая точка, описываемая координатами (х, у), лежит на некоторой прямой тогда и только тогда, когда сумма х, взятого а раз, у, взятого b раз, и с равна нулю. Таково альтернативное — алгебраическое — определение прямой.
С точки зрения Декарта, линия есть множество точек с особым свойством: если прирастить одну координату, чтобы получить другую точку того же множества, необходимо прирастить и другую координату в строго заданной пропорции. Его определение круга (или эллипса) устроено по тому же принципу. С единственной разницей: убавляя одну координату, необходимо добавлять к другой так, чтобы (взвешенная) сумма квадратов координат, а не просто координат самих по себе, оставалась неизменной.
За триста лет до Декарта Николай Орезмский тоже подметил, что кривые можно определять через соотношение координат, и тоже вывел некоторое подобие уравнения прямой. Но во времена Орема алгебра еще не имела широкого хождения, и за отсутствием подходящей формы записи Орем не смог развить идею дальше[123]. Декартов метод ассоциирования алгебры и геометрии привел к обобщению представлений Николая Орезмского, и теперь всю греческую математику можно было описать просто и сжато. Эллипсы, гиперболы, параболы — все их, как выяснилось, можно определить через простые уравнения в координатах х — у.
Возможность определять классы кривых по виду их уравнений имеет далеко идущие последствия для науки. Взглянем еще раз, к примеру, на данные, полученные Николаем, но сдвинем запятую в числах на один десятичный знак. Теперь-то понятно, что они такое — это таблица приблизительных средневысоких температур[124] 15-го числа каждого месяца (кроме января) в Нью-Йорке. Ученый может задаться вопросом: есть ли простая взаимосвязь ежду этими показателями?
Как мы уже видели, отображение этих данных в виде графика дает нам простую геометрическую фигуру — параболу. Знание уравнения, описывающего параболу, дает нам кое-какие предсказательные возможности — позволяет сформулировать «закон средневысоких» для нью-йоркской погоды. Закон таков: обозначим через у температуру ниже 85 градусов по Фаренгейту, а через х — число месяцев до или после 15 июля, и тогда у равен дважды х в квадрате. Опробуем это правило. Чтобы определить, какова будет средневысокая температура в Нью-Йорке, скажем, 15 октября, отметим, что октябрь — через три месяца после июля, т. е. х = 3. Поскольку три в квадрате — девять, средняя температура 15 октября есть дважды по девять, т. е. на 18 градусов ниже показателя 15 июля (85 градусов). Таким образом, по нашему «закону» выходит средняя температура приблизительно 67 градусов. Реальные данные — 66 градусов. Для большинства месяцев закон приложим вполне точно — и его можно применять и для других дней календаря, а не только к 15-м числам месяцев, если вам не лень возиться с дробями.
Сформулированный нами закон определяет отношение между у и х ; это частный случай того, что математики называют функцией. В нашем примере парабола есть график функции. Физика в существенной степени занимается именно тем, что мы сейчас проделали: обнаружением закономерностей в данных, определением функциональных зависимостей и (этим мы не озаботились) объяснением причин той или иной взаимосвязи.
Точно так же, как можно вывести физические законы графически, применив картезианские методы, у евклидовых теорем тоже есть алгебраические следствия. Например, представьте теорему Пифагора в декартовых терминах. Вообразите прямоугольный треугольник. Для простоты положим, что вертикальная сторона его лежит вдоль оси у и тянется от точки начала координат до точки А, а горизонтальная сторона — из точки начала координат вдоль оси х до точки В. Таким образом длина вертикальной стороны равна координате у ее конечной точки А, а длина горизонтальной стороны — координате х конечной точки В.
Теорема Пифагора в данном случае говорит нам, что сумма квадратов горизонтальной и вертикальной сторон, х + у, есть квадрат длины гипотенузы. Если принять определение, что расстояние между двумя точками А и В есть длина линии, соединяющей их, то мы только что установили, что квадрат расстояния между А и В есть х + у. А теперь представим любые две точки А и В на плоскости. Мы вполне можем изобразить оси х и у так, чтобы получилась та же ситуация, которую мы только что рассмотрели: А размещается на горизонтальной оси, а В — на вертикальной. Это означает, что квадрат расстояния[125] между любыми двумя точками А и В есть попросту сумма квадратов разниц между их соответствующими координатами.
Декартова формула для определения расстояния[126] имеет глубокие связи с евклидовой геометрией, и нам еще предстоит в этом убедиться. Но его представление о расстояниях как о функции разниц координат и в общем случае состоятельно; именно оно позднее стало ключевым для понимания природы и евклидовой, и неевклидовой геометрий.
Декарт применил свои прозрения в геометрии ко многим своим знаменитым трудам в физике. Он первым сформулировал закон рефракции света в его современном тригонометрическом виде; ему же принадлежит первое исчерпывающее объяснение физики радуги. Его геометрические методы оказались настолько всеобъемлющими для всех его представлений, что он сам писал: «Вся моя физика есть не что иное как геометрия»[127]. И тем не менее Декарт откладывал издание своих трудов по геометрии координат целых девятнадцать лет, да и вообще ничего не публиковал до своих сорока. Чего он боялся? Да как обычно — Католической церкви.
По многократному настоянию друзей Декарт уже готов был обнародовать свои работы несколькими годами ранее — в 1633-м. И тут этот итальянец по имени Галилей издал труд под названием «Диалог о двух главнейших системах мира»[128]. Симпатичная такая пьеска — трое болтунов разговаривают об астрономии. Явно внебродвейское нечто. Но почему-то отцы Церкви решили разобраться, что к чему, и как-то не впечатлились. Быть может, сочли, что актер, представлявший их птолемеевские воззрения, получил слишком мало реплик. К сожалению, в те дни, если Церковь бралась рецензировать книгу, она рецензировала и автора, а результатом такой рецензии — и для книги, и для автора — мог стать костер. В случае с Галилеем сожгли книгу, а самому Галилею пришлось от нее отречься и — ах да! — от Инквизиции ему еще и достался тюремный срок без возможности откинуться. Декарт фанатом Галилея не был. Он даже написал свою рецензию на книгу итальянца: «Сдается мне, ему (Галилею) не достает вот чего: он постоянно отвлекается и все никак не раскроет во всей полноте ту или иную тему, а это говорит о том, что он в ней не разобрался по порядку…»[129] И все же он разделял гелиоцентрические представления Галилея, а также и другие разумные соображения, и потому принял тяжкую участь Галилео близко к сердцу. Хоть он и жил в протестантской стране, издание своей книги все равно отменил[130].
Но все-таки Декарт наконец собрался с духом и в 1637 году обнародовал первую работу, позаботившись о том, чтобы его труд никоим образом не задевал Церковь. К сорока годам Декарту было что сказать далеко не только о геометрии, и он объединил все накопившееся в одном томе. Под предисловие потребовалось 78 страниц. Оригинальная рукопись носила не слишком хлесткое название: «Рассужденье о вселенской науке, что могла бы возвысить нашу природу до величайших вершин совершенства; далее о диоптрике, о метеорах и геометрии, где любопытнейшие соображения, какие автор смог добыть, дабы доказать вселенскую науку, кою он предлагает, объясняются таким манером, что даже и те, кто никогда не учился, смогут их постичь»[131]. При издании название слегка подсократили — видимо, сотрудники той службы, что в XVII веке выполняла функции отдела издательского маркетинга. И все равно получилось длинновато. Время обточило название до совсем краткого, и ныне эту работу Декарта обычно именуют «Рассуждением» или «Рассуждением о методе».
«Рассуждение о методе» — протяженный трактат, описывающий философию Декарта и его рациональный подход к решению научных задач. «Геометрия», третье приложение, была призвана показать результаты, каких удалось добиться методами, предложенными Декартом. Свое имя он с титульного листа убрал — и не потому, что название заняло всю страницу, а из-за неизбывной боязни преследования. К сожалению, его друг Марен Мерсенн написал вступление и в нем не оставил никаких сомнений в личности автора книги.
Опасения Декарта оправдались: его подвергли жестокой критике[132] — за брошенный Церкви вызов. Даже математическая часть его труда вызвала злобную реакцию. Ферма, который, как мы уже сказали, открыл сходный способ алгебраизации геометрии, взялся цепляться по мелочам. Блез Паскаль, другой гениальный французский математик, отверг работу целиком. И все же частные распри лишь ненадолго могут удержать развитие науки, и всего через несколько лет декартова геометрия стала частью практически любого университетского курса. А вот философию его принимать не торопились.
Яростнее прочих на Декарта нападал человек по имени Воэций — глава богословского факультета Университета Утрехта. Ересь Декарта, по мнению Воэция, быа обычного сорта: вера в разум и наблюдение как инструменты определения истины. Декарт же на самом деле пошел еще дальше — он верил, что люди могут властвовать над природой, а также совсем скоро обнаружат лекарства от всех болезней и тайну вечной жизни.
Декарт мало с кем дружил и так и не женился. Любовь же у него все-таки была[133], ее звали Элен. В 1635 году она родила ему дочку — Франсин. Судя по всему, они прожили втроем с 1637 по 1640 год. Осенью 1640-го, в разгар войны с Воэцием, Декарт уехал приглядеть за изданием своей новой книги. Франсин заболела — вся покрылась багровыми пятнами. Декарт поспешил домой. Нам не ведомо, успел ли он вовремя, но девочка умерла на третий день болезни. Декарт и Элен вскоре расстались. Если бы не запись, рассказывающая о ее жизни и смерти, сделанная на клапане обложки одной из книг Декарта, мы бы, может, никогда и не узнали, что Франсин была его дочкой, а не племянницей, как он всем говорил — во избежание скандала. Декарт всю свою жизнь был известен как человек безэмоциональный, а эта смерть раздавила его. После нее он не прожил и десяти лет.
Глава 12. Во льдах Снежной королевы
Через несколько лет после смерти Франсин двадцатитрехлетняя королева Кристина Шведская[134] пригласила Декарта ко двору. В биографическом фильме 1933 года Кристину сыграла Грета Гарбо, и воображение и впрямь рисует изящную юную шведку — эдакую высокую беспечную блондинку. Как водится, голливудская история не вполне близка к истине. Настоящая Кристина была коротышкой, одно плечо выше другого, с низким мужским голосом. Ей не нравилась традиционная женская одежда, по описаниям она смахивала на кавалериста. Говаривали, что еще ребенком королева обожала пушечную пальбу.
К двадцати трем годам из Кристины уже получился суровый десятник, нетерпимый к хлюпикам. Она спала не более пяти часов в сутки и нимало не трепетала от мысли о долгих ледяных зимах Швеции: ведь тогда можно играть в хоккей на асфальте, залитом водой из шланга (если бы хоккей, асфальт и шланги были к тому времени уже изобретены). И сотни лет спустя мы, читая о Декарте, можем предположить, что двор ее шведского величества — не совсем то место, где нашему герою хотелось бы прохлаждаться. И тем не менее Декарт выбрал эту игру. Отчего же?
Кристина была умнейшей женщиной, преданной учению, и ей было одиноко в этом северном краю. Желая создать в своих снегах собственный интеллектуальный эдем, средоточие науки, удаленное от центра Европы, она тратила немалые средства на приобретение томов для грандиозной библиотеки. Как и Птолемей, она собирала книги, но, в отличие от египетского императора, коллекционировала и их авторов. Судьба Декарта оказалась предопределена, когда в 1644 году он встретился и подружился с Пьером Шану. На следующий год Шану отправили в Швецию посланником короля Франции. Прибыв в Швецию, он раструбил о своем друге, а другу воспел Снежную королеву. Кристина согласилась с Шану: Декарт — первостатейная добыча. Она отправила во Францию одного своего адмирала — уговорить Декарта. Пообещала ему кое-что дорогое его сердцу: создать под него академию, которой он станет руководить, и придать ему дом в самой теплой части Швеции (что, задним числом, не самое шикарное предложение). Декарт колебался, но в конце концов согласился. У него не было доступа к сайту прогнозов погоды, но он имел некоторые представления и о шведском климате, и об особе, его пригласившей. За день до отъезда Декарт составил завещание.
Зима, встретившая Декарта в 1649 году, оказалась одной из суровейших в истории Швеции. Если и были у него мечты лежать весь день под множеством толстых одеял, в тепле и уюте, подальше от адского холода снаружи, и размышлять о природе Вселенной, мечты эти были грубо разрушены. Его ежедневно призывали ко двору к пяти утра — давать Кристине пятичасовые уроки морали и этики. Декарт писал другу: «Кажется, самая мысль человеческая замерзает здесь этой зимой — как вода…»
Тем январем друг его Шану, с которым они делили жилище, свалился с пневмонией. Декарт нянчился с другом — и заболел сам. Врач Декарта находился в отлучке, и Кристина отправила к нему другого медика, который оказался заклятым врагом Декарта — тот у многих при дворе вызывал злую зависть. Декарт отказался от услуг этого человека, который в любом случае, вероятно, ничем бы не помог — предписанное им лечение сводилось к кровопусканию. Лихорадка усиливалась. Всю неделю или больше Декарт провел в бреду. В перерывах между припадками забытья он рассуждал о смерти и философии. Надиктовал письмо своим братьям, прося их приглядеть за няней, что ходила за ним в годы его болезненного детства. А несколько часов спустя, 11 февраля 1650 года, Декарт скончался.
Его похоронили в Швеции. В 1663 году цель Воэция наконец была достигнута: Церковь запретила работы Декарта. Однако церковники заметно утеряли свое влияние во многих кругах, и этот запрет лишь подогрел интерес к трудам ученого. Правительство Франции запросило останки Декарта, и в 1666 году, после долгих уговоров, шведское правительство выслало кости Декарта на родину. Ну, большую часть: череп они оставили себе[135]. Останки Декарта еще не раз после этого перезахоранивали. Ныне они покоятся под маленьким поминальным камнем на кладбище Сен-Жермен-де-Пре. Почти все — за вычетом черепа, который в конце концов прибыл во Францию в 1822 году. В наши дни его экспонируют в стеклянной витрине Музея человека в Париже.
Через четыре года после смерти Декарта Кристина отказалась от трона. Она обратилась в католичество, считая, что своим просветлением обязана Декарту и Шану, и осела в Риме, постигнув, быть может, прелести более теплого климата — вероятно, и этим постижением она обязана Декарту.
Часть III. История Гаусса
Могут ли параллельные прямые пересечься в пространстве?
Гений-любимец Наполеона представляет Евклиду его Ватерлоо. Начинается величайшая революция в геометрии со времен греков.
Глава 13. Революция искривленного пространства
Евклид стремился создать непротиворечивую математическую систему, основанную на геометрии пространства. Следовательно, свойства пространства, проистекающие из евклидовой геометрии, таковы, какими они представлялись древним грекам. Но действительно ли пространство устроено так, как описывал Евклид и количественно определял Декарт? Или возможны и другие варианты?
Неизвестно, вскинул бы Евклид бровь-другую, узнай он, что его «Начала» еще 2000 лет останутся непреложны, но программисты сказали бы, что 2000 лет до выхода версии 2.0 — довольно долго. За это время многое изменилось: мы открыли устройство Солнечной системы, получили возможность рассекать по морям, изобрели карту и глобус, а также прекратили пить разбавленное вино за завтраком. И, кроме того, у математиков развилась поголовная непереносимость к пятому постулату Евклида — о параллельности. Увы, не содержание этого утверждения находили они отвратительным, а то, что место этому допущению было среди теорем.
Те математики, кто на протяжении веков пытался доказать постулат параллельности как теорему, подходили совсем близко к открытию странных и поразительных новых разновидностей пространства, но всяк претыкался на простой убежденности: этот постулат есть истинное и неотъемлемое свойство пространства.
Всяк за исключением одного: пятнадцатилетнего подростка по имени Карл Фридрих Гаусс, которому, так уж вышло, суждено было стать одним из любимцев Наполеона. Озарение, посетившее юного гения в 1792 году, заронило семена новой революции. В отличие от предыдущих, эта принесет не революционное развитие идей Евклида, а совершенно новую операционную систему. Вскоре будут открыты и описаны неведомые изумительные пространства, остававшиеся незамеченными столько веков.
С открытием искривленных пространств возник естественный вопрос: евклидово ли наш пространство — или, может, оно иное? Именно этот вопрос произвел переворот в физике. Но и математику он поверг в недоумение. Если евклидова структура не есть простая абстракция, описывающая истинное устройство пространства, то что же она такое? Если можно усомниться в постулате параллельности, как же тогда быть с остальными евклидовыми построениями? Вскоре после открытия искривленного пространства вся евклидова геометрия рухнула, а за нею — вот те на! — и вся остальная математика. Когда же пыль осела, в новой эпохе очутились не только теория пространства, но и вся физика с математикой.
Чтобы понять, насколько трудно оказалось противоречить Евклиду, стоит задуматься о том, сколь глубоко укоренилось его описание пространства. «Начала» и в его-то времена были классикой. Евклид не только определил природу математики, но его книга играла ключевую роль в образовании и натурфилософии как образец логического мышления. Эта работа имела решающее значение для интеллектуального возрождения в Средние века. Этот труд после изобретения печатного станка в 1454 году издали одним из первых, а с 1533 года и до XVIII века она оставалась единственной греческой работой, напечатанной на языке оригинала[136]. До XIX века любой труд по архитектуре, устройство любого рисунка и картины, любая теория или уравнение, примененные в науке, были евклидовыми по умолчанию. И «Начала», конечно, заслуживали своего великого положения. Евклид превратил наше интуитивное чувство пространства в абстрактную логическую теорию, из которой мы научились выводить все остальное. Быть может, нам стоит благодарить Евклида в первую очередь за то, что он осмелился без стыда оголить свои допущения и никогда не претендовал на то, что доказанные им теоремы есть не более чем логические следствия немногих не доказанных им постулатов. Мы, правда, уже сообщили в части I, что один из его постулатов — постулат параллельности — вызвал неудовольствие практически у всех исследователей, изучавших труды Евклида, поскольку лишен был простоты и интуитивной ясности, свойственной остальным евклидовым допущениям. Вспомним формулировку:
Если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы, меньшие двух прямых, то, продолженные неограниченно, эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
Евклид, доказывая первые свои двадцать восемь теорем, постулат параллельности никак не использовал. К тому времени он уже доказал утверждение, обратное этому постулату, а также и другие, куда более пригодные для звания аксиом, — вроде фундаментального факта, что сумма длин двух любых сторон треугольника всегда больше длины третьей. Так зачем же ему, зашедшему так далеко, понадобился этот затейливый и вполне технический постулат? Сроки сдачи книги поджимали, что ли?
За 2000 лет, за 100 поколений родившихся и умерших, пока менялись границы, пока возникали и угасали политические системы, а Земля проскочила 1000 миллиардов миль вокруг нашего Солнца, мыслители планеты по-прежнему оставались привержены Евклиду, не ставя под сомнение слов бога своего, кроме одного малюсенького «но»: можно ли как-нибудь все-таки доказать этот дурацкий постулат?
Глава 14. Незадача с Птолемеем
Первую известную нам попытку доказать постулат параллельности произвел Птолемей — во втором веке н. э.[137]. Аргументацию он применил довольно изощренную, но в сути метод оказался прост: он допустил видоизмененную форму постулата и из нее вывел исходный. И что прикажете думать о Птолемее? Он, что ли, жил на территориях, свободных от здравого смысла? Или нам представить, как он несся к друзьям с воплями: «Эврика! Я открыл новый вид доказательства — замкнутого на само себя!»? Математики наступать на эти грабли не стали дважды — они наступали на них снова и снова: как выяснилось, некоторые самые безобидные допущения и кое-какие очевидные настолько, что их оставили недоказанными, оказались замаскированным постулатом параллельности. Связь этого постулата со всей остальной евклидовой теорией столь же тонка, сколь и глубока. Через пару сотен лет после Птолемея Прокл Диадох сделал вторую знаменательную попытку доказать постулат раз и навсегда. Прокл в V веке учился в Александрии, после чего перебрался в Афины, где возглавил Платоновскую академию. Он часами корпел над трудами Евклида. У него был доступ к книгам, давным-давно исчезнувшим с лица Земли, — например, к «Истории геометрии» Евдема, современника Евклида. Прокл написал комментарии к первой книге «Начал», и они стали источником большой части нашего знания о древнегреческой геометрии.
Чтобы разобраться в доказательстве Прокла, полезно сделать три вещи: во-первых, рассматривать альтернативную формулировку постулата, приведенного выше, — аксиому Плейфэра[138]; во-вторых, сделать доказательство Прокла чуточку менее техническим; в-третьих, перевести его с греческого. Аксиома Плейфэра звучит так:
В плоскости через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной.
Большинству из нас в современном мире куда понятнее карты и планы улиц, нежели прямые, обозначенные загадочными символами а или X. Поэтому давайте-ка рассмотрим доказательство Прокла в более привычных обстоятельствах — скажем, на примере Пятой авеню в Нью-Йорке. Представим еще одну авеню, параллельную Пятой, и назовем ее Шестой. Не забываем, что под параллельностью, по Евклиду, мы подразумеваем их «непересекаемость», т. е. Пятая авеню не пересекает Шестую.
Высоко над кофейнями и лотками с хот-догами возносится почтенное здание, в котором размещается уважаемое издательство самых качественных на свете книг — «Фри Пресс» (по совпадению — первый издатель этой). Никоим образом не принижая заслуг «Фри Пресс», назначим его на роль «точки, не лежащей на данной прямой».
Затем, в точном соответствии с математической традицией, запомним, что нашими допущениями об этих улицах будут только факты, которые мы упомянули выше. Хотя в целях предметного иллюстрирования доказательства мы имеем в виду именно эти две авеню, как математики мы не можем включать в наше доказательство те свойства этих авеню, которые заранее не оговорили. Если вам известен другой издатель (неудачник — в отношении этой книги, по крайней мере) под названием «Рэндом Хаус», размещающийся дальше по улице, а также что Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга на некоторое расстояние, и что на некоем перекрестке там обитает слюнявый псих, выбросьте это все из головы. Математическое доказательство — упражнение в применении лишь исчерпывающе предложенных фактов, а в евклидовых «Началах» никакие особые свойства Нью-Йорка не значатся. Подобное неоправданное допущение вы, может, сделали бы, не задумываясь, и оно превратило бы все последующие доводы Прокла в ложные.
Итак, мы готовы сформулировать аксиому Плейфэра в предложенных нами терминах:
В плоскости Нью-Йорка через издательство «Фри Пресс», не размещающееся на Пятой Авеню, проходит одна и только одна авеню, параллельная Пятой, т. е. Шестая.
Это утверждение не в точности повторяет аксиому Плейфэра, поскольку мы, как и Прокл, допускаем, что существует хотя бы одна прямая — или улица (Шестая авеню) — параллельная данной (Пятой авеню). Это, вообще-то, еще требуется доказать, но Прокл интерпретировал одну из евклидовых теорем как гарантию этого факта. Примем это допущение и мы, и поглядим, можно ли, следуя логике Прокла, доказать аксиому в предложенной формулировке.
Чтобы доказать этот постулат, т. е. превратить его в теорему, необходимо продемонстрировать, что любая улица, проходящая через «Фри Пресс» и при этом не Шестая Авеню, непременно пересекает Пятую. Вроде бы это очевидно и следует из нашего повседневного опыта — именно поэтому такая улица и называется поперечной. Нам всего-то и надо, следовательно, доказать это без применения постулата параллельности. Начнем с того, что представим некую третью улицу, у которой лишь одно свойство: она прямая и проходит через «Фри Пресс». Назовем ее Бродвеем.
В своем доказательстве Прокл начал бы с того, что двинулся бы от «Фри Пресс» вдоль Бродвея к центру города. Вообразим улицу, идущую от того места Шестой авеню, где остановился Прокл, и перпендикулярную этой самой Шестой авеню. Назовем ее Николай-стрит, см. рисунок на следующей странице.
Николай-стрит, Бродвей и Шестая авеню образуют прямоугольный треугольник. По мере продвижения Прокла в центр города этот треугольник становится все больше.
Доказательство Прокла
Стороны этого треугольника, включая Николай-стрит, могут стать сколь угодно длинными. Отдельно отметим, что протяженность Николай-стрит постепенно сделается больше расстояния между Пятой и Шестой авеню. Следовательно, сказал бы Прокл, Бродвей пересечет Пятую авеню — что и требовалось доказать.
Доказательство это простое, но ложное. Для начала в нем есть малозаметное ошибочное использование концепции «все больше». Николай-стрит может, конечно, удлиняться дальше, но так и не стать длиннее одного квартала, как ряд чисел 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6…, который все отрастает, но так и не переваливает за единицу. Этот недостаток можно исправить. Как и Птолемей, Прокл сделал необоснованное допущение. Он применил свойство параллельных дорог, которое интуитивно зримо, но никак им не доказано. Каково же это допущение?
Ошибка Прокла — в том, что он применил формулировку «Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга». Вспомните наше предупреждение: «…если вам известно… что Пятая и Шестая авеню отстоят друг от друга на некоторое расстояние… выбросьте это все из головы». И хотя Прокл не уточняет, на каком именно расстоянии находятся эти две улицы, он утверждает, что это расстояние постоянно. Таков наш жизненный опыт в отношении параллельных прямых — и Пятой и Шестой авеню, но его никак нельзя математически доказать, не ссылаясь на постулат параллельности, ибо это он и есть.
В сходном тупике оказался и великий багдадский ученый IX века Сабит (Табит) ибн Курра[139]. Его логику можно постичь, вообразив, как Сабит прогуливается по прямой вдоль Пятой авеню, держа мерный шест длиной в один нью-йоркский квартал перпендикулярно той же Пятой авеню. Идет Сабит вдоль Пятой авеню, а конец его мерного шеста какую описывает траекторию? Сабит утверждал, что эта траектория — прямая линия, допустим, Шестая авеню. Из этого допущения Сабит и «доказывал» постулат параллельности. Линия, описываемая дальним концом мерного шеста, — определенно некоторая кривая, но на каком основании можем мы утверждать, что она есть прямая линия? Выясняется, что единственным основанием для этого утверждения является — совершенно верно! — постулат параллельности. Лишь в евклидовом пространстве набор точек, равноудаленных от некоторой прямой, есть прямая. Сабит, таким образом, повторил ошибку Птолемея.
Рассуждения Сабита касаются глубоких аспектов самого понятия пространства. Евклидова система геометрии зависит от возможности двигать фигуры и накладывать их одну на другую. Именно так проверяется конгруэнтность, или эквивалентность, геометрических фигур. Вообразите, что перемещаете треугольник. Естественный способ произвести такое перемещение — взять каждую из трех его сторон, являющихся сегментом прямой линии, и сдвинуть на одно и то же расстояние в одном и том же направлении. Но если набор точек, равноудаленных от данной прямой, не есть прямая, стороны смещенного треугольника перестанут быть прямыми. В процессе движения фигура исказится. А может ли пространство действительно иметь такое свойство? К сожалению, вместо того, чтобы довести это рассуждение до чудесных мест, в которые оно вело, Сабит интерпретировал угрозу искажения как «доказательство», что его допущение о равноудаленности прямых обоснованно.
Вскоре после Сабита исламская поддержка наук иссякла. Один провинциальный ученый жаловался даже, что там, где он жил, узаконили убийство математиков. (Скорее всего, это произошло не от общего презрения к умникам, а оттого, что математики имели привычку изучать астрологию, а ее, так уж исторически сложилось, частенько связывали с черной магией и считали опасной, а не милой безделицей, как сейчас.)
Порядковый номер года по христианскому календарю почти удвоился, когда геометрические труды Сабита и его последователей, наконец, воскресли. Это случилось в 1663 году, когда английский математик Джон Валлис[140] прочитал лекцию, в которой цитировал одного из преемников Сабита — Насира ад-Дина ат-Туси.
Валлис родился в Эшфорде, графство Кент, в 1616 году. Когда ему было пятнадцать, он застал брата за чтением книги по арифметике и сам сильно увлекся этим предметом. И математику не предал, хотя изучал богословие в кембриджском Эммануэл-Колледже, а в 1640 году был рукоположен в священники. На дворе стояли времена, обычно называемые Английской гражданской войной: между королем Карлом I и Парламентом происходили распри с религиозным подтекстом. Валлис преуспел в криптографии — разделе математики, связанном с расшифровкой сообщений; он помогал парламентариям. Говорят, за эти заслуги он и получил в 1649 году в Оксфорде Савилианскую кафедру геометрии[141], после того как его предшественника Питера Тёрнера сместили за роялистские взгляды. Как бы то ни было, Оксфорду такая замена пошла только на пользу.
Тёрнер всегда был просто-напросто дружком архиепископа кентерберийского и вечно описывал квадратуры в правильных политических кругах, но за всю жизнь не опубликовал ни одной математической работы. Валлис же стал ведущим английским математиком доньютоновской эпохи и повлиял на самого Ньютона. Ныне даже не-математики — особенно те, что разъезжают на известной марке дорогого автомобиля, — знакомы с хотя бы одним аспектом его трудов: Валлис ввел символ , обозначающий бесконечность[142].
Валлис предложил преобразовать евклидову геометрию заменой ужасного постулата параллельности другой формулировкой, интуитивно понятной. Примерно такой:
Треугольник с любыми длинами любых сторон можно увеличивать и уменьшать как угодно, изменяя длины сторон, но углы при этом останутся неизменны.
Допустим, у нас есть треугольник, у которого все углы равны 60°, а стороны — единичной длины; можно предположить, что существует другой треугольник, у которого углы тоже равны 60°, но стороны при этом какие угодно: 10, 10, 10 или 1/10, 1/10, 1/10 или 10 000, 10 000, 10 000. Такие треугольники — с пропорционально меньшими или большими сторонами, но с равными соответствующими углами — называются подобными. Если принять аксиому Валлиса, тогда, за вычетом пары преодолимых технических затруднений, постулат параллельности легко доказуем[143] с применением логики, похожей на Проклову. «Доказательство» Валлиса математиками так и не было принято, потому что оно есть, по сути, подмена одного постулата другим. Однако, если мы проследуем логике Валлиса в обратную сторону — придем к изумительному результату: если существует пространство, в котором постулат параллельности недействителен, то подобных треугольников не существует.
Ну и кому какое дело? А вот и нет: треугольники-то повсюду. Рассеките треугольник по диагонали — получите два треугольника. Уприте руку в бок — форма, образуемая при этом вашей рукой и боком, есть треугольник. В самом деле: хоть каждое тело и обладает уникальной формой, любое можно смоделировать при помощи сетки треугольников — с достаточной точностью; именно так устроена трехмерная компьютерная графика. А если подобных треугольников не существует, многие наши повседневные допущения не соответствуют действительности. Взгляните на симпатичный дамский костюм в каталоге одежды: выожидаете, что к вам прибудет экземпляр, подобный приведенному в каталоге, пусть даже и в десятки раз больше. Летите любимыми авиалиниями: вы предполагаете, что форма крыла, вполне пригодная для полета авиамоделей, имеет те же дивные свойства и у здоровенного самолета. Наймите архитектора, чтобы тот пристроил к вашему дому парочку дополнительных комнат: вы рассчитываете, что достраиваемые помещения соответствуют архитектурным чертежам. В неевклидовом пространстве этим ожиданиям никак не оправдаться. Ваши одежда, самолет и новая спальня претерпят искажения.
Быть может, такие странные пространства математически и существуют, но могут ли быть такие свойства у реального пространства? Мы бы ведь заметили, правда? Может, и нет. Отклонение в 10 % в форме вашей улыбки ваша мама, вероятно, заметит, а вот в 0,0000000001 % — скорее всего, нет. Неевклидовы пространства — почти евклидовы для маленьких фигур, а мы с вами живем в довольно маленьком углу Вселенной. Как и в квантовой теории, где законы физики принимают странные новые формы, лишь в мирах куда меньших, чем те, с которыми мы имеем дело ежедневно, может существовать искривленное пространство, но оно столь похоже на евклидово, что в масштабах обычной земной жизни мы не заметим разницу. И все-таки — как и в квантовой теории — последствия кривизны для физических теорий могут быть колоссальными.
К концу XVIII века, если бы математики взглянули на свои открытия по-другому, они бы заключили, что неевклидовы пространства существовать могут, а если так, у них могут быть кое-какие странные свойства. Однако вместо этого математики продолжили огорчаться из-за невозможности доказать, что эти странные свойства приводят к противоречиям, а значит, пространство — все-таки евклидово.
Следующие пятьдесят лет революция происходила тайно. Постепенно, за несколько столетий, были открыты новые виды пространств, но о них математическое сообщество либо умалчивало, либо их не замечало. До тех самых пор, пока ученые в середине XIX века не взялись разбираться с бумагами незадолго до этого почившего в бозе старика из немецкого Гёттингена, — тогда-то и открылись секреты неевклидова пространства. К тому времени большинство тех, кто открыл эти пространства, включая старика-немца, поумирало.
Глава 15. Наполеоновский герой
23 февраля 1855 года, Геттинген. Человек, возглавлявший атаку на Евклида, лежал в своей холодной постели, он был стар и каждый вздох давался ему с трудом. Его ослабевшее сердце едва толкало кровь по венам, а легкие переполнялись жидкостью. Карманные часы — тик-так, тик-так — отсчитывали время, что осталось ему на Земле. Но вот они остановились. Почти в тот же миг замерло и его сердце. Подобные символические детали обычно применяют лишь писатели[144].
Несколько дней спустя старика похоронили рядом с безымянной могилой его матери. После его смерти по всему дому обнаружилось немалое состояние, запрятанное по углам — в ящиках комода, в шкафчиках, в столе. Дом его был скромен, крошечный кабинет меблирован лишь столом, бюро и диваном, с одной лампой. Маленькая спальня не отапливалась.
Он провел большую часть жизни несчастным человеком, друзей у него было мало, а взглядов на жизнь он придерживался глубоко пессимистических[145]. Десятки лет преподавал в университете, однако считал эту работу «обременительной и неблагодарной»[146]. Он чувствовал, что «мир, лишенный бессмертия, — бессмыслен»[147], однако сделаться верующим так и не смог. Он удостоился множества почестей, но писал, что «горести превосходят радость стократ»[148]. Он оказался в сердце восстания против Евклида, однако не желал, чтобы об этом узнали. Для ученых-математиков — и тогда, и ныне — этот человек, вместе с Архимедом и Ньютоном, — один из величайших математиков мира.
Карл Фридрих Гаусс родился в немецком Брауншвейге 30 апреля 1777 года, через пятьдесят лет после смерти Ньютона. Семья его обитала в бедном квартале убогого селения через 150 лет после пика его благоденствия. Родители Гаусса принадлежали к той категории населения, которая с немецкой точностью именовалась «полугражданами». Мать — Доротеа — не владела грамотой, работала служанкой. Отец — Гебхард — брался за всякий плохо оплачиваемый рабский труд: копал канавы, клал кирпич, вел бухгалтерию местного похоронного общества.
Внимание: иногда, если о человеке говорят «честный, работящий», дело пахнет керосином. Возникает, знаете ли, такое ощущение, что добром эта характеристика не кончится. Он был человеком честным, работящим. Вот только сынка своего четырнадцать лет держал в чулане — связанным и с кляпом во рту… Предупредив вас, можем сказать вот что: Гебхард Гаусс был человеком честным, работящим.
О детстве Карла Гаусса сохранилось множество историй. Арифметикой он овладел едва ли не раньше, чем научился говорить. Воображение рисует малыша, тыкающего пальчиком в уличного торговца снедью и умоляющего мать: «Есть хочу! Дай!» — а когда желаемое приобретено, он безутешно плачет, потому что не знает, как сказать: «Тебя обсчитали на тридцать пять пфеннигов». Судя по всему, такая картинка недалека от реальности. Самая известная байка о даровании маленького Гаусса, описывает одну субботу — ребенку тогда было года три. Его отец подсчитывал оплату бригады работников. Вычисления заняли некоторое время, и Гебхард не заметил, что за ним наблюдает сын. Представим, что у Гебхарда был нормальный двух-трехлетний сын, которого звали, допустим, Николай. Вероятнее всего, Николай бы, к примеру, опрокинул стакан молока на отцовы расчеты и завопил бы: «Прости меня!» и «Хочу еще молока!» — более-менее на одном дыхании. Карл же сказал примерно следующее: «Тут ошибка в сложении. Правильно будет так…»
Ни Гебхард, ни Доротеа сына никак не натаскивали дополнительно, какое там — Карла вообще никто не учил арифметике. Представим, что Николай сидит в два часа пополуночи на постели и говорит вслух на древнеацтекском, будто он одержим — если не бесами, так уж точно ребенком старше десяти лет. Столь же «естественным» нам показалось бы и поведение Карла. Но его родители привыкли. Приблизительно тогда же Карл сам научился читать.
К сожалению, Гебхард не рвался пестовать талант отпрыска, наняв ему частного преподавателя из школы Монтессори. Оно и понятно: семья была бедная, а Мария Монтессори родится лишь через сто лет. И все-таки Гебхард мог бы найти способ дать сыну образование. Но вместо этого он приставлял малыша к проверке своих расчетов зарплат, а время от времени показывал его друзьям на потеху — устраивал эдакий цирк одного актера. У маленького Карла было плохо со зрением, и он иногда не мог прочитать столбик чисел, которые отец подсовывал ему для сложения. Карлу мешала застенчивость, он ничего не говорил и смирялся с поражением. Вскоре Гебхард стал отправлять Карла работать после обеда — сучить пряжу, чтобы сын поддерживал семейный бюджет.
В зрелые годы Гаусс к отцу с нескрываемым презрением, называя его «высокомерным, неотесанным грубияном»[149]. К счастью, у Карла было еще два родственника, и вот они-то ценили его дарование: мать и дядя Йоханн, брат Доротеи. Гебхард пренебрегал талантом сына и считал формальное образование бессмысленным, а Доротеа и Йоханн верили в дар Карла и противостояли Гебхарду во всем. Для Доротеи сын был радостью и гордостью с самого рождения. Много лет спустя Карл привел в свой скромный дом приятеля по колледжу — Вольфганга Бойяи, совсем не богатого, однако, так уж вышло, венгерского аристократа. Доротеа отвела Бойяи в сторонку и спросила его — что само по себе прогрессивно даже в наши дни, — действительно ли Карл настолько умен, как все о нем говорят, а если да, то куда это может его завести. Бойяи ответил, что Карлу суждено стать величайшим математиком Европы. Доротеа расплакалась.
Карл поступил в свою первую школу в семь лет. Школа эта совсем не смахивала на иезуитскую Ла-Флеш, в которую пришел восьмилетний Декарт и которая позднее прославилась. Напротив, по описаниям эта школа была «убогой тюрьмой» или даже «чертовой дырой». Убогой тюрьмой/чертовой дырой управлял тюремщик/черт/директор по фамилии Бюттнер, что в переводе с немецкого, видимо, означает «А ну делай, как я сказал, не то выпорю». В третьем классе Карлу наконец позволили изучать арифметику, которой он владел с двух лет.
На арифметических занятиях Бюттнер пробуждал интерес юнцов к математике, предлагая им складывать длинные столбцы чисел — до ста штук за раз. Бюттнер, судя по всему, считал, что сам он столь веселых потех не достоин, и поэтому давал ученикам такие числа, кои сам мог сложить без труда, применяя определенные формулы, но он был слишком любезен, чтобы делиться ими с классом.
Однажды Бюттнер поставил детям задачу сложить числа от 1 до 100. Не успел Бюттнер сформулировать задание, как его самый маленький ученик, Карл, сдал свою доску. За час до всех остальных. Когда подошло время проверять сделанное, Бюттнер обнаружил, что Карл единственный из полусотни учеников произвел вычисления безошибочно, и при этом на его доске не значились никакие промежуточные расчеты. Похоже, мальчик постиг формулу суммирования и вычислил ответ в уме.
Говорят, Гаусс открыл эту формулу, заметив, что происходит, если складывать не одно, а два множества чисел от 1 до 100. Далее можно устроить сложение так: складываем 100 и 1, 99 и 2, 98 и 3 и т. д. В итоге получается 100 выражений, каждое равно 101, а значит, сумма всех чисел от 1 до 100 должна быть равной половине результата умножения 100 на 101, или 5050. Это частный случай формулы, известной еще пифагорейцам. Они даже использовали ее в своем тайном обществе как пароль: сумма чисел от единицы до любого другого числа равна половине произведения этого любого (крайнего) числа на него же, увеличенного на единицу.
Бюттнер изумился. На расправу над разгильдяями он был скор, однако и дарование умел оценить по достоинству. Гаусс, начав со временем преподавать математику в колледже, никогда студентов не лупил, но отношение Бюттнера к гению и его презрение к недостатку оного, похоже, унаследовал. Годы спустя Карл напишет с отвращением о трех своих студентах-одногодках: «Один подготовлен очень средне, другой менее чем средне, а третьему не достает ни подготовки, ни способностей…»[150] Этот его комментарий показывает отношение Гаусса к учительству вообще. Студенты же со своей стороны платили ему за презрение взаимностью.
Бюттнер на свои деньги выписал из Гамбурга самый передовой по тем временам учебник арифметики. Возможно, Гаусс наконец обрел наставника, в котором столь остро нуждался. Карл стремительно освоил книгу. К сожалению, она не вызвала у него никаких затруднений. Тогда-то Бюттнер, столь же искусный оратор, сколь и математик, заявил: «Я более ничему не могу его научить», — и сдался; наверное, чтобы вновь сосредоточиться на порке своих менее одаренных учеников, которые успели как-то заскучать. Девятилетний Карл приблизился еще на один шаг к карьере мозолистого трудяги и поедателя сосисок.
И все-таки Бюттнер не оставил гений Гаусса без внимания. Он приставил к мальчику своего одаренного семнадцатилетнего помощника — Йоханна Бартельса. У Йоханна была потрясающая работа: он изготавливал писчие перья и наставлял учеников Бюттнера, как ими пользоваться. Бюттнер знал, что за Бартельсом водится страсть к математике. Вскоре девяти— и семнадцатилетний уже учились вместе — совершенствовали доказательства, приведенные в учебниках, и помогали друг другу овладевать новыми понятиями. Прошло несколько лет. Гаусс стал подростком. Любой, у кого есть ребенок-подросток, кто знаком с подростками или кто им хоть раз был сам, знает: это означает проблемы. В случае Гаусса вопрос стоит так: чьи это проблемы?
Ныне подростковая протестность — это болтаться всю ночь невесть где с подружкой, у которой в языке штифт с бриллиантом. При жизни Гаусса пирсинг себе можно было справить исключительно на поле боя, но протестности против общественных нравов хватало будь здоров. Мощное интеллектуальное движение в Германии в те времена называлось «Sturm und Drang» — «Буря и натиск».
Какое бы немецкое общественное движение ни полюбило слово «буря», стоит держать ухо востро, но это конкретное возглавили Гете и Шиллер, а не Гитлер и Гиммлер. «Буря и натиск» боготворила гений личности и протест против установленных правил. Гаусса не принято считать адептом этого движения, но гением он был и действовал в этой связи своим уникальным способом: он не воевал ни с родителями, ни с политической системой. Он воевал с Евклидом.
В двенадцать лет Гаусс взялся критиковать евклидовы «Начала». Он сосредоточился, как и прочие до него, на постулате параллельности. Но критика Гаусса оказалась свежее и еретичнее. В отличие от своих предшественников, Гаусс не пытался ни нащупать более удобоваримую формулировку постулата, ни признать его необязательность путем доказательства через другие постулаты. Возможно ли, думал Гаусс, что пространство на самом деле искривлено?
К пятнадцати годам Гаусс стал первым математиком в истории, принявшим идею, что может существовать логически непротиворечивая геометрия, в которой постулат параллельности недействителен. Понятное дело, это еще требовалось доказать, и до создания такой новой геометрии путь предстоял неблизкий. Невзирая на дарование, Гауссу-подростку по-прежнему грозило стать очередным землекопом. К счастью для Гаусса и науки в целом, его друг Бартельс знал одного парня, который знал другого парня, который знал парня по имени Фердинанд, герцог Брауншвейгский.
Через Бартельса до Фердинанда дошли слухи о многообещающем молодом человеке с математическим даром. Герцог предложил оплатить ему обучение в колледже. И тут камнем преткновения стал отец Карла. Гебхард Гаусс, видимо, считал, что единственный путь в жизни человека — это копать канавы. Но Доротеа, неспособная прочесть ни одну из книг, которые хотело изучать ее чадо, встала за сына горой. Карлу позволили принять щедрое предложение. В пятнадцать лет он поступил в местную гимназию — приблизительный эквивалент нашей старшей школы. В 1795 году, в восемнадцать, его взяли в Гёттингенский университет.
Герцог и Гаусс сдружились. Герцог продолжал поддерживать Гаусса и после колледжа. Гаусс, наверное, догадывался, что вечно так продолжаться не может. Ходили слухи, что щедрость истощала казну герцога быстрее, чем хотелось бы, да и немолод он был — шестьдесят с лишним, а наследник его мог оказаться куда менее великодушным. Но так или иначе — последующие десять лет были для Гаусса интеллектуально самыми плодотворными.
В 1804 году он влюбился в добрую и приветливую барышню по имени Йоханна Остхофф. Под ее чарами Гаусс, который так часто производил впечатление высокомерного и абсолютно самовлюбленного человека, вдруг стал смиренен и самоуничижителен.
О Йоханне своему другу Бойяи он писал:
Уже три дня этот ангел, едва ль не слишком возвышенный для этой земли, — моя невеста. Я чрезвычайно счастлив… Главная черта ее — тихая преданная душа без единой капли горечи или кислоты. О, насколько же она лучше меня… Я никогда не смел и надеяться на такое блаженство. Я не красив, не галантен, мне ей нечего предложить, кроме честного сердца, исполненного преданной любви. Я уж отчаялся когда-нибудь обрести любовь[151].
Карл и Йоханна поженились в 1805 году. На следующий год у них родился сын Йозеф, а в 1808 году — дочь Минна. Век их счастья оказался недолог.
Осенью 1806 года не болезнь, а рана от мушкета, полученная в сражении с Наполеоном, унесла жизнь герцога. Гаусс стоял у окна в своем доме в Гёттингене и смотрел, как едет на повозке его смертельно раненый друг и покровитель. По иронии судьбы, Наполеон не стал уничтожать родной город Гаусса — из-за того, что «здесь живет величайший математик всех времен».
Смерть герцога, естественно, принесла семье Гаусса финансовые затруднения. Но, как выяснилось, это было меньшее из зол. В последующие несколько лет умерли отец Карла и его заботливый дядюшка Йоханн. А потом, в 1809-м, Йоханна родила их третьего ребенка — Луиса. Роды Минны были трудны, а с рождением Луиса и мать, и младенец тяжко заболели. Через месяц после родов Йоханна скончалась. Вскоре после ее смерти почил и новорожденный. За краткое время жизнь Гаусса потрясала одна трагедия за другой. Но и это еще не все: Минне тоже суждено было умереть молодой.
Гаусс вскоре женился повторно и родил в новом браке еще троих детей. Но для него после смерти Йоханны, похоже, не осталось поводов для радости. Он писал Бойяи: «Это правда — в моей жизни много было того, что чтимо в этом мире. Но поверьте мне, дорогой друг мой, трагедия прошивает мою жизнь красною лентой…»[152] Незадолго до своей смерти в 1927 году один из внуков Карла обнаружил среди писем деда одно, залитое слезами. Поверх этих клякс дед писал:
Одинокий, сную я меж счастливых людей, окружающих меня. И если хоть на мгновенья заставляют они меня забыть о моей печали, она возвращается с удвоенной силой… Даже ясное небо усугубляет мою грусть…
Глава 16. Падение пятого постулата
Гаусса не стали бы считать светилом математики, не повлияй он так глубоко на многие ее области. И тем не менее иногда Гаусса воспринимают как фигуру переходную — скорее как ученого, завершившего разработки, начатые Ньютоном, а не основоположника работ грядущих поколений. В части геометрии пространства это совсем не так: его усилия обеспечили математикам и физикам поле для работы на сто лет вперед. И лишь одно мешало революции произойти: Гаусс хранил свою работу в тайне.
Когда Гаусс в 1795 году стал гёттингенским студентом, он живо заинтересовался вопросом постулата параллельности. Один из преподавателей Гаусса — Абрахам Кёстнер — увлекался на досуге коллекционированием литературы по истории постулата. У Кёстнера даже был студент Георг Клюгель, написавший диссертацию — анализ двадцати восьми неудачных попыток доказать постулат. И все же ни Кёстнер, ни кто другой не готовы были к тому, что подозревал Гаусс: что пятый постулат может быть недействителен. Кёстнер даже говаривал, что лишь сумасшедший стал бы сомневаться в состоятельности постулата. Гаусс держал свое мнение при себе, хотя, как выяснилось, записывал соображения в свой научный журнал, который обнаружили через сорок три года после смерти ученого. Позднее Гаусс пренебрежительно отозвался о Кёстнере, баловавшемся писательством: «Ведущий математик среди поэтов, ведущий поэт среди математиков»[153].
Между 1813 и 1816 годами, уже преподавая математическую астрономию в Гёттингене, Гаусс наконец произвел решительный прорыв, которого ждали со времен Евклида: он составил уравнения, описывающие части треугольника в новом, неевклидовом, пространстве, чью структуру мы теперь называем гиперболической геометрией. К 1824 году Гаусс, похоже, разработал всю теорию целиком. 6 ноября того же года Гаусс написал Ф. А. Тауринусу[154] — юристу немалого ума, развлекавшемуся математикой: «Допущение, что сумма трех углов[155] меньше 180°, приводит к особой геометрии, довольно отличной от нашей[156], что совершенно последовательно, и я развил ее вполне удовлетворительно…» Гаусс эту геометрию никогда не обнародовал и настаивал, чтобы ни Тауринус, ни кто иной не предавали его открытия огласке. Почему? Церкви Гаусс не боялся, он опасался ее пережитков — светских философов.
Во дни Гаусса пути науки и философии еще не окончательно разошлись. Физику знали не как «физику», а как «натурфилософию». Научное мышление уже не карали смертью, но соображения на основе интуиции или веры все равно частенько считали в равной мере осмысленными. Одно модное поветрие особенно веселило Гаусса — «столоверчение»: группа во всем остальном разумных людей усаживалась вокруг стола, все клали на него руки. Примерно через полчаса стол, видимо, заскучав, начинал двигаться или вращаться. Это движение означало, по всей видимости, что-то вроде спиритического послания мертвых. Какие такие послания призраки отправляли живым, не вполне понятно, зато вывод очевиден: мертвые люди предпочитают ставить столы к дальней стене. Представляется, как компания бородатых, облаченных в черные костюмы судейских, семенит вместе со столом, изо всех сил пытаясь удержать руки на заданных местах и увязать перемещение с оккультным анимическим магнетизмом, нежели с приложением собственных сил. В современном Гауссу мире такие явления могли казаться разумными, а вот мысль о том, что Евклид ошибался, — нет.
Гаусс повидал слишком много ученых, втянутых в изнурительные распри с недоучками, чтобы влезать в нечто подобное самому. Валлис, к примеру, чьи работы Гаусс ценил, оказался вовлечен в ожесточенную дискуссию с английским философом Томасом Гоббсом[157] о том, как лучше всего считать площадь круга. Гоббс и Валлис[158] более двадцати лет публично обменивались оскорблениями, потратив уйму бесценного времени на сочинение памфлетов под названиями «Приметы абсурдной геометрии, деревенского наречия и др. у доктора Валлиса».
Философ, чьих последователей Гаусс боялся более всего[159], был Иммануил Кант, скончавшийся в 1804 году. Физически Кант был Тулуз-Лотреком философов: сутулый, едва ли пяти футов ростом, с сильно деформированной грудной клеткой. В 1740 году он поступил в университет Кёнингсберга на теологию, но обнаружил в себе влечение к математике и физике. Окончив университет, он принялся публиковать работы по философии и стал частным преподавателем и признанным лектором. Около 1770 года он взялся за работу, впоследствии ставшую его самой знаменитой книгой, — за «Критику чистого разума», изданную в 1781-м. Кант отмечал, что геометры его дней обращались в своих «доказательствах» к здравому смыслу и графическим изображениям, и считал, что от претензий на строгость[160] следует отказаться, а вместо этого полагаться на интуицию. Гаусс придерживался противоположного мнения[161]: строгость необходима, а большинство математиков — некомпетентны.
В «Критике чистого разума» Кант называл евклидово пространство «неизбежной необходимостью мысли»[162]. Гаусс не отметал идеи Канта прямо с порога. Он с ними сначала ознакомился, а потом их отмел. Более того, говорят, Гаусс, в попытке постичь Канта, прочел «Критику чистого разума» пять раз, а это, знаете ли, немалый труд для человека, освоившего русский и греческий с меньшим усилием, чем большинству из нас требуется для отыскания [163] в афинском меню. Внутренняя борьба Гаусса становится понятнее, если представить, с какой ясностью Кант формулировал мысли о различии между аналитическим и синтетическим суждениями:
Во всех суждениях, в которых мыслится отношение субъекта к предикату (я имею в виду только утвердительные суждения, так как вслед за ними применить сказанное к отрицательным суждениям нетрудно), это отношение может быть двояким. Или предикат В принадлежит субъекту А как нечто содержащееся (в скрытом виде) в этом понятии А, или же В целиком находится вне понятия А, хотя и связано с ним. В первом случае я называю суждение аналитическим, а во втором — синтетическим[164].
В наши дни математики и физики нимало не беспокоятся, что об их теориях скажут философы. Знаменитый американский физик Ричард Фейнман[165] на вопрос, что он думает о философии, дал емкий ответ, состоящий из трех букв: первая — «х», две остальные — характерное окончание «-ня»[166]. Но Гаусс воспринял работу Канта всерьез. Он писал, что различие между аналитической и синтетической мыслью, приведенное выше, «таково, что либо вязнет в тривиальности, либо ложно». Но мыслями этими — так же, как и своими теориями о неевклидовом пространстве, — он делился лишь с теми, кому доверял. Причуда истории, из-за которой вскинуто было немало бровей: Гаусс-то своих революционных работ 1815–1824 годов не публиковал — в отличие от двух других его современников.
23 ноября 1823 года Йоханн (Янош) Бойяи, сын старинного друга Карла Гаусса, Вольфганга Бойяи, написал отцу, что «создал новый, иной мир из ничего»[167], имея в виду свое открытие неевклидова пространства. В тот же год в российском городе Казань Николай Иванович Лобачевский в своем неизданном учебнике геометрии осмыслил последствия нарушения пятого постулата. Лобачевский учился у Йоханна Бартельса, в те времена служившего профессором в Казани. И Вольфганг Бойяи, и Бартельс давно интересовались неевклидовым пространством и много обсуждали с Гауссом его соображения на этот счет.
Совпадение? Гений Гаусс открывает великую теорию и рад обсудить ее с друзьями, но отказывается ее публиковать. Вскоре после этого друзья и родственники этих друзей вдруг, откуда ни возьмись, выходят и заявляют, что они сделали точно такое же великое открытие. Это стечение обстоятельств породило как минимум одну песенку о Лобачевском[168] — с обвинительным текстом: «Ворец идей, ты не своди очей с чужих затей…» Однако большинство историков в наши дни считает, что передался скорее дух, нежели конкретика трудов Гаусса, а Бойяи и Лобачевский не ведали о работе друг друга — во всяком случае, в свое время.
К сожалению, не ведал никто. Ключевых для науки высоколобых математиков никто не слушал. Лобачевский свою работу опубликовал, а толку? Она вышла в никому не известном русском журнале «Казанский вестник». А Бойяи похоронил свой труд в приложении к одной из отцовых книг под названием «Tentamen» («Опыт»). Четырнадцать с чем-то лет спустя Гаусс наткнулся на статью Лобачевского, а Вольфганг написал ему о работе сына, но Гаусс по-прежнему не собирался издавать свои труды — он не желал оказаться в эпицентре скандала. Написал Бойяи вежливое поздравительное письмо (отметив, что сам уже достиг сходных результатов) и великодушно выдвинул Лобачевского в члены-корреспонденты Королевского научного общества Гёттингена (и в 1842 году того немедленно избрали).
Янош Бойяи не обнародовал более ни единой математической работы[169]. Лобачевский же стал успешным функционером, а впоследствии — и ректором Казанского университета. Бойяи и Лобачевский, быть может, так бы и растаяли вдали, если бы не связь с Гауссом. Как ни парадоксально, однако именно смерть Гаусса в итоге привела к неевклидовой революции.
Гаусс крайне педантично относился к хронике событий, связанных с его персоной. Он увлеченно собирал некоторые странные данные[170] — например, продолжительности жизни умерших друзей в днях, или число шагов от обсерватории, в которой он трудился, до различных мест, которые ему нравилось навещать. Он и работу свою датировал пофазно. После его смерти ученики набросились на его записи и корреспонденцию. Там они обнаружили его труды, посвященные неевклидову пространству, а также статьи Бойяи и Лобачевского. В 1867 году их включили во второе издание влиятельного сборника Рихарда Бальцера «Elemente der Mathematik». Совсем скоро они стали стандартными опорными ссылками для тех, кто работал над новой геометрией.
В 1868 году итальянский математик Эудженио Бельтрами упокоил раз и навсегда тему доказательства постулата параллельности: он доказал, что евклидова геометрия образует непротиворечивую математическую структуру, и так же ведут себя новооткрытые неевклидовы пространства. Непротиворечива ли евклидова геометрия? Мы еще увидим, что это пока ни доказано, ни опровергнуто.
Глава 17. Блуждания в гиперболическом пространстве
Что же за птица это неевклидово пространство? Гиперболическое пространство, открытое Гауссом, Бойяи и Лобачевским получается, если заменить постулат параллельности допущением, что для любой данной прямой есть не одна, а несколько параллельных прямых, проведенных через ту или иную точку, не лежащую на данной прямой. Одним из следствий этого, писал Гаусс Тауринусу, является то, что сумма всех углов в треугольнике всегда меньше 180° на величину, которую Гаусс назвал угловым дефектом. На другое следствие наткнулся Валлис: подобных треугольников в таком пространстве не существует. Эти два следствия связаны между собой, поскольку угловой дефект зависит от размеров треугольника. Чем больше треугольник, тем больше угловой дефект, а маленькие треугольники — более евклидовы. В гиперболическом пространстве к евклидовым формам можно приблизиться, но достигнуть их нельзя — в точности как вы не достигнете скорости света или своего идеального веса.
Вроде бы малое изменение простой аксиомы — постулата параллельности, однако его хватило, чтобы породить волну, прокатившуюся по всему корпусу евклидовых теорем и поменявшую каждую, что описывала форму пространства. Словно Гаусс вынул стекло из евклидова окна и заменил его на искажающую линзу.
Ни Гауссу, ни Лобачевскому, ни Бойяи не удалось выработать простой способ наглядно иллюстрировать этот новый вид пространства. Это получилось у Эудженио Бельтрами и — попроще — у Анри Пуанкаре, математика, физика, философа и двоюродного брата будущего президента Франции Раймона. И тогда, и ныне Анри — менее известный Пуанкаре, но, как и его кузен, умел ввернуть словцо. «Математиками рождаются, а не становятся», — писал Пуанкаре. Так родилось это клише, и Анри прочно закрепил за собой место в народном сознании. А вот труд Анри 1880 года куда менее известен вне академических кругов — в этой работе он определил четкую модель гиперболического пространства[171].
Создавая свою модель, Пуанкаре заменил базовые элементы типа прямой и плоскости вещественными объектами, после чего перевел аксиомы гиперболической геометрии в эти новые термины. Допустимо переводить неопределенные термины пространства как кривые или поверхности — или даже как разновидности еды, если при этом смысл, который им сообщается применимыми к ним постулатами, хорошенько определен и непротиворечив. Можно смоделировать неевклидову плоскость как поверхность зебры, считать волосяные луковицы на ее шкуре точками, а полосы — линиями, если нам так хочется, покуда такой перевод не противоречит аксиомам. Например, вспомним первый постулат Евклида применительно к пространству зебры:
1. От всякой волосяной луковицы до всякой волосяной луковицы можно провести кусок полосы.
Этот постулат в пространстве зебры недействителен: у полос зебры есть ширина, и полосы эти размещаются на животном в строго определенном направлении. Между двумя волосяными луковицами, расположенными вдоль какой-нибудь полосы, но смещенными от нее в стороны, не получится провести кусок полосы. Зебр в модели Пуанкаре не было. Зато она была похожа на блин.
Вот как устроена Вселенная Пуанкаре: вместо бесконечной плоскости — конечный диск, вроде блина, но бесконечно тонкий и с идеальной круговой кромкой. «Точки» — такие штуки, которые считались точками со времен Декарта: местоположения, вроде кристалликов мелкого белого сахара. Линии Пуанкаре — вроде изогнутых бурых следов от сковородки. Если же говорить технически, эти линии — «любые дуги окружностей[172], пересекающие границу диска под прямыми углами». Чтобы не путать их с линиями, которые нам подсказывает интуиция, станем называть их линиями Пуанкаре.
Собрав эту физическую картинку, Пуанкаре должен был придать смысл применимым к ней геометрическим понятиям. Одним из важнейших оказалась конгруэнтность — то самое докучливое свойство фигур, которое Евклид предписал нам проверять путем наложения. В своем четвертом «общем замечании» Евклид писал:
4. И совмещающиеся друг с другом равны между собой.
Как мы уже говорили, возможность перемещать фигуры в пространстве, не искажая их, нам гарантирована лишь при условии принятия евклидовой формы постулата параллельности. Поэтому применение общего замечания № 4 в рецепте конгруэнтности — ни-ни в неевклидовом пространстве. Решение Пуанкаре — интерпретировать конгруэнтность путем определения системы измерения длин и углов. Две фигуры в таком случае окажутся конгруэнтными, если длины их сторон и углы между ними совпадут. Вроде очевидно, да? Но все не так-то просто.
Определение способа измерения углов оказалось вполне лобовым. Пуанкаре определил угол между двумя линиями Пуанкаре как угол между их касательными в точке пересечения этих линий. А вот чтобы ввести определение длин — или расстояний, — Пуанкаре пришлось попотеть. С постижением этого понятия могут возникнуть трудности, поскольку Пуанкаре запихнул бесконечную плоскость в конечную область. Например, вспомним второй постулат:
2. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой.
Очевидно, применение обычного определения расстояний к блину делает постулат недействительным. Но Пуанкаре переопределил расстояние: новое пространство сжимается по мере приближения к его краям, и именно так конечная область превращается в бесконечную. На первый взгляд все просто, но Пуанкаре не мог просто взять и определить расстояние по своему произволу — чтобы стать приемлемым, его определение должно было удовлетворять многим требованиям. Например, расстояние между двумя точками должно быть всегда больше нуля. Кроме того, в точном математическом выражении, выбранном Пуанкаре, линия Пуанкаре должна была соединять любые две точки по кратчайшей траектории, возможной между ними (такие линии называются геодезическими ): в точности как обычные линии есть кратчайший путь между двумя точками в евклидовом пространстве.
Если вдуматься во все фундаментальные геометрические понятия, необходимые для определения гиперболического пространства, выяснится, что модель Пуанкаре приводит к непротиворечивому определению каждого. Мы можем проверить остальные, но интереснее всего рассмотреть именно постулат параллельности. Гиперболическая версия его, данная в модели Пуанкаре в форме аксиомы Плейфэра, выглядит так:
В плоскости через точку, не лежащую на данной линии Пуанкаре, можно провести множество других линий Пуанкаре, не пересекающих данную.
Рисунок на странице 179 иллюстрирует, как это выглядит.
Модель Пуанкаре для гиперболического пространства — лаборатория, где легко разобраться с кое-какими необычными теоремами и свойствами, которые математики с таким трудом пытались обнаружить. Предположим, например, что надо изобразить прямоугольник, не существующий в неевклидовом пространстве. Начертим для начала линию Пуанкаре в качестве базовой. Затем — еще два отрезка линий Пуанкаре, по одну и ту же сторону от базовой и перпендикулярные ей. Наконец соединим два отрезка третьим так, чтобы он, как и базовая линия, был перпендикулярен этим двум отрезкам. Это невозможно. В мире Пуанкаре не бывает прямоугольников.
Чего же Пуанкаре добился всем этим? Воображение рисует нескольких очкастых математиков Парижского университета: они по окончании семинара о модели Пуанкаре из вежливости аплодируют умнику Анри. Быть может, они даже приглашают Пуанкаре после его лекции на абсент или блинчик, на котором потом рисуют вареньем прямоугольники. Но зачем кому бы то ни было через сто с лишним лет писать книгу обо всем этом? Или вам — умному и очень занятому читателю — разбираться в ней?
Соль шутки вот в чем: модель Пуанкаре — не просто модель гиперболического пространства. Это и есть гиперболическое пространство (в двух измерениях). На языке математики это означает, что ученые доказали: все мыслимые математические описания гиперболической плоскости — изоморфны, или, говоря нашим с вами языком, одинаковы. Если наше пространство гиперболическое, оно поведет себя в точности как модель Пуанкаре (но только в трех измерениях). Перефразируя диснеевскую песенку, он вообще-то мал, этот блин[173].
Параллельные линии в гиперболическом и евклидовом пространствах
Через пару десятилетий после открытия гиперболического была открыта еще одна разновидность неевклидова пространства — эллиптическое. Оно получается при другом нарушении постулата параллельности: не существует никаких параллельных линий (т. е. все линии на плоскости должны пересекаться). В двух измерениях этот тип пространства был известен и в другом контексте изучен еще греками, а потом и Гауссом — но ни те, ни другой так и не прониклись важностью этого примера эллиптического пространства. Оно и понятно: в пределах евклидовой системы было доказано, что даже с допущениями альтернативных формулировок постулата параллельности эллиптических пространств не существует[174]. В конце концов загвоздка заключалась не в самих эллиптических пространствах, а в аксиоматической структуре Евклида.
Глава 18. Букашки, звать их «род людской»[175]
Десять лет, начиная с 1816 года[176], Гаусс провел по большей части вдали от дома — руководил огромной работой по изучению местностей в Германии; ныне мы называем такие работы геодезической съемкой. Перед исследователями стояла задача измерения расстояний между городами и другими точками на местности и создания соответствующих карт. Это упражнение не так просто, как может показаться, — по нескольким причинам.
Первая трудность, которую пришлось преодолевать Гауссу, заключалась в ограниченных возможностях геодезических инструментов. Прямые линии приходилось строить из коротких отрезков, всякий раз — с определенной погрешностью измерения. И погрешности эти очень быстро накапливались. Гаусс с этой неувязкой взялся справляться не как любой нормальный исследователь, вроде автора этой книги, т. е. не стал ожесточенно рвать на себе волосы и время от времени орать на собственных детей, а тем временем по чуть-чуть приращивать точность измерения и затем публиковать результат в таких формулировках, чтобы звучало как можно солиднее. Нет, Гаусс разработал ключевую для современной теории вероятности и статистики идею — теорему, согласно которой случайные погрешности распределяются относительно среднего значения в виде колоколообразной кривой.
Разобравшись с задачей погрешностей, Гаусс взялся за следующую: как собрать двухмерную карту из данных о трехмерном пространстве, в котором поверхности имеют разную высоту и кривизну. Основная трудность заключается в том, что поверхность Земли имеет не ту же геометрию, что евклидова плоскость, — такова математическая версия бытового затруднения, какое испытывает любой родитель, когда-либо пытавшийся завернуть мяч в подарочную бумагу. Если вы как родитель эту проблему преодолеваете, нарезав бумагу маленькими квадратами и обклеив ими мяч, значит, вы применяете Гауссов подход — с поправкой на технические нюансы. Эти самые нюансы Гаусс опубликовал в статье 1827 года. С тех пор вокруг этой статьи образовалось целое отдельное направление математики — дифференциальная геометрия.
Дифференциальная геометрия — теория искривленных поверхности, в которой поверхность описывают методом координат, изобретенных Декартом, после чего анализируют при помощи дифференциального счисления. Вроде вполне частная теория, применимая, допустим, к кофейным чашкам, крыльям самолетов или к вашему носу — но не к устройству нашей Вселенной. У Гаусса было иное мнение. В статье он отразил два своих главных озарения. Перво-наперво заявил, что саму по себе поверхность можно считать пространством. Можно, иными словами, считать пространством поверхность Земли, чем она в бытовом смысле и являлась — до эпохи воздухоплавания, во всяком случае. Вероятно, Блейк не имел всего этого в виду, когда сочинил строку «Увидеть мир в одной песчинке»[177], но в итоге поэзия сомкнулась с математикой.
Еще одно революционное открытие Гаусса: кривизну заданного пространства можно изучить исключительно в его пределах, без оглядки на большее пространство, которое может содержать, а может и не содержать заданного. Технически говоря, геометрия искривленного пространства может быть изучена без учета евклидова пространства большей размерности. Мысль о том, что пространство может «искривляться» само по себе, а не во что-то еще, позднее оказалась необходимой для общей теории относительности Эйнштейна. В конечном счете, коль скоро мы не можем выбраться за пределы нашей Вселенной и взглянуть на ограниченное трехмерное пространство, в котором обитаем, со стороны, лишь такая теорема оставляет нам надежду на определение кривизны нашего мира.






