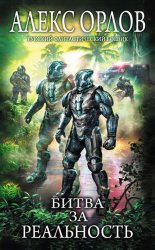Утоли моя печали Васильев Борис

– Серьезная просьба, Евстафий Селиверстович. Очень и очень. Наш родственник господин Беневоленский, которого хорошо знает Роман Трифонович, прибыл из-за границы… мм… Не совсем легально, а посему необходим паспорт.
– Сделайте милость указать, на какое имя.
– Он… – Иван растерялся от такого простого решения вопроса, казавшегося неразрешимым. – Он сам скажет.
– Завтра же выеду в Смоленск, чтобы успеть до Рождества, потому как далее воспоследствуют каникулярные дни.
– Благодарю…
– Польщен доверием вашим, Иван Иванович. Весьма польщен. Не откажите в любезности попросить господина Беневоленского передать мне все необходимые данные непременнейшим образом сегодня же. Если не затруднит вас просьба сия.
Все было сделано буквально в один день, и господин Аверьян Леонидович Беневоленский, бывший смутьян и вечный ссыльнопоселенец, стал мещанином Прохоровым Аркадием Петровичем. Зализо знал, как разговаривать с чиновниками, а хомяковские миллионы творили чудеса и почудеснее паспортных.
Заодно Евстафий Селиверстович привез фрачную пару, три приличных костюма для внезапного гостя и телеграмму от Варвары: «НАДЕЖДА ВЫЕЗЖАЕТ 22 ВСТРЕЧАЙТЕ НЕПРЕМЕННО ВАРЯ».
Встречать любимую сестру Иван выехал вместе с неутомимым господином Зализо в закрытой карете, учитывая рождественские морозы. Поезд пришел вовремя, Надя степенно вышла из вагона первого класса, но, увидев Ивана, совсем по-девичьи повисла у него на шее.
– Ваничка, дорогой! Я так рада… Это ведь я к тебе на Рождество напросилась, не сердишься?.. А это – Феничка.
Феничка церемонно присела, а Иван, зайдясь от счастья, чуть было не обнял и ее, но – опомнился и почему-то погладил по голове. Евстафий Селиверстович почтительно поклонился, приказал кучеру взять вещи и повел всех к карете.
– Ты, Наденька, знаешь этого господина, – сказал Иван, представляя Беневоленского. – Это Аверьян Леонидович, муж нашей покойной Маши.
Потом был обед по случаю приезда – в доме не придерживались строгого поста, как и в большинстве дворянских домов того времени, но рыбные блюда и деликатесы, естественно, преобладали, а привезенный Евстафием Селиверстовичем повар в грязь лицом не ударил. Расспрашивали Наденьку, шутили, пили легкое мозельское вино, однако даже его Иван позволил себе ровно два бокала.
– У вас, Надя, бесспорное литературное дарование, – говорил Беневоленский. – Я читал ваш рассказ «На пари», и мне он понравился, несмотря на кричащую сентиментальность. Он остро социален, что делает его не только граждански значительным, но и современным в лучшем смысле. Каковы ваши планы на будущее?
– Я… Я скверно себя чувствовала, но очень надеюсь окончательно выздороветь здесь, где прошло детство. А что касается планов на будущее… Мечтаю заняться журналистикой.
– Прекрасная мечта. Россия вступает в новое столетие, которое обещает резкое обострение классовой борьбы, и роль журналистики трудно переоценить.
– Смена веков есть смена знамен. – Иван печально улыбнулся. – Так любил говорить наш отец. Поклонимся ему и маменьке на второй день Рождества Христова, Наденька.
– Я… Да, конечно, Ваня.
Вечером Надя притащила из кладовой множество елочных игрушек и украшений, которые скопились за добрых двадцать лет. Затем Феничка с помощью Аверьяна Леонидовича и Ивана заново перевешивали игрушки и украшения, а Наденька вслух читала им любопытные известия столичных газет и журналов, которые привезла с собой.
– «Во Франции вошла в большую моду забава, известная под именем bataille de confetti. Публика забавляется, забрасывая друг друга разноцветными фигурками из бумаги и лентами».
– Хорошо французам, – проворчал Беневоленский. – У них даже Сибирь – в тропиках.
– «В распоряжение московского Комитета грамотности поступило крупное пожертвование от лица, пожелавшего остаться неизвестным, – продолжала Наденька. – Согласно воле пожертвователя вся сумма в сто тысяч рублей должна быть употреблена на покупку библиотек для воскресных школ…»
– Интересно было бы узнать имя щедрого жертвователя, – улыбнулся Иван.
– А будто вы не знаете? – живо откликнулась Феничка. – Так то ж Роман Трифонович, не сойти мне с этого места!
Все рассмеялись, и Надя начала читать дальше:
– «В Москве открыты две столовые, в которых будут бесплатно обедать пятьсот малоимущих студентов».
– Вот это славно, – сказал Аверьян Леонидович. – Ты много по урокам бегал, Иван?
– Достаточно. Хотя официально и не считался малоимущим. Как-то и времени вроде хватало, и сил.
И вздохнул вдруг, нахмурившись. Беневоленский посмотрел на Надю, и она тотчас же продолжила:
– «Весь мир облетело известие из Иркутска о том, что знаменитый норвежский исследователь Фритьоф Нансен, отправившийся три года назад на север на корабле „Фрам“, достиг Северного полюса, где и открыл новую землю».
– Вот куда в двадцатом столетии Россия своих каторжан ссылать будет, – сказал Иван. – Оттуда уж не убежишь. Ни при какой дифтерии с эпидемией.
– Невыгодно, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Проще всю Сибирь заборами огородить.
Так они шутили и смеялись допоздна, а на следующий день рано утром, еще до завтрака, Надя исчезла. Феничка тут же призналась, что знает, куда подевалась ее барышня, и для тревог решительно нет никаких оснований.
Но все дружно решили погодить с завтраком, пока Наденька не вернется.
А Наденька рыдала на могилах под двумя белыми мраморными крестами.
– Маменька, батюшка, простите меня, простите… Ради Бога, простите меня…
Ей необходимо было покаяние, но не пред иконным ликом, а над прахом родителей своих, вспомнить которых живыми она так и не смогла. Но это, как выяснилось, было не столь уж важным. Важным оказалось откровение и искренние слезы.
Вечером в канун Рождества Надя и Феничка принесли из дома все оставшиеся игрушки и вместе с крестьянскими ребятишками по-своему перевесили украшения, цепи и мишуру на высокой елке, вкопанной в центре села Высокое. А потом все – и Беневоленский с Иваном в том числе – пошли по традиции в церковь. Вечером того же дня к детям в Высокое приехали на санях Дед Мороз и Снегурочка с подарками. Правда, Дед Мороз оказался без левой руки, но зато у Снегурочки была самая настоящая коса пшеничного цвета…
И начались Святки. До четвертого января – естественно, отметив дома Новый год с шампанским, – катались на тройке и на санках, по просьбе Наденьки расчистили снег на ближнем пруду, где и чертили лед коньками. И все это вместе с молодежью и детворой, с шутками, снежками, смехом и весельем.
В канун Крещенья Наденьке вздумалось погадать. Руководством к гаданию она избрала балладу Жуковского «Светлана» и велела Феничке раздобыть все, что упоминалось в ней в качестве подспорья для девичьего крещенского обряда. Башмачок, воск, зерно и курицу: драгоценности она решила попросить у Ивана.
– Вот уж не думал, что вас, образованного человека да еще и писательницу, могут увлечь девичьи гаданья. – Беневоленский явно разыгрывал удивление: просто хотелось поговорить.
– Я такая же девица, как и те, кто сотнями лет гадал в этот вечер, – улыбнулась Надежда.
– И вы верите столь же искренне, сколь верили ваши прапрабабки?
– Мне тоже интересно знать, что меня ожидает в девяносто шестом году. Разница лишь в том, что мои прапрабабки боялись играть с судьбой в открытую, а я не боюсь.
– Не боитесь потому, что знаете беспредельную ничтожность совпадений, или в силу собственного характера?
– Точнее, просто из любопытства. – Наденька помолчала и спросила вдруг: – Я похожа на Машу?
– Скорее нет, чем да. Вас это огорчило?
– Если разъясните, не огорчит.
Беневоленский грустно улыбнулся. Вздохнул, взгляд стал печальным и – строгим.
– Маша погибла в вашем возрасте, Наденька. Вы позволите называть вас просто по имени?
– Безусловно, Аверьян Леонидович. Мне это приятно.
– Обаяния в вас, пожалуй, столько же, но у вас оно – озорное, а у Машеньки – скромное. Я вас не обидел?
– Отнюдь.
– Обидел, конечно, обидел, – расстроился Аверьян Леонидович. – Но вы спросили прямо, и ответ должен быть прямым. Условились?
– Условились.
– Маша рано осознала свой долг и исполнила его до конца. Броситься на бомбу во имя спасения детей… Не каждый мужчина решится на такое, далеко не каждый.
– Мы преклоняемся перед ее мужеством, но…
– Преклонение через «но»?
– Бомба остается бомбой.
– Судите по нравственности того времени.
– Всегда и всё?
– Всегда и всё. И никогда – по нравственности сегодняшнего дня. Тогда это считалось героизмом, теперь – терроризмом, но людям не дано жить чувствами будущих поколений.
– А вы способны сегодня бросить бомбу?
– Я и тогда понимал бессмысленность подобных актов, почему и порвал с народовольцами. И… и с Машенькой, если быть до конца откровенным.
– Порвали с Машей? – тихо спросила Наденька.
– Точнее, мы разошлись по идейным соображениям. Я очень любил ее. Очень. И все время надеялся, что она поймет меня и вернется. – Беневоленский тяжело вздохнул. – А потом узнал, что она не вернется уже никогда…
– А у вас не возникало ощущения, что вы предали ее?
– Вот сейчас в вас заговорила Маша, – невесело усмехнулся Аверьян Леонидович. – Бескомпромиссная Маша…
– Вы не ответили на вопрос.
– Видите ли, Надин, мы с Машенькой занимались революционной деятельностью, но пошли разными дорогами не из-за семейной ссоры, моды или каприза, а следуя только собственным убеждениям. Если предательством вы называете то, что я не смог ее переубедить, то по женской логике вы абсолютно правы. Муж обязан удерживать жену от опрометчивых, а тем паче от роковых шагов. Но революционная борьба не имеет права ориентироваться на семейные отношения. Когда речь идет о судьбе народа…
– Господи, да при чем тут народ? – как-то очень по-взрослому вздохнула Надя. – При чем народ и вся ваша революционная деятельность, когда погибла моя сестра?.. Извините, Аверьян Леонидович, у меня… Меня ждет моя деятельность.
И вышла. А Беневоленский, сломав голландскую сигару, запас которых доставил в Высокое заботливый Евстафий Селиверстович, прошел в буфетную, налил большую рюмку водки и выпил ее одним глотком на глазах изумленной прислуги.
За ужином оживленным казался только Иван, даже как-то излишне оживленным. Надя и Беневоленский отвечали односложно, разговоров не поддерживали и улыбались несколько напряженно. «Что это с ними стряслось? – тревожно думал Иван, упорно пытаясь шутить. – Надутые и какие-то очень уж серьезные…»
– Петр Первый заменил славянский дуб колючей германской елью под новый, тысяча семисотый год. Может быть, он имел в виду, что нашего брата-русака следует гладить только по шерстке?
– Ваня, среди бабушкиных драгоценностей найдется перстень и изумрудные серьги? – неожиданно спросила Надежда, никак не отреагировав на довольно неуклюжую шутку.
– Бабушкиных драгоценностей вообще нет. Варвара продала их с нашего общего согласия, чтобы помочь Роману стать на ноги.
– И не выкупила? – ахнула Наденька.
– Так они же проданы, а не заложены, Наденька. Где их теперь искать?
– Какая жалость…
– «В чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны…» – вдруг процитировал Аверьян Леонидович. – А обручальное кольцо, Надин, вас не устроит? Когда-то Машенька надела его мне на палец, и с той поры я его не снимал. – Он протянул через стол руку. – Тяните, Наденька, тяните изо всех сил, оно срослось со мной.
Надя посмотрела ему в глаза, улыбнулась:
– А вы извините меня за резкость?
– Не было никакой резкости. Забудьте и тащите кольцо.
– Надо палец намылить! Палец!
Обрадованный явным улучшением погоды за столом, Иван сам принес мыло, намылил кожу вокруг кольца и наконец с большим трудом стянул его.
– Не больно, Аверьян?
– Терпимо.
– Благодарю, Аверьян Леонидович, – сказала Надя. – Утром верну в целости и сохранности. А сейчас сыграю для вас, пока вы будете курить свои противные сигары.
Они перешли в гостиную. Мужчины неспешно, со вкусом курили, а Надя села к роялю и по памяти, без нот, играла им, пока в дверь осторожно не заглянула Феничка:
– Пора, барышня!.. – загробным шепотом возвестила она.
– Пора девичьих забав, – пояснила Наденька. – Извините нас, господа.
Девушки поднялись в спальню Нади, зажгли свечи, потушили яркую керосиновую лампу. Сразу почему-то стало тревожно, и Надя сказала приглушенно:
– Зеркала надо завесить.
– Как при покойнике, что ли?
– Не знаю, но так полагается.
– Ой, не нравится мне все это, – вздохнула Феничка, занавешивая оба зеркала. – Ну, а теперь что?
– Ждать, когда полночь пробьет.
– Страсть-то какая…
Девушки уселись рядом и примолкли. Чуть потрескивая, горели свечи, тени дрожали на стенах. Было жутковато, и Феничка вцепилась в руку своей хозяйки. Наконец снизу, из гостиной, донеслись гулкие удары напольных часов.
– Нечистой силы время пробило, – прошептала Феничка. – А теперь что?
– Теперь?.. За ворота – башмачок. Ты принесла башмачок?
– Принесла. Во двор, что ли, с ним выходить? Обсмеют.
– Давай в окно выкинем.
– Так окна на зиму заклеены.
– Тогда… – Наденька задумалась. – В форточку бросай.
– Я?
– Ну, у нас же один башмак.
Феничка покорно влезла на подоконник, открыла форточку. Надя подала старый башмак, и горничная тут же вышвырнула его.
– За ворота бросила?
– В сад. Окна-то ваши в сад выходят, а двор эвона с другой стороны совсем.
– Ну, ладно, – согласилась Наденька и забормотала: – «За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали…» Тут у нас не совсем так, как у Жуковского. Дальше – «снег пололи». Ты умеешь снег полоть?
– А зачем его полоть? – удивилась Феничка и наставительно пояснила: – Полют грядки, барышня.
– Что-то пока у нас плохо получается, – вздохнула Надя. – После этого… После этого нам придется все равно выходить во двор.
– Зачем?
– Под окнами слушать.
– А, это интересно! – оживилась Феничка.
Девушки быстро оделись и через черный ход осторожно, боясь скрипнуть ступенькой, спустились во двор.
– Слушай очень внимательно, это важно, – прошептала Надя. – За мной к первому окну, где виден свет.
Они прокрались к освещенному окошку и замерли, навострив уши.
– Молчат там…
– Тихо!.. – зашипела Наденька.
– На круг – две тысячи, – вдруг еле слышно донесся мужской голос. – Не мало, не мало…
– Это Евстафий Селиверстович, – почти беззвучно пояснила Надя. – Отчет пишет…
– Чего пишет?
– Тише!..
– Конечно, ради праздника ничего не жаль, однако… – бормотал тем временем Зализо.
Наденька оттащила Феничку от окна:
– Отчет – это неинтересно. Пойдем к следующему окну.
В следующем окне была открыта форточка и распахнуты шторы. Девушки подкрались, осторожно заглянули.
Это была гостиная. В креслах уютно покуривали Беневоленский и Иван.
– При семидневной обороне Шипки я окончательно понял, сколь опасна революция для России. Представь себе обезумевшую толпу под зеленым знаменем Пророка и столь же обезумевшую – под русским знаменем. Я все время видел перед глазами эти толпы вооруженных людей, когда залечивал отпиленную по локоть руку.
– Ты не прав, Аверьян. То была война за свободу.
– Я не говорю об оценках, поскольку то, что одна сторона считает плюсом, противоположная считает минусом, и наоборот. Я говорю об ожесточении людей. Безумном, неуправляемом ожесточении… Великая Французская революция тоже была борьбой за свободу, но сколь же кровава и жестока она была. А революция в России обречена на еще большую кровь.
– Мы, по-твоему, более жестоки?
– Три четверти нашего народа обижали, угнетали и держали в нищете добрые полтысячи лет. Такое не забывается, Иван, вспомни разинщину и пугачевщину.
– Когда это было…
– Вчера, – строго сказал Беневоленский. – Народ не знает истории, для него существует только вчера и сегодня. И – завтра, если в этом «завтра» ему пообещают молочные реки и кисельные берега.
Феничка разочарованно вздохнула:
– Скушно, барышня…
– Подожди, – строго шепнула Надя.
– …В городах станут вешать генералов и сановников, в деревнях – помещиков, в российской глухомани – офицеров и чиновников. Россия не просто огромна и космата, как мамонт, – Россия раздроблена. Две столицы и сотни губернских городов, губернские города и уезды, уезды и миллионы деревень, хуторов, аулов, кишлаков. И в каждом – свой уклад, свои отношения, свои начальники, чиновники, богачи и бедняки. И везде, везде решительно господство произвола, а не закона. Произвола, Иван, а произвол порождает обиженных. И толпы этих обиженных ринутся давить обидчиков, как только почувствуют безнаказанность. Поэтому бороться за свободу у нас можно только постепенно, только парламентским путем…
– При отсутствии парламента? – усмехнулся Иван.
– Вот! – громко сказал Аверьян Леонидович. – Ты сам обозначил первый пункт программы: борьба за конституционную монархию как первую ступень буржуазной демократической революции. А далее – только через Государственную думу, или как там еще будет называться этот выборный орган. Иначе – неминуемый бунт. Бессмысленный и беспощадный, как бессмысленна и беспощадна сама толпа…
Устраиваясь поудобнее – ноги затекли, – Наденька не устояла и съехала вниз. Беневоленский замолчал, встал с кресла.
– Под окном кто-то…
– Бежим!.. – еле слышно скомандовала Надя и первой бросилась бежать.
Девушки влетели в дом, по черной лестнице через две ступеньки помчались наверх и перевели дух только в комнате, где горели свечи.
– Хватит с нас, – задыхаясь, сказала Наденька.
– А как же курица? – спросила Феничка. – Я черную принесла, у меня в корзинке сидит.
– Мы узнали то, что нас ожидает, – строго пояснила Надя. – Осталось разгадать. Ступай к себе и разгадывай. Только сначала зажги лампу и погаси свечки.
– Покойной ночи, барышня, – радостно сказала горничная, видевшая в гадании очередную барскую причуду.
– Спокойной ночи.
Наденька разделась, накинула ночную рубашку, забралась под одеяло и начала размышлять над услышанным.
Но мысли разбегались и путались, и через несколько минут она уже сладко спала.
Утром она спустилась в столовую несколько настороженной, но никто о гадании и не вспомнил. Даже Аверьян Леонидович, когда Надя надела ему на палец обручальное кольцо. Может быть, ждали, что она сама расскажет, но тут бесшумно вошел Евстафий Селиверстович, смешав все ожидания.
– Доброго утречка и приятного аппетита. Иван Иванович, вас староста из Высокого спрашивает. Говорит, мол, на минуточку, так что извините великодушно.
Иван тотчас же вышел, отсутствовал недолго, а вернулся явно огорченным.
– Что-то случилось? – спросил Беневоленский.
– Да так, ерунда. – Иван невесело усмехнулся. – С елки в селе ночью кто-то все украшения снял. Частью побил, частью унес. Мелочь, конечно, а неприятно.
– Какая гадость! – громко сказала Надежда.
– Раньше этого не водилось.
– Там же – мамины подарки. Ты помнишь мамины подарки? Она же сама, собственными руками делала их, мне Варя рассказывала!.. Мы им праздник устроили, а они…
– Смена веков есть смена знамен, – усмехнулся Аверьян Леонидович. – Так, кажется, говаривал ваш батюшка?
– Прости, Ваня, но я уеду. – Надежда бросила вилку. – Вот они, счета. Две тысячи… Две тысячи воров и хамов, видеть их не могу!
И быстро вышла из комнаты, почувствовав, что слезы вот-вот потекут по щекам.
Мужчины продолжали завтрак в молчании. Потом Иван вдруг встал, вышел в буфетную и принес графинчик с двумя рюмками. Молча налил.
– Водка? – насторожился Беневоленский.
– Ты прав, Аверьян. И отец прав. Смена знамен!
И залпом выпил рюмку.
Через сутки они тихо и грустно провожали Наденьку. Феничка уже прошла в вагон, распаковывалась в купе, а Надя смотрела на Ивана в упор, уже не скрывая слез.
– Береги себя, Ваничка. Умоляю тебя.
– Я поживу здесь немного, Наденька, – со значением сказал Беневоленский.
– Приезжайте к нам, Аверьян Леонидович. Мы будем очень рады вас видеть. И Варя, и дядя Роман, и я. Вы же – Машина любовь, это больше, чем просто родственник.
– Непременно приеду, Наденька. Только, если позволите, после коронации. Когда в Москве потише станет. Мой поклон всем Олексиным и Хомяковым.
Девушки приехали в Москву на следующий день. В первый же вечер, за ужином, Надю подробно расспрашивали о житье в Высоком. Но отвечала она скованно и неохотно, а о разоренной елке вообще умолчала. Но после ужина уединилась с Варварой.
– Я покаялась на маминой могиле. Теперь хочу покаяться перед тобой.
– Стоит ли ворошить старое?
– Стоит. Я вас всех обманула. Обманула, понимаешь? Не знаю, почему и зачем. Ради самоутверждения, что ли.
– Что значит, обманула? Поясни.
– А то значит, что подпоручик Одоевский просидел до четырех утра в моем будуаре в присутствии Грапы, которой я запретила говорить правду.
Варвара молча смотрела на сестру потемневшими от гнева глазами.
– Что ты сказала?
– Твоя сестра – сама невинность, Варвара, маменькой клянусь, – неуверенно улыбнулась Наденька.
– Ты… Ты – сквернавка! Насквозь испорченная сквернавка! Ты же поставила под пулю Георгия!..
– Мама простила меня, – тихо сказала Надежда. – И велела сказать тебе всю правду. Я слышала ее голос, Варенька, слышала…
И, покачнувшись, стала медленно оседать на пол. Варя подхватила ее, закричала:
– Врача! Врача, Роман, немедленно врача!..
Глава третья
В конце января в Москву прибыл министр императорского двора граф Воронцов-Дашков. Двадцать седьмого он посетил Ходынское поле, где осмотрел работы по возведению Царского павильона в русском стиле, и в тот же день уехал в Петербург, оставив своим представителем генерала Федора Ивановича Олексина.
– В Рескрипте государя генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу указано оказывать полное содействие нам, то есть Министерству двора, в коронационных приготовлениях, – с удовольствием рассказывал Федор, сразу же по отбытию непосредственного начальства навестивший родственников. – Чтобы ты, Роман Трифонович, имел представление об их размахе, скажу, что, например, колокольню Ивана Великого и кремлевские башни осветят четырнадцать тысяч лампочек. Четырнадцать тысяч!.. Во всех башенных пролетах зажгут разноцветные бенгальские огни, а стены Кремля унижут лампионами со стеариновыми свечами. И все не на глазок, не на русский авось, а по рисункам Каразина, Прокофьева и Бенуа.
Надя слушала с интересом, Варвара вежливо удивлялась, а Роман Трифонович невозмутимо посасывал незажженную сигару.
– Идут немыслимые расходы, немыслимые! Граф приказал мне проверить кое-какие счета, и я выяснил, что, например, кумачу уже закупили свыше миллиона аршин по цене семьдесят пять копеек за аршин, тогда как нормальная цена – двадцать копеек!
– Двадцать две, – уточнил Хомяков.
– Это ж сколько денег застрянет у откупщиков в карманах!
– Я обошелся без откупщиков.
– Ты?..
– Ну, а чего ж мелочиться-то? – усмехнулся в аккуратную надушенную бороду Роман Трифонович. – Казна платит напрямую, Федор Иванович, грех такой случай упускать.
– Но как тебе удалось?
– Еще до твоего приезда меня вызвал великий князь и укорил, что купцы мало жертвуют. Я говорю: «Совсем не жертвуют, Ваше высочество, потому как не ведают, достигнет ли их жертва намеченной цели. А люди они – практические». – «Но это же непатриотично!» – возмутился Сергей Александрович. «А откупщиков меж нами и вами ставить патриотично, Ваше высочество? – спрашиваю я тогда. – Коли сойдемся на прямых поставках, так, глядишь, и жертвовать начнем».
– И он?.. – с замиранием сердца спросил Федор Иванович.