Железная пята. Люди бездны Лондон Джек
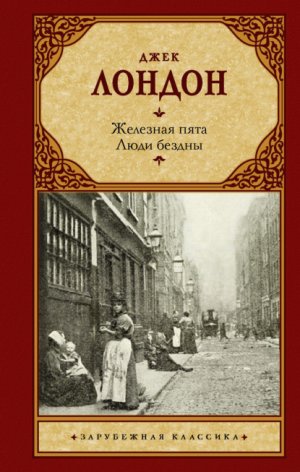
– Я вас не понимаю, – пролепетал епископ.
– А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине восемнадцатого века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери семейств и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью.
– Знаю, знаю, – перебил его епископ, страдальчески морщась. – Все это ужасно. Но это было полтора века назад.
– Полтора века назад и возник современный пролетариат, – подхватил Эрнест. – А где была тогда церковь? Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ, а как отнеслась к этому церковь? Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис[21]: «Те, кому было заповедано: „Пасите овец моих“, – спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти тяжелой работой»[22]. В эти страшные годы церковь безмолвствовала. Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили: согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так?
Епископ колебался: он не привык к тактике «лобовой атаки», как называл ее Эрнест.
– История восемнадцатого века уже написана, – настаивал Эрнест. – Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, об этом можно было бы прочитать в книгах.
– Боюсь, что церковь действительно молчала, – вынужден был признать епископ.
– Сегодня она также молчит.
– Нет, с этим я не могу согласиться, – возразил епископ.
Эрнест не сразу ответил. Он испытующе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение.
– Ладно, – сказал он, – посмотрим. В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают девяносто центов. Протестовала против этого церковь?
– Для меня это новость. Девяносто центов! Неслыханно, ужасно!
– Протестовала церковь? – повторил Эрнест.
– Церкви это неизвестно, – отчаянно защищался епископ.
– А разве не церкви было заповедано: «Пасите овец моих»? – издевался Эрнест. И тут же спохватился: – Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках Юга?[23] Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночную смену, и это сплошь и рядом – при двенадцатичасовом рабочем дне? Они никогда не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, чтобы ваш брат священник лепетал с амвона этим держателям дивидендов, гладким и толстопузым, всякие умильные пошлости!
– Я ничего этого не знал, – чуть слышно прошептал епископ, побледнев и, казалось, борясь с тошнотой.
– Стало быть, вы не протестовали?
Епископ отрицательно покачал головой.
– Стало быть, церковь и ныне безмолвствует, как в восемнадцатом веке?
Епископ опять промолчал, но Эрнест и не настаивал на ответе.
– Кстати, не забудьте, что, если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распроститься со своей кафедрой и приходом.
– По-моему, вы преувеличиваете, – кротко заметил епископ.
– И вы решились бы протестовать? – спросил Эрнест.
– Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать.
– Я покажу их вам, – спокойно сказал Эрнест. – Можете располагать мной. Я проведу вас через ад.
– Хорошо. И тогда я буду протестовать. – Епископ выпрямился в своем кресле, его кроткое лицо выражало решимость воина. – Церковь больше не будет безмолвствовать!
– Вас лишат сана, – предостерег Эрнест.
– Я докажу вам обратное, – ответил епископ. – Если все, что вы говорите, правда, я докажу вам, что церковь заблуждалась по неведению. Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неведением, в коем пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва до него дойдет эта весть. А долг принести ему эту весть лежит на церкви.
Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступиться за епископа.
– Не забывайте, – сказала я, – что вам знакома только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам закоренелыми злодеями. Епископ прав: те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что пропасть, разделяющая общественные классы, слишком уж велика.
– Дикари индейцы не так жестоки и кровожадны, как ваши капиталисты, – ответил Эрнест.
В эту минуту я ненавидела его.
– Вы нас не знаете. Совсем мы не жестоки и не кровожадны!
– Докажите! – В голосе его прозвучал вызов.
– Как могу я доказать это… вам? – Я не на шутку рассердилась.
Эрнест покачал головой.
– Мне вы можете не доказывать – докажите себе.
– Я и без того знаю.
– Ничего вы не знаете, – отрезал он грубо.
– Дети, дети, не ссорьтесь, – попробовал успокоить нас папа.
– Мне дела нет… – начала я возмущенно, но Эрнест прервал меня:
– Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании.
– Какое это имеет отношение к нашему спору? – с негодованием спросила я.
– Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, забрызгано кровью; пища, которую вы едите, приправлена кровью; кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этого потолка. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливает все вокруг.
Он и в самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слезы обиды и оскорбленного тщеславия брызнули из моих глаз. Никто еще не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло, но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах – ни искорки смеха. Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала, ибо в эту самую минуту кто-то внизу, на тротуаре, остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был рослый мужчина, бедно одетый, который тащил на спине гору плетеной мебели – стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо, раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар.
– Этого человека зовут Джексон, – сказал Эрнест.
– Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать вразнос[24], – раздраженно отозвалась я.
– Взгляните на его левый рукав, – мягко сказал Эрнест.
Я взглянула – рукав был пустой.
– За кровь этого человека вы тоже в ответе, – все так же миролюбиво продолжал Эрнест. – Джексон потерял руку на работе, он старый рабочий Сьеррской компании, однако вы, не задумываясь, выбросили его на улицу, как гонят со двора разбитую клячу. Когда я говорю «вы», то имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры Сьеррской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалованье. Джексон – жертва несчастного случая. Его погубило желание сберечь компании несколько долларов. Ему бы оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубья барабана: поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела, – а Джексон потянулся за кремнем; вот ему и размозжило руку по самое плечо. Дело было ночью. Работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, мускулы его потеряли упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей.
– Что же сделала для него компания? – спросила я.
– Ничего. Виноват! Кое-что сделала: она опротестовала иск Джексона о возмещении за увечье, предъявленный после выхода из больницы. К услугам компании, как вам известно, опытнейшие юристы.
– Вы освещаете дело односторонне, – уверенно сказала я. – Может, вам не все известно. Человек этот, должно быть, дерзко вел себя.
– Дерзко вел себя? Ха-ха-ха! – саркастически рассмеялся Эрнест. – Человек с начисто отхваченной рукой осмелился кому-то дерзить! Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним не водится.
– А суд? – не сдавалась я. – Если бы все было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона.
– Главный юрисконсульт компании, полковник Ингрэм, весьма искушенный юрист. – С минуту Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал: – Вот, мисс Каннингхем, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус.
– Я и без вашего совета собиралась это сделать, – холодно ответила я.
– Прекрасно. – Он смотрел на меня с подкупающим добродушием. – Я расскажу, где его найти, но только мне страшно подумать, что раскроет вам рука Джексона.
Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды: мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем, что такое поведение естественно для бывшего рабочего.
Глава III
Рука Джексона
Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль?
Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хибарке[25], на окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом. Вокруг домика, в огромных лужах, затянутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяя невыносимую вонь.
Джексон оказался именно тем тихим безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне все же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал:
– Уж местечко сторожа[26] они могли бы мне дать.
Он разговаривал неохотно и мог показаться тупицей, если бы не та ловкость, с какой работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проворными движениями, я с удивлением спросила:
– Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?
Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой:
– Сам не знаю. Так уж получилось.
– Неосторожность? – не отставала я.
– Нет, – отвечал он. – Я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь семнадцать лет оттрубил на этой фабрике и скажу вам, что большинство несчастных случаев бывает как раз перед гудком[27]. За весь рабочий день их не наберется столько. Когда много часов простоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило! Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает.
– И много произошло таких случаев?
– Сотни. С ребятишками тоже бывает.
За исключением этих страшных подробностей рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, Джексон отрицательно покачал головой.
– Я правой рукой сбросил привод, а левой думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо. А я понадеялся на себя, вот в чем моя ошибка. Ремень соскочил только наполовину, и мне втянуло левую руку по самое плечо.
– Больно было? – посочувствовала я.
– Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости.
Джексон плохо представлял себе, что было на суде, и только повторял, что суд «ничего ему не присудил». Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», – повторял он. Я решила допросить этих свидетелей.
Одно не подлежало сомнению: положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью. Они много задолжали за квартиру, и старший мальчуган, лет одиннадцати, недавно поступил на фабрику.
– Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти, – сказал мне Джексон, прощаясь.
Последующие свидания с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями на суде, убедили меня, что Эрнест не далек от истины в своих предположениях.
Адвокат, щуплое, загнанное существо, производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона, и подумала: ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста: «К услугам Компании, как вам известно, опытнейшие юристы» и «Полковник Ингрэм – весьма искушенный юрист». Я только сейчас поняла, что Компании легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку рабочему. Но все это, как я догадывалась, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьезные причины, чтобы Джексону было отказано в иске.
– Почему вы проиграли дело? – спросила я адвоката.
Первое мгновение он как-то съежился и растерялся; во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезение преследовало этого человека с колыбели. Он пожаловался на свидетелей. Все их показания были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему. Джексон – болван. Полковнику Ингрэму ничего не стоило запугать его и сбить с толку. С полковником Ингрэмом не потягаешься, он – король перекрестного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний.
– Как мог Джексон дать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он?
– Что значит «прав»? – ответил он вопросом на вопрос. – Видите эти книги? – И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. – Все это мной изучено от корки до корки. Зато я теперь знаю, что одно дело – правда, а другое – закон. Спросите любого юриста. Что такое правда, вам расскажут в воскресной школе, а закон – он здесь, в этих книгах.
– Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но что это не помешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что судья Колдуэлл судит не по правде?
Адвокат вызывающе уставился на меня, но постепенно воинственный задор потух в его глазах.
– Поймите и меня тоже, – захныкал опять он. – Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался положении. Полковник Ингрэм – светило юридического мира. Если б он не был светилом, думаете, Сьеррская компания поручала бы ему свои дела? И не только Сьеррская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании – Окленд, Сан-Леандро и Плезантонская. Он поверенный корпораций, а поверенные корпораций получают большие оклады не для того, чтобы проваливать дела в суде[28]. Как вы думаете, почему одна только Сьеррская компания платит полковнику Ингрэму двадцать тысяч в год? Потому что он стоит этих денег! Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, то не промышлял бы чем Бог пошлет и не брался за такие дела, как иск Джексона. Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?
– Очевидно, вы обокрали бы Джексона, – ответила я.
– Можете не сомневаться, – рассердился адвокат. – Жить-то мне надо, как вы полагаете?[29]
– Но у него жена и дети, – пожурила я его.
– А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба.
Лицо его внезапно посветлело, он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками.
– Вот они. Взгляните. Нелегко им живется, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают. Но какая там дача! На это нужны средства.
Когда я собралась уходить, он опять заныл:
– Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник Ингрэм и судья Колдуэлл – добрые друзья. Конечно, этим еще не все сказано: если бы мне удалось на перекрестном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания, не дружба их решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и неудивительно. Судья Колдуэлл и полковник Ингрэм – члены одной ложи и одного клуба, да и живут рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга. Постоянно званые вечера, вист и все такое – то у одной, то у другой.
– Так Джексон все-таки был прав? – спросила я уже с порога.
– Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело, но жене не говорил – из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.
– Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? – спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.
Он долго думал, прежде чем ответить, потом боязливо огляделся и сказал:
– Потому что у меня славная жена и трое ребятишек – таких ребят поискать надо, – вот почему!
– Я вас не понимаю, – сказала я.
– Проще говоря, мне бы не поздоровилось…
– Вы хотите сказать…
Но он прервал меня с ожесточением:
– Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте, и если буду тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили штрейкбрехером. И теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете – компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей… Вот почему я и шагу не сделаю против компании.
– Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?
– Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.
– Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?
Он покачал головой.
– Правду, всю правду и одну только правду? – торжественно произнесла я.
Что-то исступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза – не на меня, на небо.
– Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь – я все вытерплю ради моих детей! – сказал он.
Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джеймсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: компания на все пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.
– Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, – сказал он.
Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз: свое нарядное платье, книги, купленные для отца; вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих, – и внутренне поежилась.
– В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки, – сказала я.
– Да, умолчал. – Смит сурово стиснул губы. – Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чем.
– Он действительно проявил небрежность?
– Называйте как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы.
Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.
– Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих, – сказала я.
– Я получил среднее образование, – ответил Смит. – Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом, – смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. – Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се – словом, я уже себе не хозяин.
– Что вы этим хотите сказать? – спросила я.
– Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.
– Кто их от вас потребовал?
– Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.
– И это погубило Джексона?
Смит кивнул. По лицу его расползался темный румянец.
– У Джексона жена и трое детей, он их единственный кормилец.
– Знаю, – спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.
– Скажите, – продолжала я, – трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который способен так держаться на суде?
Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся[30] и стиснул кулаки, словно готов был меня избить.
– Простите, – сказал он, опомнившись. – Да, это было трудновато. А теперь пора вам уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю: вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово – если понадобится, под присягой.
После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.
– Я тут занялась делом Джексона, – сразу начала я.
Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены.
– С ним и правда обошлись бесчеловечно, – призналась я. – Я… я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.
– Разумеется, – сказал Эрнест. – Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов.
– Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям, – сказала я.
Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.
– В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше, – совершенно серьезно заметил Эрнест. – На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам, и ни кому бы то ни было другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?
Я рассказала ему все.
– Да, никто из этих людей в себе не волен, – заметил Эрнест. – Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая юная поросль, взывают к их нежности – и этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины – она искалечила ему жизнь, преждевременно состарила его и убила.
– Ну а вы? – прервала я его. – Ведь вы же сами себе хозяин?
– Не совсем, – возразил он. – Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, то не позволил бы себе иметь детей.
– Ну, это никуда не годная точка зрения! – воскликнула я.
– Знаю, – сказал он печально, – но она не лишена смысла. Я революционер, а это опасная профессия.
Я недоверчиво рассмеялась.
– Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтоб украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал? Как вы думаете?
– У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас.
– А если бы я и мои товарищи ввели в жилища богачей полуторамиллионную армию[31], – представляете, какая началась бы пальба?
– Но вы этого не делаете, – возразила я.
– Ошибаетесь, я именно это и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств – рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое революция. Это действительно опасное занятие. Боюсь, пальба начнется такая, что превзойдет даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил, все мы в той или иной мере рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен ее колесами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с кем вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона, поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они – рабы этой машины.
В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнеста, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных.
– На эту тему написано немало исследований, – говорил Эрнест. – Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает, зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растет.
Знаете ли вы, что у вашего отца в три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это как нельзя лучше известно страховым обществам[32]. За тысячедолларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год четыре доллара двадцать центов, а рабочему за такой же полис приходится платить пятнадцать долларов в год.
– А каковы ваши шансы? – спросила я и тут же почувствовала, что мой вопрос выдает слишком большое участие.
– У революционера по сравнению с рабочим в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным, – ответил он беспечно. – Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, в восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе неприемлемый клиент. Но почему вы спрашиваете?
Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает щеки. И не потому, что сердце мое открылось Эрнесту, а потому, что оно открылось мне самой – в его присутствии.
Вошел папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал:
– Кстати, раз вы уж заняты тем, что губите свое душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт. Мужья их, как вы знаете, главные акционеры Сьеррской компании. Как и все мы, грешные, обе эти дамы привязаны к промышленной машине, с той лишь разницей, что они забрались на самую вышку.
Глава IV
Рабы машины
Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация – все оказалось миражом. До сих пор жизнь и общество были известны мне по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же соприкосновении с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» – эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах.
Чудовищным, немыслимым казалось мне утверждение, будто все наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему подобно компасной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за его кровь, чтобы отсчитать акционерам тем большие дивиденды. Я знала множество беспечно-благодушных семейств, которые получили эти дивиденды, а с ними и малую толику крови Джексона. Но если так поступили с одним человеком и общество равнодушно проходит мимо, та же участь, должно быть, постигает многих. Я вспомнила рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, что гнут спину за девяносто центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это их худенькие, восковые ручки сработали ткань, из которой сшито мое платье. А наше участие в прибылях Сьеррской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона брызнула и на мое платье. Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону.
Какой-то тайный голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадет завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении, и прежде всего мой отец, – я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвел на меня впечатление больного. Весь он как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намекам я догадывалась, что Эрнест сдержал свое обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа, оставалось для меня тайной: бедняга был так ошеломлен, что не мог говорить об этом.
Однажды, когда ощущение, что все рушится, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять Эрнеста. «Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно…» И тут же испугалась этой мысли как отступничества, и Эрнест предстал мне преображенным: со светлым, сияющим челом, словно ангел Господень, не ведающий страха, он явился мне глашатаем правды, борющимся с ложью и несправедливостью за лучшую жизнь для бедных, сирых и угнетенных. Я подумала о Христе. Ведь и он был заступником смиренных и обездоленных – против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого, я испугалась за Эрнеста. Неужели и он обречен на гибель, этот юноша с прекрасным сильным телом, юноша, чей голос звучит как призыв горна и звон оружия!
В эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая угрюмая, суровая, бесприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждала обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему, хотя бы на короткий миг, покой – только покой и светлое забвение.
С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фикусами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринужденностью. Это был приятный обходительный человек, тактичный и любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым.
Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был в себе волен. Он тоже был рабом промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нем вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалось его ласковое добродушие! Ни следа благовоспитанности на холеном лице, искаженном гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую мистером Смитом. Правда, полковник Ингрэм не стал браниться – единственное, что отличало его от фабричного рабочего, – но даже обычная находчивость – полковник слыл остряком – на этот раз изменила ему. Озираясь по сторонам, он, казалось, искал, куда бы улизнуть. Но пальмы и фикусы держали его в западне.
Господи, опять этот Джексон! Что за фантазия докучать ему этим человеком? Подобные шутки не делают чести ни уму моему, ни такту. Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В суде он чувствует и действует только как профессионал.






