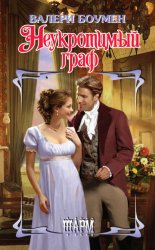Баязет. Том 2. Исторические миниатюры Пикуль Валентин

© Пикуль В. С., наследники, 2008
© ООО «Издательство «Вече», 2008
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017
* * *
Часть вторая. Сидение
Смятение
…А по вечерам говорим о тебе. Папа не пьет сейчас, слава богу, а Митенька принес в этот месяц 7 руб. Лика все-таки дала согласие Валерию Петровичу, но свадьбу отложим до твоего возвращения. Все наше семейство так гордится тобой, наш дорогой Вадя, у нас все помыслы лишь о тебе. Береги же себя и пиши нам чаще. По свадьбе Лика уедет от нас, и тогда освободится для тебя угловая комнатка. Вчера была у нас Танюша Цынская, она совсем девушка, вы были бы с нею очень хорошей парой…
Из письма матери к прапорщику Латышеву от 8 июня, писанного из Волоколамска на второй день после гибели сына
1
Уже на исходе ночи усталость все-таки доконала людей, и они попадали в горячечных снах. Похожие на бесформенные, наспех замотанные узлы, тела солдат и казаков заполнили собой мрачные переходы и тамбуры лестниц; ратники Баязета полегли на площадках дворов и на плоских крышах крепостных фасов. Но звезды еще не успели погаснуть в черной мякоти неба, когда по закоулкам Баязета прошли молчаливые санитары; засучив рукава, они грубо и деловито разматывали эти человеческие, ни на что не похожие узлы и, терпеливо снося пинки, выслушивали бессвязный поток бредовых речей. Они отыскивали неубранных мертвецов, и Сивицкий тоже не поленился выбраться на крышу крепости, убежденно повторяя всюду одно и то же:
– Убирайте трупы, иначе – мор! Братцы, скидывай мертвых со стенок, бросай их туркам, иначе мы задохнемся, иначе погибнем!..
Клюгенау провел по лицу ладошкой, встряхнулся. Перед ним медленно поднимался тяжелый занавес ночи. Художник вчерашнего боя обладал чудовищной фантазией. Декорации заднего плана еще томились в вязкой темноте, а перед зрителем уже открывалась незабываемая картина.
– Тю-тю! – сказал Клюгенау и, потянув Карабанова за рукав, показал вниз. – Остатки-то нашего обоза – тю-тю!
Громоздкая и хаотичная свалка войсковых вещей за ночь успела исчезнуть. Только валялись, опутанные сбруей, вздернув копыта, дохлые кони, кое-где белели рубахи стрелков да халаты убитых турок. Ветер шелестел бумагами, заметал песком солдатские сухари и обрывки бинтов, с шуршанием катил под откос пустые расстрелянные гильзы.
– Чисто, – удивился Карабанов. – И удивительно тихо, даже не верится… А вот там я вижу что-то новое в этом чудесном пейзаже!
Клюгенау близоруко сощурился. Занавес ночи раздвинулся шире, и стали видны окрестные отроги, усеянные трупами воинов и лошадей; вдоль Ванской дороги ясно обозначилась свежая насыпь выкопанных за ночь траншей, из которых торчали два бунчука и пестрые значки сердаров. Где-то внизу, за майданом, уже пробуждался захваченный врагом город, и белая цапля по-прежнему мирно сидела на крыше караван-сарая.
– Что ж, – сказал Клюгенау, протирая очки грязным платком. – Мой дед любил говорить так: «Morgenstunde hat Gold im Munde…»[1]
– А что, вы думаете, будет дальше, барон? – спросил Карабанов и, морщась, поправил мешавшую повязку.
– Дальше? – улыбнулся прапорщик. – Пора бы знать, господин поручик: дальше, как всегда, будет день. Считайте, что ничего не изменилось…
К ним откуда-то подошел Сивицкий – лицо его, небритое, серо-землистого цвета, казалось разбухшим и отечным; голос врача срывался на низкое хрипение.
– Убирайте… – наказал он офицерам. – Убирайте сами и следите, чтобы убирали солдаты. Иначе – мор!
– Хорошо, – серьезно отозвался Клюгенау, – мы уже запомнили это… Не тревожьтесь, дорогой Александр Борисович!..
День начался с раздачи воды. Работы в гарнизоне прекратились, все направились во второй двор, где возле кадушки с водой стояли двое бессменных часовых. Но если ночью потребность в воде не была так ощутима (а некоторые, из числа солдат поскупее, сумели даже сохранить на донышках фляг один-два заветных глотка), то теперь, с наступлением нового знойного дня, жажда вдруг накинулась на всех, как страшное повальное бедствие.
Старый гренадер Хренов, волоча за собой длинноствольный турецкий самопал[2], решил подшутить над жаждой.
– Вы, – сказал он, – котята ишо, в дровах найденные. Стоите, дурни, а там вода так и сигает из крантика.
– Правда, дед? – наивно поверил канонир Постный.
– Бабка врала и та померла… Беги, немасленый. Да посуду-то захвати поширше.
У крана действительно стояли солдаты, еще не потерявшие веру в то, что вода не могла исчезнуть надолго, – воду, казалось им, еще можно вызвать, выжать, притянуть, приблизить ласковым словом.
– Ну, теки, теки к нам, миленькая, – говорил старый жалостливый повар. – Ну, сверкни хоша бы капелькой…
– Неужто все? – спросил Кирюха.
– Кажись, кончилась, – ответил суровый Потемкин и размашисто, с верой, перекрестился, как над покойником. – Пососи, малый: может, и вытянешь на глоток!
Канонир, припав губами к ободку крана, пососал ворчащую где-то в отдалении пустоту и, махнув рукой, снова побежал во второй двор…
Кадушка была сравнительно большая и наполнена водой до самого верху. Штоквиц сам распоряжался раздачей – так что беспорядка быть не могло, по второму разу подойти никто бы не осмелился. Очередь двигалась медленно, задние нетерпеливо подталкивали передних. Но каково же было удивление, когда солдат, выстояв на жаре свой срок, получал воды лишь столько, сколько вмещалось ее в патронную гильзу.
– Быдто бы мне? – неуверенно спросил Трехжонный. – Да у меня с потом более вышло, пока дожидался.
– Лакай и отходи, философ кобылячий… Кто следующий? Ты? Наклонись над бочкой.
Казаки со смехом встретили Трехжонного:
– Ну, каково, вахмистр? Отвел душу?
– Да потерся пузом у бочки, – сконфузился тот.
Когда же раздача воды была закончена, в кадушке воды осталось еще наполовину, и Штоквиц довольно заметил:
– Очень хорошо. Вечером еще разочек напьются.
Подскочил откуда-то сбоку денщик Исмаил-хана, весьма самоуверенный парень, и сунулся в кадушку полным стаканом. Стакан так и остался лежать на дне, а денщик полетел в угол от крепкого кулака коменданта. Штоквиц обладал способностью быстро звереть: он долго пинал солдата тяжелыми подкованными сапогами, потом, усталый, сказал:
– Передай своему хану, что офицеры баязетского гарнизона с сего дня приравнены в довольствии к нижним чинам. Если его сиятельство придет, то я и ему налью в гильзу, но не больше…
Ефрем Иванович засучил рукав мундира, долго шарил волосатой рукой по дну кадушки и вытащил утонувший стакан, доверху наполненный водой.
– Эй, Ожогин! – позвал он казака. – Вот этот стакан – держи да не разлей – отнесешь госпоже Хвощинской. Понял, байстрюк, кому нести надобно?
– Понял, – кивнул Дениска и торопливо, будто с опаской, облизнул губы.
«Вода!..»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пацевич пробудился в паршивом настроении. Всю ночь ему снилась какая-то белиберда: сначала вляпался в дерьмо (это хорошо – к наживе), а потом купался, глубоко ныряя, в грязной мути (это уже плохо – к беде).
– Господи, сохрани меня и помилуй, – испуганно сказал Адам Платонович и потряс графином; на дне было пусто.
Взяв сапог, полковник запустил им в дверь, и денщик, приученный отзываться сразу же, появился перед ним.
– Что? – спросил Пацевич. – И чихиря даже нету?
– Никак нет. Вчера последний допить изволили.
– Дурак! А чего сегодня-то пить будем? Говорил я тебе, балбесу, чтобы загодя сходил на майдан.
– Говорили, да страшно было, – честно признался денщик. – Эвон, – вспомнил он, – троих-то наших как!
– «Страшно»… На то и солдат ты, чтобы смерти не бояться. А мне вот из-за твоих страхов теперь и похмелиться нечем. Пошел вон, харя!..
Когда приблизился полдень, солдаты грызли черствые сухари. Обеда в этот день уже не готовили, и Штоквиц послал кашеваров для помощи санитарам в госпиталь. Турки же проснулись сегодня очень поздно, хотя муэдзины уже два раза сзывали правоверных к молитве. Над городом повисли дымки печей, привычно загалдел майдан, со стороны караван-сарая доносились звуки флейт и барабанов: курды уже заплясали вокруг костров свое дикое «чопи».
Стрельбы не было. Поначалу казаки и пробовали на выбор бить по редифам, подбегавшим к самым стенам крепости, но Ватнин потом отсоветовал.
– А бросьте вы их, ребята, – сказал есаул. – И так уши заложили за эти дни! Ну их к бесу, патроны только тратить… Ихнего брата столько наперло – из пушки не перебьешь…
Историкам неизвестно, чем пообедал Пацевич, но во втором часу дня он созвал к себе офицеров, и настроение у него было скверное. В помещении, которое занимал полковник, стоял закоснелый запах холостяцкой квартиры: аромат немытой посуды не мог победить кислого запаха нечистой одежды. Лицо у Пацевича было усталым, под глазами висли старческие мешки, склеротические вены на лбу надувались синей кровью, концы пальцев зябко дрожали.
«Алкоголизм плюс функциональное расстройство нервов», – машинально поставил диагноз Сивицкий и с трудом отыскал место, где бы можно было присесть.
Полковник принимал офицеров в помещении, которое он выбрал для своих занятий подалее от заднего – артиллерийского – двора. По стенам были намалеваны яркие безвкусные пейзажи, – среди цветного порфира арабесок эти грубые картины походили своей аляповатостью на украшения русских трактиров в глухой провинции.
– Господа, – начал Адам Платонович миролюбиво, – нам следует набраться мужества, чтобы до конца уяснить для себя всю тягостность нашего положения. Если я и могу бросить в кого-нибудь из нас камень, то этот первый камень полетит в мою сторону… К сожалению, я пошел на поводу заносчивой молодежи, и результаты нашей рекогносцировки вам всем хорошо известны. Теперь же, что я предлагаю (и надеюсь, – добавил он, – вы согласитесь со мной), надо поднять боевой дух гарнизона.
Он помолчал. Заметив дрожание рук, свел их вместе.
Потом, поманив пальцем Евдокимова, сказал:
– Вы, юноша, позавчера говорили дельно. О воде и о том, что бассейн надо было держать заранее наполненным. Но разве же кто из нас думал, что все так случится?
Клюгенау, осматривая купол потолка, пожал плечами.
– Что вы там жметесь, барон, как барышня? – недовольно заметил полковник. – Если вам не нравится моя искренность, то я вас не держу: можете идти.
Произошло неожиданное: Клюгенау четко повернулся, каблуком правой ноги лихо пристукнул о каблук левой и, отдав честь офицерам, удалился из комнаты.
– Ох уж эти мне поэты! – сокрушенно вздохнул Адам Платонович. – Как ему только не стыдно обижать меня, старика… Так вот, господа, – продолжил Пацевич после недолгого молчания, – на чем же я остановился?.. Ах да! Вспомнил: нам надобно поднять боевой дух гарнизона. Для этого я предлагаю (и мне кажется, что сие удостоится вашего согласия) повесить сегодня в крепости всех пленных. Штоквиц уже вешал людей и не откажется повесить еще раз!
Последнее было сказано в самом добродушном тоне: мол, выручите, голубчик! Ефрем Иванович медленно побагровел. Даже брови у него наполнились кровью, глаза сделались тяжелыми и заползали, не подымаясь выше пояса офицеров.
– На этот раз, господин полковник, – с натугой произнес он, – я охотно передоверяю эту честь вам.
– Но вы – комендант! – сказал Пацевич.
– Да. Но не палач, – отрубил Штоквиц.
– Позвольте! – вдруг заговорил Потресов, решительно шагнув вперед. – Кто сказал вам, что боевой дух баязетского гарнизона упал? Вы посмотрите на солдат: они еще никогда не были так воодушевлены, как вчера и сегодня. Устали – это верно, но их боевому духу можно позавидовать!
– Вы, майор, ничего не знаете, кроме своих пушек, – сразу обозлился Пацевич, встречая сопротивление от этого покорного человека, на котором, как ему всегда казалось, можно воду возить.
– Что ж, – слегка поклонился старый офицер, – тогда простите великодушно. Если уж я… я, майор Потресов, сорок лет отслуживший в русской армии, не знаю русского солдата, то кому же еще знать его!
– А потом, – мрачно, без тени улыбки, добавил Карабанов, – если уж говорить о духе, то мой дух не поднимется из-за того, что, проходя по двору, я буду задевать головой ноги висельников!
– А дух будет, – пообещал Ватнин. – Солнышко-то сейчас жаркое, мух да заразы много… Ох и крепкий же дух будет!
Сивицкий встал и не спеша направился к выходу.
– А вы куда, капитан? – спросил Пацевич.
– Пойду к солдатам, – ответил доктор. – Они, как это ни странно, умнее нас, офицеров. Стыдно, но что поделаешь?..
– Нельзя вешать пленных! – вдруг сорвался в крике капитан Штоквиц. – Все мы знаем, что есаул Ватнин за свою жизнь добрую сотню людей на тот свет отправил, но в бою открытом. В бою благородном и честном! Спросите его – тронул ли он пленного?
– Нет, – качнул головой Ватнин. – Такого со мной не бывало. Я все больше по благородству…
– И я, как старший врач гарнизона, – присовокупил Сивицкий с порога, – заявляю свой протест против подобных мер. Повешение пленных лишь деморализует солдатскую массу. Если же вам, Адам Платонович, хочется повесить кого-либо, то повесьте их вот здесь у себя. Вместо люстры!
Пацевич уже понял, очевидно, что ляпнул сгоряча что-то не совсем подходящее, но не знал, как выкрутиться из этой неловкости.
– Капитан Сивицкий, перестаньте грубить мне, иначе я прикажу арестовать вас.
– Эх, полковник! Арестованных-то сажают в крепость. И если это так, то я уже давно арестован. И со мною вместе сидят еще сотни людей, которые никак не могут уразуметь, за какие грехи тяжкие им достался такой… надзиратель.
– Вы мне поплатитесь за эти слова, доктор. Вот только дайте мне выбраться отсюда!
– А вы, полковник, сначала выберитесь…
Когда офицеры ушли, Пацевич долго сидел молча, потом стукнул кулаками об стол, решительно встал:
– К черту офицеров! Тоже мне, баре… Пойду к солдатикам!
Он шел по дворам цитадели, и встречные солдаты вставали перед ним навытяжку. Заметив одного вояку, который, опираясь на винтовку, ковылял в сторону госпиталя, Пацевич дружелюбно окликнул его:
– Куда ранен, служба?
– Да куда? Ясное дело – в ногу, ваше высокоблагородие.
– Когда же это?
– Да эвот сейчас и вдарило… Стою это я, за непорядками наблюдаю. Вдруг, откель ни возьмитесь, р-раз – и готово: пуля!
– Пуля?
– Ага… Добро бы хорошая была, а то ведь самоделок турецкий: вроде гвоздя, быдто на крючок попался!
– Ай-я-яй, – пособолезновал полковник. – Что же это ты так? Не повезло тебе, братец.
– Всем не повезло, ваше высокоблагородие, – не то сдуру, не то с умыслом ответил солдат и поковылял дальше.
Пацевич вернулся к себе, тяжко рухнул на продавленную постель.
– Не любят меня, – судорожно всхлипнув, сказал он в пустоту. – Не любят… никто не любит. А за что? Что я им плохого сделал?
И он громко, истерично расплакался.
2
Шепча ругательства, Штоквиц долго разбирал бренчащую связку ключей от шахского гарема, нанизанных на громадное кольцо. По ободу кольца были вчеканены изречения из Корана о низости и неверности женщин, которых необходимо поэтому держать под замком. Теперь в бывшем гареме Исхак-паши были заперты пленные, и Штоквиц, распахнув тяжелые двери, над которыми было написано: «Бу дженнет» (это – рай), прокричал в заплесневелую темноту:
– Эй, правоверные, выходи – работа есть!
Он вручил туркам и курдам старые гнутые лопаты, вывел пленных на середину двора, топнул ногой в твердую, растрескавшуюся от жары землю.
– Вот здесь и копайте, – велел он.
Пленные вдруг разом упали перед ним на колени, прося о пощаде. Хватая Штоквица за толстые ляжки, они волочились за ним по земле, цепляясь за полы кургузого сюртука. Комендант едва успевал отбиваться от них.
– Йох, йох, алай-бей! Аман верин, аман… сердар, барыш! – вопил о пощаде один высокий старец. – Сердар, барыш!
Клюгенау, появившись во дворе, вдруг резко выкрикнул что-то по-турецки, и пленные сразу присмирели, дружно разобрали свои лопаты.
– Так нельзя, господин комендант, – пояснил барон. – Ведь эти бедняги подумали, что вы заставляете их копать могилу. А вы, очевидно, решили рыть колодец. Так я вас понял?
– Ну конечно, барон. Надо ведь что-то придумывать с водою.
Пленные согласно вонзили лопаты в землю. Яму глубиной до колена они вырыли удивительно быстро, о чем-то возбужденно лопоча между собой.
– А все-таки, Ефрем Иванович, это напрасно, – заметил Клюгенау. – Цитадель стоит на самой вершине скалы – воды все равно не будет.
Штоквиц в задумчивости опустился на колени, надолго приник лицом к расщелинам запыленной решетки, всматривался в глубину подземелья. В полумраке шахских усыпальниц он увидел склоненные знамена, слабо мерцавшие штыки караула и согнутую женскую фигурку, припавшую к земле.
– Она… все еще там? – осторожно спросил Клюгенау.
– Да, – ответил Штоквиц, поднимаясь. – И не уходит со вчерашнего дня. Если бы в гарнизоне не было женщин – все, кажется, было бы проще.
– Хоронить надо, – заметил прапорщик. – Пора…
– Надо, – согласился Штоквиц, отряхивая колени. – Но она не дает хоронить его. Пусть лежит. Мертвые никогда и никому не мешают…
Лопаты в руках пленных с надсадным скрежетом ударились о твердый гранит. Дальше начиналась плотная подушка скалы, и комендант убедился, что рыть колодец – затея бесполезная.
– Участкин, – приказал он ефрейтору, – собери все лопаты и загони этих дармоедов обратно.
Солнце начинало палить. Клюгенау присел на камень, стянул с ноги сапог, стал осматривать рваную подошву. Вытирая обильный пот, бегущий с облысевшего черепа, к нему подсел комендант. Постучал себя по карманам, отыскивая папиросницу.
– Барон, – спросил капитан, закуривая. – Скажите мне – это правда, что вы барон?
Клюгенау ковырнул пальцем дырку на подошве.
– Можете свериться в богемских матрикулах, – ответил он, перематывая рыжую от пота портянку. – В окрестностях Иозефштадта еще лежат развалины нашего родового замка Клюки дер Клюгенау. А моего пращура, пришедшего в Россию еще при Елизавете, как видно, тревожила неслыханная карьера недоучки Остермана, ставшего российским канцлером. Любой немец, как говорил министр финансов Канкрин, всегда похож на капусту: чтобы из него получился толк, его надо пересадить на новую почву. Может, вы уже и заметили, что я неплохо здесь привился, хотя и не процветаю.
Клюгенау со стоном натянул сапог, спросил:
– А почему это вас так заинтересовало?
Штоквиц честно признался:
– Извините, но я недолюбливаю вас, барон.
– Я тоже не испытываю к вам нежности, – охотно откликнулся прапорщик. – Однако сейчас нам ни к чему выяснять силу страсти одного к другому. Мы потеряли вчера сразу двух людей, на которых держался весь гарнизон. Нам, конечно, уже не вернуть золотой головы Некрасова, но…
– Я вас понял, барон, – ответил Штоквиц, кладя руку на измятый погон инженера. – Бог обидел нас начальством, и отныне все зависит от нашей взаимности.
– Есть еще… Ватнин! – неожиданно сказал Клюгенау.
– Вы думаете, что именно он?
– Но, – намекнул прапорщик, – не вы же!
– Да, не я. – И, прикусив губу, Штоквиц тяжело задумался.
Клюгенау вдруг заливисто рассмеялся.
– О чем вы? – удивился комендант.
– Мы совсем забыли о нашем достопочтенном подполковнике Исмаил-хане, а ведь его звание… Если случится что-либо с Пацевичем… Я, конечно, не желаю ему плохого, но вы же сами понимаете, что тогда будет!
– Ну, вот ему! – злобно сказал Штоквиц и сделал кукиш. – Уж тогда действительно пусть лучше сотник.
На этом они и расстались. Что-то осталось недоговоренным, но Клюгенау отметил про себя затаенную тревогу Штоквица: капитан неспроста завел этот разговор. Его шкура, как следует продубленная в страховании карьеры, уже, видать, почуяла что-то неладное. «Во всяком случае, – спокойно рассудил Клюгенау, – Штоквиц не рискнет взять на себя командование гарнизоном и наверняка пожелает остаться лишь комендантом…»
Тем временем Пацевич как бы ненароком заглянул в обвешанную саджатами клетушку Исмаил-хана, который в этот момент брил волосатые ноги.
– Пардон, хан, что застал вас во время туалета, – извинился Пацевич, кладя на стол выгоревшую на солнце фуражку. – Про вас говорят, – подлизнулся он, – что вы желаете быть причисленным к свите его величества?
– В конвой его величества, – поправил хан.
– Ну, это все равно. Я могу посодействовать!
Пацевич оглядел пыльную бахрому саджатов, валявшихся на полу, и, внезапно побледнев и заострившись лицом, спросил отрывистым шепотом:
– Ангелика… есть?
– Нету! – отрезал Исмаил-хан, и Адам Платонович, словно в ужасе, даже отшатнулся к стене. – Ангелики нету, а чихирь есть, – бодро закончил хан, и лицо Пацевича снова приобрело живую окраску.
– Ух, батенька! – сказал он, потирая ладонью жирную шею. – Разве ж можно так пугать человека?
Первый стакан он выхлебал большими глотками. Темный, как деготь, чихирь двумя струйками бежал из углов его рта по мясистому подбородку.
– Эк, хорошо! – крякнул он, и бестрепетная рука Исмаил-хана снова наполнила стакан. – Очень даже хорошо, – повторил Пацевич, – просто гениальный был человек, кто чихирь этот выдумал!
Взять с собою бутылку вина Пацевич, однако, отказался.
– Лучше уж я забегу вечерком да еще выпью. А то, не дай бог, солдатики подумают, что я водичку тащу… И без того благодарю вас, сиятельный хан. И не сомневайтесь: при ваших достоинствах вы несомненно будете в свите его величества.
– В конвое, – снова поправил его Исмаил-хан.
– Ну, это безразлично. – Адам Платонович вышел во двор, где встретил Евдокимова. – Эх, юноша! Вы случайно не видели Хаджи-Джамал-бека?
– Нет, господин полковник, сегодня не видел. Очевидно, он уже выбрался из крепости в город.
Шалая пуля, секанув по стене здания, вдребезги разнесла разноцветный узор стекол над самой головой Пацевича, и полковник обеспокоенно сказал:
– У, черт! Никак в меня с майдана прицелились?
Тут внимание Пацевича привлек появившийся во дворе священник. Отец Герасим рясу еще вчера скинул – натянул взамен рубаху солдатскую. Сапоги для легкости тоже снял – босиком-то он прытким был. В таком-то вот виде, придерживая на груди распятие, он и попался на глаза Адаму Платоновичу.
– А-а, божий человек, – словно обрадовался Пацевич, – ты что же это, духом святым вчера от батальона отстал?
Отец Герасим остановился, по-мужицки умное лицо его, корявое и широкое, было исполнено какого-то внутреннего достоинства и даже гордости.
– Не духом святым, господин полковник, – спокойно ответил он. – А уж если правду сказать, так ногами спасался. И с собою еще человек пяток из гибели вывел. А за батальон я не в ответе.
– Ну, ладно, ладно. Иди, святоша.
– А вот и не пойду! – вдруг заартачился отец Герасим. – Вот сяду здесь и буду сидеть. Пущай турки по мне патроны свои переводят.
– Ты глуп, батька, – обозлился Пацевич.
– Да уж чья бы корова мычала, а твоя бы лучше молчала!
Майор Потресов, издали наблюдавший за этой сценой, вот-вот грозившей обернуться в брань или, того лучше, в кулачную потасовку, подошел к священнику и, толкая его в спину, заставил уйти со двора:
– Идите, отец Герасим, с миром. Нехорошо эдак-то получается! Тут и без ваших скандалов тошно… Идите своей дорогой!
Священник послушался артиллериста и, не возражая больше, спустился в подземелье усыпальницы.
– Мается? – шепотком спросил он у часовых.
Те кивнули в ответ:
– Молчит баба. Быдто закаменела…
В подземелье Баязета, раскинутая на каменных плитах, высилась палатка полковой канцелярии, изнутри которой сочился слабый рассеянный свет, и возле нее застыли в карауле солдаты-хоперцы. Отец Герасим, неслышно ступая босыми пятками по влажному полу, подошел ближе, заглянул:
– Успокоился, сердешный…
Хвощинский лежал на солдатской шинели, под затылок ему был подсунут туго набитый ранец. В жилистых руках мертвеца, оплывая воском на бледные пальцы, теплилась тоненькая свечечка. Хвощинская сидела перед телом покойного, стянув на своей груди сжатые в руках концы старенькой шали.
Она не плакала.
– А ты и пореви, – посоветовал отец Герасим. – Дело-то ведь житейское…
Решительно взяв женщину за плечи, священник поднял Аглаю, сказал добродушно:
– Да ступай-ка ты отседова. Не век же сидеть…
Добрый мужик провел ее в киоск, где на столе стоял стакан с водой, принесенный Дениской Ожогиным.
– На-ка вот, попей лучше…
Аглая жадно выпила воду, подошла к тахте и ничком зарылась лицом в подушки.
– Что мне? – сказала она. – Зачем мне теперь?..
Плечи у нее вдруг дрогнули.
– Ну, вот, – сказал отец Герасим успокоенно, – ты, девонька, поплачь. Это не беда, слеза боль-то оттянет…
Посидев немного и повздыхав, священник вскоре ушел. Аглая кликнула денщика.
– Принеси умыться, – велела она.
Солдат посмотрел на нее сумасшедшими глазами.
– А-а-а, теперь понимаю, – догадалась Хвощинская. – Ну что ж. Тогда позови ко мне барона Клюгенау. Или – нет, нет, постой; позови поручика Карабанова. Скажи, что прошу его зайти.
Андрей скоро пришел, серый от пыли, постаревший за эти дни. Глаза его слезились от усталости.
– Вот, – сказал он и протянул письмо.
Аглая положила конверт на стол нетронутым.
– Ты, конечно, прочел его?
– Нет.
– А если правду?
– Да…
– Тогда иди, – разрешила она.
Карабанов остался.
– Я не умею утешать. Однако…
– Он был лучше тебя, – вздохнула Аглая.
– Не забывай, что он был лучше и тебя тоже.
– Об этом можно только помнить…
Андрей в смущении потеребил темляк шашки:
– Скажи: за что ты меня сейчас ненавидишь?