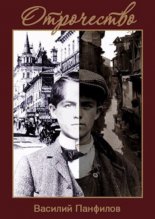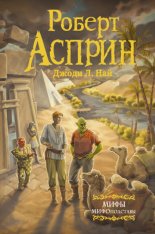Пыль грез. Том 1 Эриксон Стивен

Бурругаст
Гедоран
Гатрас
Санад
К’чейн Че’малли
Матрона Гунт’ан Асиль
Бре’ниган, Стражник Дж’ан
Саг’Чурок, Охотник К’елль
Гунт Мах, Единственная дочь
Кор Туран, Охотник К’елль
Риток, Охотник К’елль
Гу’Рулл, Убийца Ши’гал
Сулкит
Дестриант Калит (Из эланов)
Другие
Силкас Руин
Руд Элаль
Телораст
Кердла
Странник (Эстранн)
Кастет (Сечул Лат)
Кильмандарос
Покой
Маэль
Олар Этил
Удинаас
Икарий, Похититель Жизни
Драконус
Риадд Элейс
Худ
Шеб
Таксилиец
Вид
Асана
Бриз
Ласт
Наппет
Раутос
Сандалат Друкорлат
Вифал
Мейп
Ринд
Пьюл
Кривой
Таракан
Картограф
Маппо Рант
Остряк
Амба
Фейнт
Наперсточек
Пролог
Равнина Элан, к западу от Коланса
Вначале был свет, потом стало жарко.
Он встал на колени и аккуратно проверил все складочки и подвороты, чтобы на малышку не попадало солнце. Надвинул капюшон, оставив лишь отверстие с кулачок, через которое маленькое личико виднелось серыми пятнами; и нежно поднял ребенка, уложив на сгиб левого локтя. Ничего сложного.
Они ночевали недалеко от единственного на всю округу дерева – но не прямо под ним. Дерево было гамлой, а гамла гневается на людей. Накануне вечером ветки густо покрывала серая листва – пока они не подошли ближе. Нынче утром ветви были голы.
Рутт стоял лицом на запад, держа на руках девочку, которую называл Ноша. Трава вокруг выцвела. Местами ее выдрал сухой ветер – тот ветер, который сдувал почву вокруг корней, обнажая бледные луковицы; растения сохли и умирали. Под сухой землей и луковицами открывался гравий – или черная порода. Равнина Элан теряет волосы – так сказала бы Бадаль, чьи зеленые глаза наблюдали за словами в голове. Безусловно, у нее есть дар; но Рутт знал, что порой дар – замаскированное проклятие.
Бадаль подошла к нему; загорелые руки были тонкие, как шея аиста, ладони покрылись коркой пыли и смотрелись громадными рядом с тощими бедрами. Она сдула мух, облепивших ее губы, и заговорила:
- – Вот Рутт, он держит Ношу,
- Аккуратно завернутую,
- Рано утром,
- И встает…
– Бадаль… – Он знал, что стих еще не закончен, но знал и то, что она торопиться не будет. – Мы еще живы.
Она кивнула.
Эти его слова превратились у них в своеобразный ритуал, хотя и продолжали нести налет удивления, недоверия. Прошлой ночью костогрызы особо лютовали, зато, похоже, беглецам наконец удалось оторваться от Отцов.
Рутт поудобнее устроил на руке малышку, которую называл Ноша, и двинулся в путь, ковыляя на распухших ногах. На запад, в сердце равнины Элан.
Он даже не оглядывался проверить, идут ли следом остальные. Кто может, идет. За остальными явятся костогрызы. Рутт не вызывался идти первым в Змейке. Он вообще никуда не вызывался, просто был самым высоким и, пожалуй, самым старшим – наверное, тринадцать, а то и четырнадцать.
За его спиной Бадаль продолжала:
- – …И отправляется в путь
- Сегодня утром
- С Ношей на руках
- И тощим хвостом,
- Который змеится следом,
- Как язык солнца.
- Нужен длинный язык,
- Чтобы найти воду,
- Как ищет солнце…
Бадаль смотрела, как идет вперед Рутт, как тянутся следом остальные. Сейчас она и сама присоединится к костлявой змейке. Бадаль вновь сдула мух, но они, конечно, тут же вернулись, облепив раздутые губы и пытаясь впиться в уголки глаз. Когда-то Бадаль была красоткой: зеленые глаза и длинные золотистые косы. Однако красота больше не вызывала улыбок. Когда пустеют закрома, уходит красота.
– Эти мухи, – прошептала она, – плетут узоры страдания. А страдания отвратительны.
Бадаль смотрела на Рутта. Он – голова змейки. Он и клыки тоже – но эту шутку Бадаль держит для себя одной.
Она и другие дети пришли с юга, от развалин домов в Корбансе, Крозисе и Канросе. И даже с островов Отпеласа. Некоторые, как она сама, шли вдоль берега Пеласийского моря и дальше по западному краю Стета – когда-то в бескрайнем лесу они нашли деревянную дорогу, которую иногда называли Просечной дорогой; деревья нарезались кругляшами, которые укладывались ряд за рядом. Другие дети пришли из самого Стета – они двигались по старым руслам, петляющим среди бурелома и больных кустов. Очевидно, Стет действительно был когда-то настоящим лесом и не зря назывался Лес Стет, но Бадаль все равно сомневалась: сама она видела только безжизненную пустошь. Дорогу они называли Просечной, а иногда – ради смеха – Лесной дорогой; это тоже стало шуткой для своих.
Разумеется, чтобы замостить дорогу, требовалась уйма деревьев, так что, может, лес и вправду там был. Просто от него ничего не осталось.
На северном краю Стета, обращенном к равнине Элан, они встретили другую колонну детей, а через день к ним присоединилась еще одна, с севера, из самого Коланса; во главе этой колонны и шел Рутт. И нес Ношу. Высокий, дряблая кожа на острых плечах, локтях, коленях и лодыжках обвисла. Его большие глаза сияли. Все зубы были целы; и каждое утро он оказывался во главе. Остальные тянулись за ним.
Все верили, что он знает, куда идет, хотя его самого не спрашивали: ведь вера важнее правды; а правда заключалась в том, что он так же потерян, как и все остальные.
- – Весь день он несет Ношу
- И заслоняет ее,
- Укутанную,
- Своей тенью.
- Трудно
- Не любить Рутта,
- Но Ноша не любит,
- И никто не любит Ношу,
- Кроме Рутта.
* * *
Висто явился из Окана. Когда оглоеды и бледнокожие инквизиторы вошли в город, мать велела ему бежать, рука в руке с сестрой – на два года старше его; они бежали по улицам, среди горящих зданий и наполняющих ночной воздух криков. Оглоеды вламывались в двери, выволакивали людей на улицу и творили ужасные вещи, а бледнокожие наблюдали и говорили, что так и надо, что все правильно.
Сестру вырвали из его руки, и ее крик навсегда поселился в голове Висто. С тех пор каждую ночь он бежал по этой дороге – от момента, как проваливался в сон от утомления, до того, как просыпался с бледным лицом.
Он бежал, казалось, целую вечность – на запад, прочь от оглоедов. Ел что придется, безумно страдал от жажды, а когда оторвался от оглоедов, появились костогрызы – громадные стаи красноглазых собак, которым был неведом страх. А потом – Отцы, закутанные в черное; они нападали на жалкие лагеря у дороги и похищали детей; а однажды Висто и некоторые другие, вернувшись на место предыдущей ночевки, своими глазами видели расщепленные косточки, посиневшие и почерневшие в остывших углях очага, и поняли, как поступают Отцы с похищенными детьми.
Висто помнил, как впервые увидел Лес Стет – ряд обнаженных холмов, покрытых пнями; корни напоминали о могильниках вокруг его родного города, оставшихся после того, как забили последний домашний скот. И, глядя на бывший лес, Висто осознал, что весь мир мертв. Не осталось ничего; некуда больше идти.
И все же он шел вперед, один из десятков тысяч – или больше – детей, растянувшихся по дороге на многие лиги, а на месте тех, кто умирал за день, появлялись другие. Он и не представлял, что в мире существует столько детей. Они шли громадным стадом – единственным источником пищи для последних отчаянных охотников.
Висто было четырнадцать. Он еще не начал взрослеть – и уже не начнет. Круглый живот выдавался вперед, так что позвоночник круто изгибался в пояснице. Он ходил, как беременная женщина, расставляя ноги; кости болели. Висто был набит наездниками Сатра – червями, которые без устали копошились у него в теле и день ото дня росли. И когда будут готовы – очень скоро, – они полезут из него. Из ноздрей, из уголков глаз, из ушей, из пупка, пениса и ануса. Те, кто окажется поблизости, увидят, что он словно сдувается: кожа сморщивается и покрывается длинными складками вдоль всего тела. Он внезапно превратится в старика. И умрет.
Висто ждал этого почти с нетерпением. Он надеялся, что костогрызы сожрут его тело, заглотят оставшиеся яйца наездников Сатра и сами подохнут. А еще лучше – если его съедят Отцы; но он понимал, что они не такие тупицы и не притронутся к нему. А жаль.
Змейка покидала Лес Стет; мощенная деревом дорога сменилась торговым трактом – разбитым проселком, ведущим на равнину Элан. Значит, Висто умрет на равнине, и его дух, покинув сморщенные останки – бывшее тело, – отправится в долгое путешествие домой. Искать сестру. Искать маму.
А дух и без того уже устал, ужасно устал от странствий.
К закату Бадаль заставила себя забраться на древний эланский курган с деревом – серые листья затрепетали, – и, обернувшись, взглянула на восток, на пройденную сегодня часть нескончаемого пути. За раскинувшимся лагерем она видела волнистую линию тел, уходящую до горизонта. Сегодня выдался особенно тяжелый день: очень жаркий, очень сухой. Вода попалась лишь раз – грязное, кишащее паразитами болотце с гниющими трупиками насекомых – и на вкус напоминала дохлую рыбу.
Бадаль долго стояла, глядя на костлявую длинную Змейку. Тех, кто падал, не оттаскивали в сторону, а просто шли по ним или обходили; и путь стал дорогой плоти и костей. Костлявая Змейка. Чал Манагал – на языке эланов.
Она дунула, отгоняя облепивших ее губы мух.
И прочитала еще один стих:
- – Сегодня утром
- Мы видели дерево
- С серыми листьями
- Мы подошли ближе
- И листья упорхнули прочь.
- В полдень какой-то мальчик
- С проеденным носом
- Упал и не шевелился
- И листья вернулись
- На пир.
- К закату на другое дерево
- Уселись ночевать
- Трепещущие серые листья
- Настало утро
- И они снова улетели.
Ампелас Укорененный, Пустошь
Машины были покрыты маслянистой пылью, которая поблескивала, когда по ней скользил слабый свет лампы. Калит тяжело дышала, спеша по узкому коридору, то и дело уклоняясь от свисающих с потолка черных узловатых шлангов. Нос и горло саднило от металлического привкуса спертого, неподвижного воздуха. Посреди разверстого чрева Корня она чувствовала себя словно в осаде неведомых, безграничных сплетений ужасных тайн. И все же эти неосвещенные, заброшенные коридоры стали ее любимым прибежищем – она прекрасно понимала, что ее выбор продиктован многочисленными самообвинениями.
Корень звал потерянных, а Калит в самом деле была потеряна. Не в бесчисленных извилистых коридорах, не в громадных залах тихих, застывших машин, среди дыр в полу, не прикрытых плитами, среди хаоса металла и шлангов, торчащих из не закрытых панелями стен – нет, за месяцы блужданий она нашла безопасный путь. Все дело в беспомощном, безнадежном замешательстве, охватившем ее дух. Калит – не та, кем ее хотят видеть, и переубедить кого-либо невозможно.
Она родилась в племени на равнине Элан. Там выросла – из ребенка в девушку, из девушки в женщину – и ничем не выделялась, не обладая никаким даром или неожиданным талантом. Замуж вышла совсем юной, через месяц после первой крови. Родила трех детей. Она почти любила мужа и мирилась с его легким разочарованием, когда красота юности сменилась усталостью материнства. И жила, честно сказать, той же жизнью, что прожила ее мать, вполне представляя – без всякого ясновидения – все, что ждет впереди: медленное увядание тела, потерю гибкости, все более глубокие морщины на лице, обвисшие груди и беспощадно слабый мочевой пузырь. Однажды она не сможет ходить, и племя бросит ее умирать в одиночестве, ведь все умирают в одиночестве, так было всегда. Эланы понимают больше, чем оседлые народы Коланса с их могилами и погребальными дарами, со слугами и советниками, которым перерезают горло и укладывают в проходе к склепу – слугами за пределом жизни, слугами в вечности.
Все равно каждый умирает в одиночестве. Простая истина, ее не следует бояться. Духи, прежде чем вынести приговор, ждут, что человек – в одиночестве умирания – сам вынесет приговор себе, прожитой жизни; и если обретет покой, то и духи явят милосердие. Если же бешеной кобылой брыкается больная совесть, духи знают, что делать. Наедине с собой душа не может лгать.
Это жизнь. Совсем не идеальная, немного несчастливая. Из нее можно слепить какое-то подобие достойной жизни, даже если выйдет нечто бесформенное и бессмысленное.
Калит не была ведьмой. У нее не было духа шамана, так что ей не стать наездницей Крапчатого Скакуна. И когда пришел конец ее жизни и жизни ее народа – в то утро ужаса и насилия, – у нее остался только позорный эгоизм: не хотелось умирать, хотелось сбежать от всего.
Это никак не сочтешь достоинством.
Достоинств у нее не было.
Дойдя до центральной спиральной лестницы – со ступеньками слишком низкими, слишком широкими для человеческих ступней, – она начала подъем, дыша все громче, поднимаясь этаж за этажом, прочь от Корня, к нижним палатам Питальни, где воспользовалась подъемной платформой, вознесшей ее по вертикальной шахте мимо бурлящих чанов с грибами, мимо загончиков, набитых ортенами и гришолами, и остановившейся на нижнем уровне Утробы. Здесь Калит накрыла какофония молодняка: шипение и крики боли во время ужасных операций – ведь горькая судьба предопределена; и, немного отдышавшись, она поспешила дальше по этажам ужасного шума, вони отходов и паники, блестящей, как масло, на шкурах извивающихся со всех сторон фигур – фигур, на которые она избегала смотреть, зажав ладонями уши.
От Утробы к Сердцу, где пришлось идти мимо громадных стражников, не обращавших на нее никакого внимания; если зазеваться, они могли просто ненароком раздавить ее. Воины Ве’гат, стоявшие по бокам главной платформы, были вдвое выше ее, а их таинственная броня напоминала о громадных машинах Корня далеко внизу. Из-под богато украшенных решетчатых забрал виднелись только клыкастые пасти, изогнутые в жуткой ухмылке, как будто их чрезвычайно радовало их главное предназначение. Даже больше, чем охотники К’елль или стражники Дж’ан, настоящие воины к’чейн че’маллей пугали Калит до глубины души. Матрона рожала их в огромных количествах.
Следовательно, близится война.
А то, что каждый воин Ве’гат доставляет Матроне ужасную боль, появляясь на свет в потоке крови и вонючей слизи, неважно. Необходимость, как давно усвоила Калит – самый жестокий хозяин.
Ни один воин не остановил ее, когда Калит прошла по платформе; через дыры для когтей в каменном полу струился, обдувая Калит, холодный воздух – прохлада на платформе, видимо, должна была остудить природный страх к’чейн перед появлением платформы, поднимающейся со скрипом и визгом через этажи Сердца к Глазам, Внутренней крепости, Гнезду Асиль и жилищу самой Матроны. Впрочем, Калит поднималась одна, и механизмы работали без особого шума: слышался только свист ветра, который постоянно создавал иллюзию падения, даже когда платформа двигалась вверх; и пот на руках и лбу быстро остывал. Калит уже дрожала, когда платформа притормозила и остановилась на нижнем уровне Глаз.
Стражники Дж’ан стояли у подножия спиральной лестницы, ведущей в Гнездо. Как и воины Ве’гат, они не обращали на Калит внимания – наверняка знали, что она идет по вызову; а даже если и нет, то не видели в ней никакой угрозы для Матроны, которую рождены охранять. Калит была не просто безобидна; она была бесполезна.
Горячий вонючий воздух окутал ее липким плащом, когда она с трудом начала подниматься по ступенькам к владениям Матроны.
На площадке стоял на часах последний стражник. Проживший не менее тысячи лет, Бре’ниган, тощий и высокий – даже выше воинов Ве’гат, покрытый многослойной чешуей в серебристой патине, был похож на привидение в выбеленной солнцем слюде. В разрезах глаз невозможно было разглядеть ни зрачков, ни радужек, а только мутную желтизну и катаркты. Калит подозревала, что стражник слеп; впрочем, двигался Бре’ниган с идеальной точностью и даже с гибким изяществом. Длинный, чуть искривленный меч в медном кольце на бедре стражника – а кольцо наполовину было погружено в кожу – был длиной с саму Калит; клинок казался керамическим, пурпурного оттенка, и только безупречное лезвие отливало серебром.
Калит приветствовала Бре’нигана кивком и, не дождавшись никакой реакции, прошла мимо.
Она надеялась… да нет, молилась; и, подняв взгляд на к’чейн че’маллей, стоящих перед Матроной, увидела, что их только двое, и совсем упала духом. Ее чуть не захлестнуло отчаяние. С трудом удалось унять дыхание в сжавшейся груди.
За че’маллями, огромная на своем помосте, Матрона Гунт’ан Асиль волнами излучала страдание – в этом она ничуть не изменилась, но сейчас Калит ощущала исходящую от громадной королевы какую-то скрытую горечь…
Лишь теперь раздерганная, расстроенная Калит обратила внимание на состояние двух к’чейн че’маллей: на серьезные, полузалеченные раны, на беспорядочную сеть шрамов на боках, шеях и бедрах. Оба выглядели голодными, измученными до крайности, и их боль отозвалась в сердце Калит.
Однако сочувствие длилось недолго. Правда ясна: охотник К’елль Саг’Чурок и Единственная дочь Гунт Мах не справились.
Голос Матроны зазвучал в голове Калит; не речь, а набор непререкаемых указаний и смыслов.
«Дестриант Калит, выбор был ошибочен. Мы разбиты. Я разбита. Ты не можешь исправить, в одиночку не можешь исправить».
Указания и смыслы не сулили добра Калит. Ведь она ощущала за словами сумасшествие Гунт’ан Асиль. Матрона, без сомнений, безумна. Как безумны и поступки, которые она навязывает своим детям и самой Калит. Спорить бесполезно.
Возможно, Гунт’ан Асиль и знала о мнении Калит – о ее убежденности, что Матрона безумна, – но это неважно. Внутри древней королевы не было ничего, кроме боли и пытки отчаянной нужды.
«Дестриант Калит, они должны попробовать снова. Сломанное нужно исправить».
Калит не верилось, что Саг’Чурок и Единственная дочь переживут еще одно испытание.
«Дестриант Калит, ты будешь участвовать в поиске. К’чейн че’малли не смогут распознать».
Наконец, настало то, к чему, как понимала Калит, все шло, несмотря на ее надежды и молитвы.
– Я не могу, – прошептала она.
«Сделаешь. Стражники выбраны. Охотники К’елль Саг’Чурок, Риток, Кор Туран. Убийца Ши’гал Гу’Рулл. Единственная дочь Гунт Мах».
– Не могу, – повторила Калит. – У меня нет… талантов. Я не Дестриант – я не понимаю ничего в том, что нужно Дестрианту. Я не смогу найти Смертного меча, Матрона. И Кованого щита. Прости.
Громадная рептилия шевельнулась; как будто булыжники прокатились по гравию.
«Я выбрала тебя, Дестриант Калит. Мои дети слепы. Это их вина и моя. Мы проиграли все войны. Я последняя Матрона. Враг ищет меня. Враг уничтожит меня. Твой вид процветает в мире – это даже мои дети понимают. Среди вас я найду новых поборников. Мой Дестриант найдет. Мой Дестриант отправляется на рассвете».
Калит промолчала: любой ответ бесполезен. Она поклонилась и пошла, пошатываясь, словно пьяная, прочь из Гнезда.
С ними отправляется убийца Ши’гал. Смысл понятен. Новой неудачи быть не должно. Потерпеть неудачу – расстроить Матрону. Услышать приговор. Три охотника К’елль, Единственная дочь и сама Калит. Если они не справятся… Смертельная ярость убийцы Ши’гал не даст им прожить долго.
Калит знала: придет рассвет, и она отправится в последний поход.
На Пустошь, искать поборников, которых не существует.
И она поняла, что это – наказание для ее души. Она пострадает за свою трусость. Нужно было умереть с остальными. С мужем. С детьми. Не надо было убегать. Теперь придется расплачиваться за эгоизм.
Одно утешает: когда придет возмездие, оно будет быстрым. Она не почувствует, не увидит смертельного удара убийцы Ши’гал.
Матрона никогда не рожала больше трех убийц сразу. Над ними тяготело проклятие: они не могли прийти к согласию. Реши один из них, что Матрону следует уничтожить, двое других, просто по своей природе, воспрепятствуют ему. Так что каждый Ши’гал охранял Матрону от двух других. И отправлять одного из них в поиск было очень рискованно, ведь теперь охранять Матрону будут только двое.
И это лишнее доказательство безумия Матроны. Подвергать себя такой опасности, удаляя при этом Единственную дочь – а только она способна принести потомство, – противоречило всякому здравому смыслу.
Но это значит, что Калит отправляется навстречу собственной смерти. И что ей за дело до этих жутких созданий? Пусть начинается война. Пусть таинственный враг обрушится на Ампелас Укорененный, и на все прочие укорененные города, и вырежет всех к’чейн че’маллей до последнего. Мир не будет по ним скучать.
Кроме того, о вымирании она знала все. Единственное настоящее проклятие – остаться последним из своего рода. Да, ей была понятна такая участь и известна настоящая глубина одиночества – не той жалкой, мелкой, исполненной жалости к себе пародии, которую повсюду демонстрируют люди, а жестокое понимание абсолютного одиночества без возможности все исправить, без надежды на спасение.
Да, каждый умирает в одиночестве. И бывает печаль. Бывают сожаления. Но все это ничто рядом с тем, когда приходит конец роду. Тогда неизбежна правда поражения. Полного, сокрушительного. Это поражение наваливается со всех сторон на последние плечи грузом, который не способна выдержать ни единая душа.
Остатки дара – язык к’чейн че’маллей – мучили Калит. Ее разуму открылось гораздо больше, чем когда-либо в жизни. Знание не было благословением; понимание являлось болезнью, подтачивавшей ее дух. Даже если бы она выколола себе глаза, она видела бы слишком много.
Ощущали шаманы ее племени такую же сокрушающую вину, когда пришло понимание конца? Она вспоминала мрак в их глазах и понимала его, как никогда прежде. Нет, она могла только проклинать смертельное благословение этих к’чейн че’маллей. Проклинать яростно, от всего сердца.
Калит начала спуск. Ей не хватало близости Корня; не хватало дряхлых машин со всех сторон, капель густого масла и спертого, душного воздуха. Мир рушится. Она – последняя из эланов; и у нее осталась одна задача: увидеть уничтожение последней Матроны к’чейн че’маллей. Даст ли это удовлетворение? Если да, то удовлетворение будет неправедное, хоть и все равно соблазнительное.
Для ее племени смерть являлась крылатая, на фоне заходящего солнца, черным разодранным знамением в низком небе. И она сама станет таким ужасным видением, осколком убитой луны. Павшим, как и все, на землю.
Это правда.
Посмотрите на мрак в моих глазах.
Убийца Ши’гал Гу’Рулл стоял на краю Лба, и ветер со свистом обдувал его высокую, тонкую фигуру. Старший среди убийц Ши’гал, за время службы Гнезду Асиль он сражался с семьюдесятью одним Ши’галом и всех победил. Он прожил шестьдесят один век и был вдвое выше взрослого охотника К’елль; ведь в отличие от охотников, которым на роду была написана внезапная смерть по истечении десяти веков, в убийц Ши’гал не был заложен такой порок. Они могли бы в принципе пережить и саму Матрону.
Взращенный для интриг, Гу’Рулл не питал иллюзий в отношении здравого ума Матроны. Ее нелепые представления о божественных структурах веры плохо подходили и ей, и всем к’чейн че’маллям. Матрона искала почитателей и прислужников среди людей, но люди слишком хрупки, слишком слабы, чтобы представлять какую-либо ценность. Женщина Калит – живое тому доказательство, несмотря на дар восприятия, полученный от Гнезда Асиль, дар, который должен был придать уверенность и силу, но превратился в слабом умишке в новый инструмент самообвинения и жалости к себе.
Это восприятие ослабеет за время поиска, ведь быстрая кровь Калит уже сейчас ослабляет дар Асиль, а пополнять его она не может. Дестриант вернется к своему природному уму – весьма скудному по любым меркам. Она и так уже бесполезна, по мнению Гу’Рулла. И в этом бессмысленном походе она станет обузой, лишним грузом.
Лучше убить ее как можно скорее, но, увы, распоряжения Матери Асиль не давали развернуться. Дестрианту надлежит выбрать Смертного меча и Кованого щита из своих сородичей.
Саг’Чурок подробно поведал о первом неудачном выборе. Сплошным недоразумением оказался первый избранный: Красная Маска из оул’данов. И Гу’Рулл не верил, что Дестриант справится лучше. Люди, может, и процветают в своем мире, но просто потому, что плодятся, как дикие ортены. Других талантов у них нет.
Убийца Ши’гал поднял плоскую морду и распахнул узкие ноздри, внюхиваясь в прохладный ночной воздух. Ветер с востока, как всегда, нес запах смерти.
Гу’Рулл заглядывал в печальные воспоминания Дестрианта и потому знал, что искать спасения на востоке, на равнине под названием Элан, бесполезно. Саг’Чурок и Гунт Мах отправлялись на запад, в Оул’дан, и там также потерпели неудачу. На севере – запретное, безжизненное царство льда, суровые моря и жгучий холод.
Значит, идти нужно на юг.
Убийца Ши’гал не осмеливался покидать Ампелас Укорененный восемь веков. За такой короткий промежуток времени вряд ли что-то могло сильно измениться в землях, которые люди называли Пустошь. Тем не менее предварительная разведка имеет смысл.
С этой мыслью Гу’Рулл расправил месячной давности крылья, растопырив перьевые чешуйки, наполнившиеся ветром.
Затем убийца нырнул с края Лба, крылья развернулись на всю длину, и зазвучала песня полета – тихий, стонущий свист, музыка свободы для убийцы Ши’гал.
Покинуть Ампелас Укорененный… слишком давно Гу’Рулл не ощущал такого… такого веселья.
Под челюстью впервые открылась пара новых глаз, и новое видение – неба над головой и земли внизу – на мгновение смутило убийцу, но вскоре Гу’Рулл смог разобраться, и две панорамы слились в громадный вид мира вокруг.
Новая особенность Асиль была действительно блестящей. Присуща ли такая изобретательность безумию? Возможно.
Породила ли такая возможность надежду в Гу’Рулле? Нет. Надежды быть не может.
Убийца парил в ночи, высоко над разрушенным, почти безжизненным пейзажем. Как осколок убитой луны.
Пустошь
Он был не один. Да и не помнил, чтобы когда-нибудь был один. Такое просто невозможно – он и сам это понимал. Судя по всему, он бестелесен и способен странным образом перемещаться от одного попутчика к другому почти по своей воле. И если они умрут или найдут способ избавиться от него, похоже, он исчезнет. А ему так хотелось остаться живым и парить в эйфорическом изумлении этих попутчиков, странной разрозненной семьи.
Они пересекали дикую пустыню – постоянно встречались равнодушные сломанные скалы, нанесенные ветром дюны серого песка и осыпи вулканического стекла. Вокруг – только беспорядочные холмы и хребты, и ни деревца до самого изломанного горизонта. Солнце над головой мутным глазом пробивалось сквозь жидкие тучи. Горячий воздух обдувал непрестанным ветром.
Единственным пропитанием для путников служили стайки покрытых чешуей грызунов – их мясо на вкус напоминало пыль – и множество ризанов, у которых мешки под крыльями были наполнены молочной водой. Днем и ночью их преследовали накидочники, с беспримерным терпением ожидая, что кто-то упадет и не поднимется, но ничего такого не происходило. Перелетая от одного путника к другому, он ощущал скрытую решимость каждого, неиссякаемую силу.
Такая стойкость, увы, не мешала, похоже, бесконечному потоку жалоб, пропитывающих все их разговоры.
– Какая расточительность, – говорил Шеб, корябая зудящую бороду. – Вырой несколько колодцев, сложи из этих камней дома, лавки и прочее. Тогда получится что-то стоящее. А пустошь бесполезна. Мечтаю о дне, когда все это послужит людям, все на поверхности земли. Города сольются в один…
– Тогда не будет ферм, – возразил, как всегда, мягко и робко, Ласт. – А без ферм не будет еды…
– Не валяй дурака, – отрезал Шеб. – Фермы, конечно, будут. Просто ни клочка этой бесполезной земли, где живут только проклятые крысы. Крысы в земле, крысы в воздухе, жуки да кости… ты можешь представить столько костей?
– Но я…
– Замолкни, Ласт, – оборвал Шеб. – Ты всегда несешь чушь.
Заговорила хрупким, дрожащим голосом Асана:
– Только, пожалуйста, не подеритесь. Шеб, все и без драки ужасно…
– Берегись, карга, а то и тебе достанется.
– А со мной не хочешь сцепиться, Шеб? – спросил Наппет и сплюнул. – Вряд ли. Всего лишь языком чешешь, Шеб, и только. Как-нибудь ночью, когда заснешь, возьму и отрежу тебе язык и скормлю его драным накидочникам. Кто-то против? Асана? Бриз? Ласт? Таксилиец? Раутос? Никто, Шеб, мы все спляшем от радости.
– Меня увольте, – сказал Раутос. – Я достаточно настрадался, когда жил с женой; нужно ли говорить, что я по ней не скучаю?
– Опять Раутос погнал, – прорычала Бриз. – Моя жена то, моя жена сё. Меня уже тошнит от рассказов о твоей жене. Ее же здесь нет, правда? Небось ты ее утопил и поэтому бежишь. Утопил в своем роскошном фонтане: держал под водой и смотрел в распахнутые глаза, а она, раскрыв рот, пыталась кричать под водой. А ты смотрел и улыбался – вот что ты делал. Я не забыла, такое не забыть, это было ужасно. Ты убийца, Раутос.
– А теперь и эта погнала, – хмыкнул Шеб, – и опять про утопление.
– Можно отрезать и ее язык, – улыбнулся Наппет, – и Раутоса. И не будет дерьма про утопление, про жен – и никаких жалоб; с остальными-то все нормально. Ласт, ты ничего не говоришь, а если говоришь, никого не раздражаешь. Асана, ты знаешь, когда следует держать рот на замке. А Таксилиец вообще почти всегда молчит. Только мы, и будет…
– Я что-то вижу, – сказал Раутос.
Они все – он почувствовал – напряглись; их глазами он увидел на горизонте громадный силуэт, нечто устремленное в небо – слишком узкое для горы, слишком громадное для дерева. Торчащий, видный за многие лиги зуб.
– Я хочу посмотреть, – заявил Таксилиец.
– Вот дерьмо, – проворчал Наппет, – да идти больше и некуда.
Остальные промолчали в знак согласия. Они шли уже, казалось, целую вечность; споры насчет того, куда идти, давно утихли. Ни у кого не было ответа, никто даже не знал, где они сейчас.
И путники двинулись к далекому таинственному строению.
И он был доволен, доволен, что идет с ними; он разделял растущее любопытство Таксилийца, которое с легкостью преодолело бы страхи Асаны и закидоны остальных: утопление Бриз, несчастный брак Раутоса, бессмысленную жизнь робкого Ласта, ненависть Шеба и страсть к пороку Наппета. И разговор увял; остались только шуршание и топот босых ног по грубой земле да тихий стон нестихающего ветра.
А высоко в небе два десятка накидочников следовали за одинокой фигурой, бредущей по Пустоши. Их привлекли голоса, а видели они только одного сурового путника. Пыльно-зеленая кожа, клыки во рту. Несет меч, но совершенно голый. Одинокий путник, говорящий семью голосами, называющий себя семью именами. Его много, но он один. Они все потеряны, потерян и он.
Голодные накидочники ждали, когда жизнь покинет его. Но ждать придется недели. Месяцы. А пока остается голодать.
* * *
В этих узорах следовало разобраться. Однако элементы оставались разрозненными в плавающих щупальцах, в черных пятнах перед глазами. Но он, по крайней мере, мог видеть – это уже кое-что. Сгнившие тряпки унесло с глаз какое-то течение.
Ключ к пониманию можно найти в узорах. В этом он был уверен. Если бы только удалось собрать все воедино, он бы понял; он знал бы все, что нужно. Понял бы смысл обуревавших его видений.
Странная двуногая ящерица, затянутая в черную блестящую броню, с коротким, похожим на обрубок хвостом, стояла на каменном помосте, а реки крови стекали с камня со всех сторон. Нечеловеческие, неморгающие глаза были устремлены на источник всей этой крови: на дракона, приколоченного к решетке из громадных деревянных брусьев ржавыми гвоздями, с которых капал конденсат. От распятого существа исходило страдание; смерть не приходила, а жизнь превратилась в нескончаемую боль. А стоящая ящерица излучала в жестокой полутьме холодное удовлетворение.
В другом видении два волка словно наблюдали за ним с насыпи, покрытой травой и обломками костей. Смотрели настороженно, хмуро, словно оценивали соперника. За ними из густых туч сыпал косой дождь. А он будто бы отвернулся, не обращая на волков внимания, и пошел по голой равнине. Вдалеке из земли поднимались десятка два каких-то дольменов – без видимого порядка, но похожие один на другой, видимо, статуи. Он подошел ближе, приглядываясь к увенчанным странными капюшонами фигурам, стоящим к нему спиной и с закрученными хвостами. Земля вокруг блестела, словно усыпанная алмазами или осколками стекла.
Он почти добрался до ближайшего из этих молчаливых, неподвижных стражников, когда его накрыла тяжелая тень и воздух внезапно остыл. В отчаянии он остановился и поднял глаза.
Ничего – только звезды, летящие, словно сорвавшись с привязи, похожие на пылинки в воде, медленно вытекающей из бассейна. Приглушенные голоса падали ему на лоб, как снежинки, и тут же таяли, не оставляя смысла. Спор в Бездне, но он не понимал ничего. Глядя вверх, он чувствовал, как кружится голова, как ноги отрываются от земли и он плывет. Перевернувшись, он посмотрел вниз.
Еще звезды, но теперь среди них вспыхивают яростные солнца зеленого огня, прорезая черную ткань пространства яркими трещинами. И чем они ближе, тем больше вырастают, заслоняя все, а водоворот голосов достиг максимума; и то, что ощущалось снежинками, быстро тающими на разгоряченном лбу, теперь обжигало, как огонь.
Если бы только удалось собрать фрагменты, сложить мозаику и понять смысл узоров… Если бы удалось…
Завитки. Вот в чем дело. Движение не обманывает, движение открывает форму внизу.
Завитки шерсти.
Татуировки… взгляни на них… взгляни!
И как только татуировки встали на место, он понял, кто он.
Я – Геборик Призрачные Руки. Дестриант отвергнутого бога. Я вижу его…
Я вижу тебя, Фэнер.
Громадную фигуру, совсем потерянную. Недвижимую.
Его бог был в ловушке и, как и сам Геборик, оставался молчаливым свидетелем рождения сверкающих нефритовых солнц. Геборик и его бог оказались у них на пути, а этим силам невозможно было противостоять. Ни один щит не остановит то, что надвигается.
Бездне мы безразличны. Бездна выдвигает собственные доводы, с которыми не поспоришь.
Фэнер, я обрек тебя. А ты, старый бог, обрек меня.
И все же я больше не жалуюсь. Так все и должно быть. В конце концов, у войны нет другого языка. На войне мы призываем собственную кончину. На войне мы наказываем собственных детей кровавым наследием.
Теперь он понимал. Богов войны, их значение, смысл их существования. И, глядя на надвигающиеся нефритовые солнца, он с небывалой ясностью ощутил тщетность, скрытую за всем этим высокомерием, за бессмысленной кичливостью.
Посмотри, как мы вздымали стяги ненависти.
Посмотри, куда они нас привели.
Началась последняя война. Против врага, от которого не может быть защиты. Никакие слова, никакие деяния не обманут этого зоркого судию. Не восприимчивого ко лжи, не слушающего оправданий и нудной болтовни о необходимости, о праведном выборе меньшего из двух зол – о да, он слышал все подобные аргументы, пустые, как несущий их эфир.
Мы жили в раю. А потом призвали богов войны, чтобы обрушить гибель на нас самих, на наш мир, на землю, воду и воздух, на мириады живых существ. Нет, не надо изображать удивление и невинное смущение. Теперь я смотрю глазами Бездны. Я смотрю глазами врага и говорить буду его голосом.
Смотрите, друзья, я – судия.
И когда мы наконец встретимся, вы не обрадуетесь.