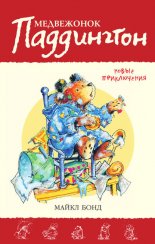Когда падают горы Айтматов Чингиз
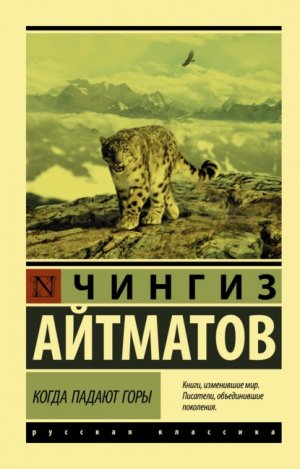
Они сидели в купе у окна, напротив друг друга, и вот о чем говорил Арсен Саманчин:
— Кстати, Элес, в этой рукописи мой саратовский рассказ, почитай по пути — история из времен Второй мировой войны, когда нас с тобой еще не было на свете, а наши будущие родители бегали босоногими подростками. И вот через столько лет — век успел смениться — эта история дала о себе знать ностальгией по минувшим годам, напоминая то, чего никогда не следует забывать: все войны — это прежде всего нескончаемые взаимные убийства, и каждый убитый, кем бы он ни был — генералом или рядовым, — наверняка раскаивается, переходя в мир вечного безмолвия. Я написал о том времени грустный рассказ под названием “Убить — не убить”. В нынешние времена убить — все равно что окурок отшвырнуть, стреляют налево и направо, я и сам чуть было не оказался у того порога, но этот рассказ — не пустая интрига, не виньетка для криминального сюжета. У меня такое ощущение, будто я вынырнул с этим рассказом со дна океана и пошел на кладбище, где похоронены миллионы убитых и убивавших, чтобы в тиши прочесть его себе и им. Ты извини, Элес, что я вдаюсь в свои рощи и чащи, но ведь ты профессиональная библиотекарша, ты-то знаешь и понимаешь что к чему, и я очень доволен, что ты как надо прочитываешь мои сумбурные мысли. Спасибо, Элес, ты киваешь головой. Так вот, минувшей зимой я поехал поездом в Байконур, на космодром, мне позвонил прямо из космоса, с орбиты, космонавт-“долгосрочник” Салиджан, мы с ним друзья. Я собирался написать эссе о человеке, в помыслах которого найти — пока что это фантастика, но так будет когда-нибудь — каждому человеку место существования в космосе. Опять потянуло меня в утопию. Извини. Ну вот, минувшей зимой для меня наступила пора ностальгии — давно уже не ездил я по железной дороге и по пути вспоминал, как это бывало в мои студенческие годы. Из Байконура я поехал дальше на поезде через Саратов в Москву и вдруг, когда стоял у окна и всматривался в окружающие пейзажи — а я очень люблю ехать и любоваться видами из окна, такой уж я сентиментальный, что поделаешь, — прошлое накатило прибоем морским на берег моего сердца. Оказывается, все это время жило во мне и ждало своего часа то, что нахлынуло теперь на душу. Что было и что происходит на этой железной дороге, в тех же поездах, идущих по тем же местам, по степям через Казахстан, через Саратов в Москву? — думалось мне с тоской. Дорога все та же, поезда встречные и попутные все те же, направление движения все то же: Запад — Восток. А что сталось здесь с людьми, какие метаморфозы претерпели человеческие судьбы? И привиделись мне события минувших лет, будто фильм смотрел, снятый из космоса: Аральское море погубили, душа стонет, зато обустроили Байконурский космодром… А между ними столько всего! Вот тогда я дал себе слово написать то, что довелось мне услышать в далекие теперь годы в пути от инвалида, прошедшего штрафбат, таких теперь называют инвалидами ВОВ — Великой Отечественной войны, от Сергея Николаевича. В рассказе он юноша Сергий, а я был тогда его попутчиком-студентом, по обычаям нашим, с почтительностью относившимся к старшим, он мне годился в деды. Опять я разговорился, а времени в обрез. От Саратова, где Сергей Николаевич сел в наш вагон, до Москвы двое суток пути, рассказ получился длинным. Потом, в Москве, я помог ему добраться до клиники. Но написать “Убить — не убить” я задумал только через десять лет, Сергея Николаевича, то есть Сергия, уже в живых нет, узнал, справки навел. Жаль очень. А когда сочинил, вернее, пересказал то, о чем попытался поведать мне Сергей Николаевич, понял, что эту вещь надо читать на фронтовых кладбищах. Знаешь, Элес, ведь ты тоже имеешь некоторое отношение к этой истории. Удивлена? А суть в том, что и я, и ты, и эта история — все это происходит на одной дороге, связующей Запад и Восток, на пути через Саратов в Москву. Сергий уезжал по этой дороге на фронт, я постоянно ездил на учебу в великие российские города Москву и Ленинград, а ты теперь челночница, мотающаяся по этой дороге, на этом же поезде, и нас всех что-то связывает… Ой, останови, останови меня, Элес. Время! Но главное, что я хочу тебе объяснить, ради чего бросился догонять тебя — мог бы, казалось, повременить и в следующий раз спокойно поведать, но не могу ждать, — связано с тобой, Элес, с нашей встречей. Сразу скажу: ты меня спасла. Не зная, что со мной творится, ты спасла мою душу. Весной этого года собирался я опубликовать рассказ “Убить — не убить”, мне хотелось сказать свое слово о вечной природе войны и вечной природе человека. Любая война — дело рук человеческих и любая война — трагедия для каждого, кто в ней познает эту простую первоистину… Об этом и пытался я поведать в своем рассказе, но тут произошло в моей жизни такое, что я сам, уже в теперешние наши дни, собирался совершить жестокое и неотвратимое убийство. И это было бы не просто еще одно в череде бесчисленных убийств, а неслыханное кощунство со стороны автора такого рассказа, богохульство: в писаниях своих утверждать одно, а делать совершенно другое… И потому я отложил, спрятал “Убить — не убить”, чтобы не мучила меня совесть. Теперь мне стыдно. Убийством своим я опроверг бы собственную идею. Но вот — судьба миловала! — ты, Элес, избавила меня от намерения совершить убийство, потому что наша любовь стала для меня откровением. Я вновь свободен и честен перед собой, и это освобождение принесла мне ты. Никогда не пойду я теперь на то, что вчера еще с одержимостью считал справедливым и неотвратимым мщением.
Вот об этом мне и хотелось тебе рассказать, насколько успею. И еще: переворот во мне совершился после нашей встречи. И вот подумалось: как же не хватает нам подчас духовного общения, интимного выражения того, что накопилось на душе, что пытался, например, я высказать в “Убить — не убить”. Эту исповедь юного Сергия надо читать в тиши и покое, вне суеты повседневности, чтобы души умерших слышали и убеждались в том, что не всегда дается познать при жизни. Более того. У каждого человека должна быть своя сокровенная молитва. Моя молитва — в тексте этого рассказа. Если окажется она тебе близка — присоединяйся, разделим общее переживание. А это главное в любви… Я уже записал в свою записную книжку — мне хотелось бы, чтобы первые чтения состоялись на знаменитом Волоколамском кладбище Подмосковья и под Брестской крепостью, а потом и во многих других местах, в том числе в Европе.
Извини, Элес, я многословен, но коротко бывает мгновение счастья, а любовь — это исключительное открытие для двоих перед зовом вечности. Вот я сейчас в горах, скоро двинемся на охоту, а ты на вокзале, то ли отправляешься в путь, то ли ждешь поезда, ты говорила, что расписание вроде изменилось… Но при всем при этом я разговариваю с тобой так, будто мы сидим вместе, в одном купе. Иллюзия, конечно, и вот тому подтверждение — к нашей стоянке едет всадник, должно быть, от загонщиков таштанафгановских… Ну что ж, пора за дело. До встречи, Элес, до встречи…
Всадником оказался Лохмач из группы загонщиков. Он покивал гостям косматой головой в знак приветствия и обратился к шефу Бектуру: Таштанафган послал его и просил передать, что снежные барсы выслежены, две семейные стаи, их можно увидеть в бинокли, а один крупный барс, “башкастый-хвостатый”, мол, даже находится под контролем, его можно заставить идти в нужном направлении. Но главная просьба Таштанафгана заключалась в том, чтобы переводчик Арсен вначале подъехал к нему, он хочет объяснить ему, как действовать безопасно, чтобы с нужного места пристрелить большого барса, находящегося в зарослях. На словах это трудно объяснить, пусть подъедет и увидит на месте, а потом сориентирует гостей-охотников. Шеф Бектур согласился.
— Слушай, Арсен, объясни гостям, что ты сейчас встретишься с загонщиками перед началом охоты. Зверь коварный, одинокий, может наброситься и сбежать по кустам. Пусть на месте покажут, откуда и как заходить.
Принцы охотно согласились подождать.
Лохмач поехал впереди, Арсен Саманчин, тоже верхом, — за ним. Дорога среди кустарников между скальными глыбами оказалась очень сложной, с трудом въехали в расщелину. Наверху кружили стаей какие-то птицы. Вокруг полная тишина. Лохмач взял в руки мегафон и прокричал:
— Таштанафган! Мы на месте! Слышишь? Мы уже здесь!
Тот ответил, тоже по мегафону:
— Я тоже здесь! Сейчас!
Арсен хотел было спешиться, чтобы передохнуть. Но Лохмач остановил его:
— Сиди, зачем? Вон он, Таштанафган, уже здесь.
Из-за кустов сбоку появился на коне Таштанафган с громкоговорителем, болтающимся на шее, с автоматом на плече и — о ужас! — в плотно напяленной на голову военной фуражке! Арсен онемел. А Таштанафган, поправив фуражку, сказал:
— Не пялься! Мы все наготове! Все впятером, все с автоматами! Или передают нам в руки выкуп, двадцать миллионов, — или всем конец! Всем, кто здесь есть! Никому не жить. Никого не пощадим. Ну, что молчишь?
— А что мне говорить? — с трудом произнес Арсен Саманчин. — Ведь ты же говорил: не беспокойся, все будет в порядке.
— А это и есть наш порядок. Так что давай выполнять. Повернись туда, глянь — вон она, та самая пещера Молоташ, о которой я говорил. Она заминирована. Сюда загоним богатеев. Ты им переведешь на английский все, что я скажу, каждое слово. Глобализация для всех едина, пусть не думают — не только им причитается. Мы возьмем свое. Вот тут, смотри, вход в пещеру, слазь с седла, заходи. Места много, заложники отсидят ровно сутки, не будет выкупа — ни малейшей пощады. Что молчишь? Обалдел? Так ведь я тебя предупреждал. А ты хотел, чтобы я растаял, как конфета? Не жди! Ну, что молчишь? Я спрашиваю, будешь или не будешь выполнять немедленно мой приказ?!
Арсен Саманчин, уже было спешившийся, снова поставил ногу в стремя. Таштанафган одернул его:
— Стой! Вначале выслушай — ты приведешь их сюда, мы разоружим их и загоним в пещеру. Разговор будет крутой. С автоматом впритык к затылку. По моему приказу ты им велишь звонить по их спутникам в их банки дубайские, эмиратские или какие там еще, чтобы немедленно направили сюда самолетом наш выкуп. Каждое слово ультиматума чтобы впечаталось им в головы! И все, что они будут говорить, каждое слово, мне передашь. Ясно?! Если нет, ты — наш пленник. Тебе и им конец!
— Не торопись, — наконец проговорил Арсен Саманчин, понимая, что переубеждать озверевшего человека бессмысленно. — Если ты так решил, знай: прольется хоть капля крови — я ни перед чем не остановлюсь!
— Не угрожай! Я сам не хочу крови. Двадцать миллионов — и уйдут живыми! Мое слово! Выполняй! Даю максимум двадцать минут! Ни секунды больше! Веди их сюда как бы на встречу с загонщиками. Чуть что — стреляем на поражение. Нам терять нечего! И запомни: с тобой — только они, двое принцев, якобы для отстрела барса. Скажи — он тут, в загоне, есть и еще выслеженные, но они — потом. Все остальные пусть ждут там. Ясно? Выполняй!
— Сейчас, — невнятно пробормотал Арсен Саманчин, глянул мельком на фуражку Таштанафгана, будто бы, не будь ее на голове бывшего одноклассника, все обернулось бы иначе, тяжко вздохнул, молча сел на коня и двинулся в обратную сторону, туда, откуда только что прибыл.
Наступила мертвящая пауза. Не оборачиваясь, молча отъезжал согбенный, поникший в седле Арсен Саманчин, чтобы привести к пещере принцев-охотников, сдать их и самому сдаться. Слышалось только журчание сбегающих вниз ручьев. Какие-то птицы беззвучно пронеслись над головой. Конь осторожно ступал по завалам, направляясь к палаточной стоянке. Оставалось совсем недалеко, когда Арсен резко остановил коня в кустах за скалой, привстал в стременах и огляделся вокруг. Сдернул мегафон, что висел на правом плече, положил на луку седла автомат-“калаш” и, судя по всему, к чему-то приготовился. Несколько секунд спустя над горами разнесся усиленный мегафоном отчаянный голос Арсена Саманчина. Он кричал яростно и грозно вперемежку на английском, русском и киргизском:
— Слушайте, слушайте мой приказ, пришлые зарубежные охотники! Будьте вы прокляты! — Громкоговоритель раскатывал его слова по горам многократным эхом. — Руки прочь от наших снежных барсов! Немедленно убирайтесь вон отсюда! Я не дам вам уничтожить наших зверей! Мотайте в свои дубаи и кувейты, прочь с наших священных гор! Чтоб ноги вашей больше здесь не было! Убирайтесь немедленно, иначе вам конец! Всех перестреляю! — Он подкрепил свои слова очередью в воздух из автомата. В горах загремело. С какого-то склона посыпались камни. И тотчас в ответ поднялась стрельба с разных сторон. Беспорядочная пальба всполошила коня под Арсеном. Конь рванулся и тут же грохнулся, смертельно раненный. Арсен Саманчин едва успел выкарабкаться из-под лошадиного крупа, выворачивая себе ноги. Стрельба усиливалась — стреляли все как сумасшедшие, и таштанафгановцы, и охранники принцев, и люди Бектура. Арсен так и не узнал, что в этой суматохе принцы, вскочив в седла, уже неслись прочь.
Лежа рядом с убитым конем, Арсен осознал, что получил сразу несколько ранений. Плечо, грудь, поясницу свело чудовищной болью. Из последних сил он старался не скатиться вниз по склону, отодвинуться подальше от края, когда вдруг метнулся перед ним огромный барс, весь в крови. То был Жаабарс. Зверь рыкнул и, пригибаясь к земле, волоча ногу, устремился дальше. Солнце раскачивалось над головой Арсена, горы колыхались, и ветер удущающе стискивал горло. Он отшвырнул мегафон, автомат и попытался отползти в ту же сторону, куда ушел раненый зверь. Он не видел и не знал, что творилось вокруг: как орал и материл его взбесившийся Таштанафган — “Сволочь! Предатель! Чтоб ты сдох, чтоб подавился своей завистью!”, как старик Бектурган, упав на землю, рвал бороду, истошно вопя: “Позор! Позор на наши головы! Чтоб тебя прокляли боги и предки!” Что кричали по-арабски убегающие восвояси принцы-охотники, в здешних горах не понял никто.
Постепенно шальная стрельба утихла, смолкли вскоре и крики.
Знал бы Арсен Саманчин, что натворил он в одно мгновение с людьми и со зверями… Но теперь ему было не до того. Ранения оказались серьезными, он это чувствовал. Особенно давило в груди, вся одежда пропиталась кровью. Он понимал, что долго не протянет, и хотел где-нибудь укрыться. Брел, шатаясь, падал, вставал, задыхался. Хорошо, что запомнил, в какой стороне находилась та самая пещера Молоташ. Туда-то и добрался наконец Арсен Саманчин и заполз на коленях внутрь. И тут увидел он медленно гаснущие глаза огромного снежного барса. То был Жаабарс. Зверь не шевельнулся. Не попытался даже поднять голову с протянутых вперед лап. Как лежал, опустив на них голову, так и остался лежать, тяжело и хрипло дыша.
— И ты здесь? — сказал почему-то Арсен зверю, точно бы они были знакомы.
Жаабарс истекал кровью.
Та же участь постигала и человека.
Волею судеб очутились они — человек и зверь — в свой последний час в одном схроне поднебесном, в пещере, рядом, бок о бок… И словно в недоумении стал погрохатывать над горами гром, раскатывался эхом, будто спрашивая: что же это такое? И так же удивленно вспыхивали в облаках молнии…
Когда, пересев с коней в машины и срочно прикатив в аил, принцы-охотники тут же, ни с кем не попрощавшись, отбыли на своем “Хаммере” в сопровождении кортежа в Аулиеатинский аэропорт, где стоял под парами их самолет, все стало ясно.
Так в одночасье рухнул в пропасть международный охотничий бизнес фирмы “Мерген”, и никому не верилось, что учинил этот провал “бизнес-проекта” племянник самого Бектура-аги.
Туюкджарцы, сбегаясь со дворов, собрались гудящей толпой, из которой слышались выкрики:
— Позор, проклятие на наши головы!
— Арсена повесить мало! Спалить его, сжечь!
— Угробил такое дело! Не дал нам заработать хотя бы малость!
— Ему звери дороже, чем люди, — так пусть растерзают его сами барсы!
Стихийная истерика разгоралась все больше, и тогда двинулась разъяренная толпа к дому сестры Арсена Саманчина, в злобе и ярости стала крушить во дворе все, что попадало под руки и под ноги, расколотила стекла и фары арсеновской “Нивы”, разорвала в клочья его рубашки и куртку, сушившиеся на веревке… Сестра, старавшаяся уберечь ноутбук брата, получила побои, муж-кузнец, прибежавший с работы и кинувшийся ее защищать, тоже оказался избитым…
И лишь внезапно хлынувший дождь и разразившаяся гроза остановили хаос и заставили толпу разбежаться.
А гром сотрясал окрестности, молнии одна за другой пронзали небо, и все прибывающий дождь захлестывал горные расщелины и пещеры.
Как чувствовала, Элес позвонила ближе к вечеру с вокзала сестре в Туюк-Джар. Она оставила ей свой мобильный телефон — пусть, мол, будет у тебя, а я буду звонить с подружкиных. Никогда прежде так не делала, а в этот раз почему-то захотела обеспечить себе связь. И вот за полчаса до отъезда решила узнать, как они там поживают, а заодно — есть ли какие вести с гор. Но не успела она и слова сказать, как сестра в истерике закричала:
— Весь аил на ногах, вот что твой Арсен учинил, кричал там, в горах, через громкоговоритель: “Руки прочь от наших барсов! Убирайтесь к чертовой матери!”, гнал приезжих в шею, мало того, открыл по ним стрельбу. И все вокруг принялись стрелять в ответ. А Бектур-ага бился головой о камни. И весь аил громит теперь двор Арсеновой сестры. А сам Арсен исчез куда-то, говорят, то ли его пристрелили, то ли сам застрелился. Ты слышишь меня, Элес? Ты что молчишь? Что с тобой? Да отвечай же!
И тут сестра подняла вой:
— Ой, несчастье какое на наши головы! Элес онемела! Что же теперь будет? Так полюбила она этого Арсена — и что же теперь? — и в истерике стала рвать на себе волосы.
— Да прекрати ты! — стал успокаивать ее муж. — Подумай, что толку так орать? Когда Элес приедет, я повезу ее в горы, на Молоташ. А хочешь — поедем вместе. Пусть она своими глазами увидит и поймет что к чему. Только не трави себя.
— Ой, что же мне делать! Сестра любимая, Богом данная, что с ней будет?.. А дети как, коли поедем в Молоташ?
— Ничего. Подростки уже. Пару дней обойдутся. Скот обиходят. Соседи за ними присмотрят…
Напарницы Элес были ошарашены, когда она схватила рывком свой рюкзак и, вскинув его на плечи, сказала, чеканя каждое слово:
— Езжайте сами. Вот вам мои документы для Саратова. Я срочно возвращаюсь в аил.
— Что, умер кто-то?
— Балким — возможно.
— А когда мы вернемся, увидимся?
— Балким — возможно.
— А что нам сказать? Ты приедешь за своим товаром?
— Балким — возможно.
— Да что с тобой? Что ты все балким да балким? Тебе сказать нечего?
— Отстаньте! Я свое сказала! Езжайте без меня. Все!
И с этими словами Элес кинулась бежать, расталкивая встречных. Люди шарахались от нее. Знали бы они…
Знали бы… Кому было знать, кто мог бы представить себе, что горе ее, перехлестывая через пространства, изливалось в те мгновения вместе с грозовым ливнем на горы Узенгилеш-Стремянные, где исчез ее возлюбленный, что бежала она теперь по горам вместе с Вечной невестой… “Помоги мне, родная, скажи, если ты видела его!”
А в тех глубинных горах до самого вечера не унималась гроза, раскатываясь вокруг громыханием эха, ослепительно озаряя молниями ущелья и долины. Утяжеляясь под дождем, постепенно сгущались сумерки. Давно не бывало тем летом такого затяжного дождя. И в пещере Молоташ становилось от него все темней и холодней.
Но это уже ничего не значило для тех, кто волею случая ли, судьбы ли оказался в той пещере. Их было двое в этом их последнем пристанище — умирающий человек и зверь дикий, рядом умирающий. Оба одинаково заканчивали свой земной путь, израненные то ли шальными, то ли прицельными пулями — кому было теперь разбираться, кто в кого стрелял и почему? Все это сейчас, за считанные минуты до их ухода в бесследную вечность, не имело уже никакого значения.
Жаабарс задыхался, истекая кровью, сочившейся из ран медленно и необратимо. Он лежал все в той же обессиленной позе, опустив огромную голову на обмякшие лапы, его знаменитый хвост валялся на земле как ненужная, выкинутая вещь…
Арсен Саманчин лежал рядом, привалившись боком к туловищу подыхающего барса, так было удобней. “Вот и встретились напоследок…”
У Арсена Саманчина все больше намокало под боком, кровь впитывалась в каменистую почву. Сам он был пока еще в сознании и пытался удержать, сколько мог, последнее достояние жизни — мысль. И думалось ему о том, насколько был повинен он сам во всем случившемся, но прежде всего он прощался с ней, с Элес. Сколько было отпущено им счастья и любви, столько и уходило.
— Прощай, Элес. Прости за несбывшиеся мечты… Кланяюсь… Прощай, прощай… Не успел… Плачу… Повинен я…
Угрызения совести терзали его, когда он мысленно обращался к оскорбленным им арабским принцам:
— Повинен я, поносите меня последними словами и проклинайте, но не было другого выхода, только так мог я уберечь вас от опасности. Простите, если сможете…
С еще большим страданием и покаянием истовым обращался он к брату отцовскому:
— Бектур-ага, байке, прокляни меня! Прокляни беспощадно! Опозорил я наш род, погубил твое дело, как мне объяснить теперь, что другого выхода не было? Понимаю, какой позор обрушил я на твою голову, сколько горя причинил. Но прости, не из злых побуждений так поступил, не из глупости и зависти… Живи долго, дядюшка, а брату твоему, отцу моему покойному, я все объясню на том свете…
Припоминал он и родственников, сестру Кадичу и ее мужа-кузнеца:
— Какое бедствие учинил я вам. Повинен, простите… Не поминайте лихом…
Вспомнил напоследок и брата Ардака:
— Ардак, я умираю. Не страдай за меня, хватит у тебя и других забот. Расти детей, а я ухожу бездетным. И это тоже наказание Божье…
Винился Арсен Саманчин и перед Айданой:
— Прости, Айдана, что осуждал и презирал тебя за пошлую звездность твою. Это твое дело. Как хотелось мне, чтобы на оперной сцене ты явилась Вечной невестой. Теперь судьба избавляет тебя от моей назойливости, а этому Эрташу Курчалу не говори ни слова, я ему сам все скажу напоследок. Эрташ, повинен я был до последних дней, замышлял тебя убить, настолько ненавидел и презирал, и были на то причины. Но раскаялся. Не думай обо мне дурного, прости, если можешь.
Однако тяжелей и мучительней всего было умирающему Арсену Саманчину обращаться к однокласснику своему Таштанафгану. Что тут было сказать? Обвинить, проклясть?
— Пусть буду я жертвой, тобой принесенной, и никто не узнает о том, на что ты готов был в преступном озверении своем. Я сам повинен — перед собой, не перед тобой. Так пусть стану я твоей жертвой и твоим искуплением, Бог с тобой!
Простите меня и вы, земляки, лишил я вас заработка, пусть и мелкой деньги. Так случилось… Не топчите мою память, не от добра я пошел на такое дело, но об этом никто не узнает… Прощайте.
Снежный барс был уже мертв. Человек испустил последнее дыхание следом…
Но, умирая, в последние мгновения жизни, услышал он далекий голос Вечной невесты: “Где ты, где ты, охотник мой?” И прошептал, запинаясь: “Прощай, теперь мы с тобой никогда не увидимся…”
Луна путалась в облаках ночных, ветер рвался и томился в скалах, и не слышно было ничего иного…
А наутро, ближе к полудню на том месте близ пещеры Молоташ, где накануне произошла чудовищная трагедия, появились три всадника — мужчина, ехал он впереди, и две женщины. То были Элес и ее сестра с мужем. Они привезли ее сюда, чтобы увидела она собственными глазами и убедилась: ее горе необратимо, и примириться с утратой придется неизбежно.
Сестрин муж Джоро хорошо знал эти места. В бытность свою заведующим колхозной овцеводческой фермой не раз заглядывал сюда по пути на пастбища, знал и пещеру Молоташ, поэтому быстро провел Элес и сестру ее к пещере. Вначале увидели они на тропе пристреленного сивого коня, пролежавшего здесь почти сутки под дождем и оттого разбухшего так, что копыта разметались по четырем сторонам, а подпруги седла лопнули от напряжения, и седло свалилось на сторону. Тут же валялись Арсеновы мегафон и автомат. Джоро спрыгнул с седла и молча поднял с земли то и другое. Брошенное оружие, убитый конь свидетельствовали о том, что Арсена в живых быть не может.
В пещеру входили с мрачным предчувствием. Элес дрожала и плакала, сестра держала ее под руку. То, что предстало их взорам, поразило их немотой: в застывшей луже крови лежали бездыханные человек и дикий зверь, огромный снежный барс. Голова Арсена Саманчина покоилась на груди Жаабарса.
Элес упала на колени и рыдала, поглаживая омертвевшую руку Арсена.
Женщины долго плакали. Сестра накинула на голову Элес черный траурный платок. Джоро то выходил из пещеры, то заходил снова, ждал, когда женщины успокоятся.
Элес, всхлипывая, говорила рядом сидящей сестре:
— Кумар, ты мне как мать, не буду скрывать от тебя, я ведь по глупости наговорила Арсену, что хотела выйти с плакатами: “Руки прочь от наших барсов!”, хотя сама же понимала, что в нашем аиле такое невозможно. Арсен ничего не сказал тогда, но, конечно, душой воспринял мои слова, и вот случилось.… Зачем я это сделала?!
— Успокойся, Элес, между собой близкие люди о чем только не говорят. Так судьба распорядилась. Ты лучше подумай, как похоронить несчастного. Ведь родственники и слышать не хотят о его погребении после всего, что случилось. Не оставлять же покойника здесь навечно вместе с убитым зверем.
— Ты права. Но как я буду жить без Арсена? Мы точно бы весь свой век прожили вместе. Говорят, есть в России монастыри женские, слышала в челночных поездках. Разузнаю, уйду и буду там Богу молиться за него днем и ночью, хотя никогда в Бога не верила. Только в одном случае не решусь — если пошлет мне судьба счастье, если родится дитя…
— Дай-то Бог! А ты уверена?
— Почему-то жду. Снилось мне… А если нет, то схоронюсь в монастыре навсегда.
В это время над горами послышался громкий нарастающий гул. Они вышли из пещеры и стояли втроем, наблюдая за вертолетом. Он летел вдоль ущелья между высокими вершинами. Лошади на привязи стали волноваться. Джоро пришлось взять их за поводья, чтобы успокоить. Вертолет покружил-покружил и удалился. Когда шум стих, Джоро задумчиво сказал:
— Думаю, вертолет не случайно прилетал сюда. В горах-то летать небезопасно. Наверное, и до райцентра дошла весть о том, что здесь случилось.
А жена его добавила:
— Это их дело. А у нас свои заботы. Мы тут думали с Элес, как похоронить Арсена. Ты, Джоро, что скажешь?
— Что скажу? Тут и думать нечего, хоронить требуется, и как можно скорей. Но вот пока никто из родственников и соседей даже слова не промолвил о похоронах. Ругают, кричат, проклинают — это да. Но сколько можно? Доставить по горным тропам тело покойного на большое аильное кладбище — непростая задача. Потребуется местами нести труп на носилках, для этого несколько человек должно быть.
Джоро приходил к выводу, что надо так или иначе решать вопрос с близкими родственниками. Да, все страшно возмущены случившимся по вине Арсена Саманчина, но ведь хоронят даже отпетых преступников.
— Надо думать, — продолжал размышлять Джоро, — а пока пройдем внутрь, я хочу прочесть молитву за упокой души Арсена. Я не мулла, но — как сумею.
И снова вошли они втроем в пещеру, сели возле усопшего, замолчали. Раскрыв ладони, Джоро стал произносить молитву, что-то невнятно бормотал по-арабски, хотя, как и все местные, ни слова не знал на этом ритуальном языке. Но обычай есть обычай…
Во время этой самодеятельной молитвы Элес думала: хорошо, что сестра ее с мужем проявили такое понимание и сочувствие, не то не оказалось бы рядом ни души, умерший лежал бы тут в полном одиночестве и забвении. И как бы в ответ на ее горькие раздумья снаружи послышались топот копыт и людские голоса.
В пещеру вошли пять человек. То были Таштанафган и его напарники. Они не сели, как полагалось, а молча стояли, мрачно ожидая завершения молитвы. Как только молитва окончилась, Таштанафган жестко промолвил:
— Мы должны сказать вам, что пещера Молоташ заминирована. Вам следует покинуть ее сейчас же, потому что она будет взорвана. Поторапливайтесь.
Джоро, однако, возразил:
— Зачем взрывать? Тут же находится убиенный Арсен Саманчин, его полагается похоронить.
— Это не наше дело. Мы должны взорвать пещеру, и труп останется под завалом — значит, будет похоронен.
— Это не похороны, — возмущенно воскликнула Кумар. — Я, как женщина, вам говорю: подумайте о похоронах, а потом о взрывах. Все мы смертны, и всем людям, вам в том числе, полагается в свой срок быть погребенными по обычаям людским.
— Не учи! Пещера Молоташ будет взорвана по заданию. Для этого мы и прибыли. Даем вам полчаса.
И тут, отведя от лица черный платок, подала голос сама Элес:
— Не смейте так поступать! Не смейте издеваться над человеческой смертью. Такое кощунство не пройдет вам даром. Я не позволю! Вы не имеете права уничтожить тело убиенного человека, лишить его права упокоиться в земле.
— А кто ты такая? — вскричал в злой досаде едва сдерживавшийся до поры Таштанафган. Откуда было знать Элес, какое сокрушительное поражение постигло его здесь вчера и что теперь одержим он был садистским желанием свершить лютую месть над бездыханным телом одноклассника своего.
— Кто я такая? Не сейчас бы мне отвечать! Вот лежит убитый человек у ног ваших, а я та, которая готова погибнуть хоть сейчас. Убейте меня — и тогда взрывайте. Я готова, взрывайте, взрывайте прямо теперь, чтобы остались мы с ним под завалом вместе навек!
Трудно сказать, чем закончилась бы эта дикая сцена, если бы не удалось найти выход благодаря здравомыслию Джоро:
— Таштанафган, послушай меня, не стоит так разговаривать с женщинами, когда они в глубоком горе. Опять же при покойнике так спорить не годится, пошли наружу, поговорим, посоветуемся, как быть. Взорвать пещеру всегда успеется.
Они вышли и долго шумели и спорили снаружи.
Когда женщины снова остались одни возле убиенных, Кумар, поправляя черный платок на голове сестры, приговаривала:
— Не плачь, Элес, дух усопших все слышит. Ты сказала свое. Дух покойного будет доволен, а что станется дальше, пусть мужчины решают. Ох, горе-горе…
Элес отвечала:
— Спасибо, Кумар, сестра родная, ты и впрямь для меня как мать. Я вот сейчас думаю, отчего так круто изменилась судьба Арсена, ведь он умнейший был человек и справедливый. С девичества еще читала все, что он писал в газетах, и в телевизионных передачах слушала его. А какая была любовь между нами! На две жизни хватило бы! И вот такой конец, погиб рядом с диким барсом в пещере, и хотят люди жестокие стереть с лица земли даже память о нем обвалом взрывным. Так что же это значит? Возвышает это его или унижает?.. Но для меня он теперь святой. Только бы родилось у нас дитя — мальчик ли, девочка ли — фамилию его увековечить бы в потомстве.
Джоро появился вскоре очень озабоченный и стал объяснять, что убедить Таштанафгана так и не удалось. Тот дал время до утра, посоветуюсь, говорит, с шефом Бектурганом. Ждите, мол, прибуду утром, тогда и решим окончательно…
Ночью, сидя у костра, думала Элес все о том же: суждено ли будет ей ходить в памятные дни на кладбище, к его могиле, ведя за руку их чадо?
А когда донеслись до ее слуха из горной дали выклики Вечной невесты: “Где ты, где ты, отзовись, охотник мой!”, она ответила ей шепотом: “Слышу, слышу тебя, Вечная невеста, теперь и я такая же, как ты. Стала я, незамужняя, вдовой и молю Бога, чтобы ниспослал он мне утешение ходить на кладбище с нашим чадом”.
Утром события повернулись к лучшему. Должно быть, раскаяние приходит не сразу, труден его путь через вечное преодоление зла в себе, нелегко услышать несовершенному человеку вселенский призыв всех времен к добру.
Таштанафгановцы прибыли с носилками и пеленами для тела покойного. Предстояло нести его до конца ущелья, где ожидали джип Бектура и другие машины. Стало быть, взрыв пещеры Молоташ откладывался или отменялся. Шеф Бектур дал указание труп барса закопать там же, в горах.
Самозваная вдова Элес шла в черном покрывале вслед за носилками. За ней — сестра Кумар с мужем Джоро, державшим их верховых лошадей в поводу.
И никому не ведомо было, что происходило с Таштанафганом. Он тоже шел в трауре следом. Говорят, шел в слезах. А потом вдруг сдернул с головы свою военную фуражку, так им ценимую, и швырнул с размаха под откос.
Элес же мысленно повторяла на ходу: “Слышу, слышу тебя, Вечная невеста. Я еще вернусь, найду тебя, и поплачем мы вместе, и я расскажу тебе о своем горе. Жди, я скоро приду…”
И еще небылица одна ходила в те дни, в которую трудно было поверить. Сказывали, что, когда вернулись в пещеру Молоташ двое парней таштанафгановских, чтобы выволочь оттуда застреленного “башкастого-хвостатого” и закопать его где-нибудь там же, Жаабарса в пещере не оказалось. Исчез куда-то Жаабарс. Исчез бесследно… А позже говорили, что скитается он тенью по горам. Самого его никто не видел, но следы его на снегу — по-прежнему мощные — замечали многие. Все так же любит Жаабарс бродить по сугробам. Таким уродился…
Вместо эпилога
Арсен Саманчин
(Публикация Элес Жаабарсовой)
УБИТЬ — НЕ УБИТЬ…
Рассказ
И только солнце останется не забрызганным кровью… и конь ускачет без седока…
(Предсказание цыганки)
Выводя самолет из зоны активного зенитного огня, летчик глянул вниз, чтобы удостовериться, насколько успел он удалиться от обстрела. Внизу космато расстилался густой буро-зеленый лес, который как бы кренился набок вместе с ним на вираже, казалось, лес постепенно опрокидывался, грозя свалиться в некую бездну. В следующую минуту истребитель выправился в полете, и лес разом вернулся на свое устойчивое место, слился с дымчатым горизонтом вдали. Мир обрел свои привычные очертания. Летчик едва перевел дух, и в это мгновение перед самолетом возникло нечто неожиданное, возникло настолько внезапно, что пилот не успел сообразить, с чем он столкнулся в воздухе, — какая-то бесформенная масса тяжко врезалась с ходу в самолет живым плотным телом. Машину резко тряхнуло от удара, и на долю секунды летчик полностью утратил видимость…
То была огромная стая ошалело несущихся птиц, точно бы ослепших на лету…
Пилот облился холодным потом. Едва удерживая штурвал, чтобы не провалиться в штопор, он судорожно передернулся в отвращении от кровавого месива, размазанного по стеклам кабины.
Птицы первыми покидали эти края, не дожидаясь осени. Они улетали в самый разгар лета стаями и врозь, ночью и днем, улетали, бросая гнезда с невысиженными яйцами, улетали от беспомощно тянувших шеи птенцов, еще кормившихся с клюва. Последними исчезли куда-то болотные совы, перестав ухать по ночам…
Разбегалось зверье…
И повсюду горели окутанные на многие версты едким клубящимся дымом лесные чащи, рушился вековой лес, огромные сосны валились с треском, как в буреломе. И содрогалась земля, извергаясь сплошными взрывами от шквальных артобстрелов и разорвавшихся мин, от бомб, падающих с неба, от танковых штурмов, от встречного огня по танкам… Растерзанные взрывами речки растекались, выходя из берегов, заливая низины и овраги. Один танк навечно завалился в глубокий ров с водой, задрав средь поля дуло пушки круто в небо…
И все это неотвратимо происходило изо дня в день и не могло быть остановлено по той причине, что на данном рубеже, выражаясь военным языком, шла война фронтов. Фронт на фронт. Каждой стороне требовалось сломить оборону противника, развернуть решительное наступление, разгромить фланги и тылы врага, уничтожить живую силу. И каждая сторона считала своей задачей первой осуществить прорыв, первой начать наступление…
Но покуда эта задача никому не удавалась. И поэтому тянулась позиционная война, изо дня в день, изо дня в день…
А время шло своим ходом. И почти до самой осени на этом пространстве, именуемом театром военных действий, орудия не смолкали ни днем, ни ночью, ни в дождь, ни в вёдро… Птицы в тот год так и не вернулись к своим гнездовьям, потоптанные травы так и не смогли отцвести и осемениться.
Прифронтовые штабы, нацеленные на взаиморазгром, тем временем поспешно разрабатывали новые оперативные планы, доносили секретные сведения о потерях, о количестве убитых и раненых — и тот, и другой штабы доказывали в один голос необходимость наращивания ударного потенциала и потому одинаково просили у своих Верховных главнокомандующих еще и еще подкреплений в живой силе, в технике, в боеприпасах: один ради идеи завоевания новых жизненных пространств, другой — ради защиты тех же пространств. Но как бы то ни было, и в том, и в другом случае резервы шли, силы снова убывали в боях и снова шли…
Искромсанное войною лето между тем уже склонялось к исходу, и для каждой из воюющих сторон наступил последний срок готовности, последний предел, за которым должен был грянуть прорыв, когда покатится по земле неудержимая сила — лавина наступления…
К этому великому действу, когда из всего сущего только солнце останется не забрызганным кровью, в края, покинутые птицами, судьба сгоняла в ту пору многих людей, быть может, родившихся на свет именно для этого рокового события.
Один из них следовал сюда в воинском эшелоне из города Саратова, из жаркой приволжской Предазии. В эшелоне все понимали, что едут на войну, но куда именно — на какой фронт, на какой участок, — это могло знать только высшее командование, солдатское же дело — куда погонят… Однако поговаривали, что везут их в Москву, а дальше, ясное дело, — на фронт… Так оно и было. Предсказать такое движение оказалось совсем не трудно.
Отъезжали из Саратова на склоне дня, а через ночь душного пути, после осточертевших за лето, повыжженных зноем приволжских степей пошли, пошли проглядывать по сторонам, то вблизи, то на отлете от железной дороги, зеленые рощи да хвойные леса, любо было глядеть — как писаные на старинных картинах. И даже прохладой заметно повеяло в раскрытые двери теплушек, набитых солдатами и стрелковым оружием. А вскоре леса подступили вплотную.
— Глянь — какие леса побежали! Россия пошла, Россия-матушка! — переговаривались солдаты, точно бы сами были не из России, а из каких-то иных пределов.
Среди них находился один совсем молоденький, долговязый, солдатская одежда висела на нем как отцовская — Сергей Воронцов, или, как прозвали его во взводе, — Сергий, инок, а то и вовсе отец Сергий. К слову случилось, упомянул парень о Боге, что Бог не икона, а явление, а какое такое явление, толкований его никто не понял, этого, однако, оказалось достаточно, чтобы зубоскалы принялись насмешливо величать его по-церковному — Сергием да иноком. Удовольствие получали — Воронцову было всего девятнадцать лет от роду, почему бы и не посмеяться над умником. А он не обижался. Этот Сергий часами стоял у косяка, у поперечной перекладины вагонных дверей, больше всех торчал там в проеме. Другие играли в карты, у кого-то сохранилось даже что выпить после вчерашних проводов при посадке на вокзале, и, как водится, от вынужденного безделья в пути всякие разговоры велись галдежные в шуме и грохоте движения, иные же песни пели — себя слушали на дорожном досуге, а его, Сергия, все к дверям тянуло — поглядеть на новые места, проносящиеся мимо. Больше всех глазел, любопытствовал по-мальчишески — в эту сторону исконно российскую Сергий ехал впервые, хотя и мечтал по окончании школы попасть на учебу в Москву, но теперь все это отпало, поезд мчал его на войну. А покуда жизнь шла в эшелоне, в движении, в выбегании с жестяным чайником на станциях за кипятком, в поедании солдатских паек да в смене путевых впечатлений после трех месяцев муштры в армейском лагере на Волге. И всякий раз, завидев нечто необыкновенное, невиданное, подчас для других — бывалых — вовсе и не занятное, дергал Сергий кого-нибудь из рядом стоящих за рукав, погляди, мол! А там какая-нибудь срубная деревенька, прильнувшая к железной дороге, озерцо укромное в камышах, какой-то чудак почему-то верхом на корове — вот это да, вот это кавалерист; высоченная труба в чистом поле близ завода с горящим нефтяным факелом. Сергий все это объяснял, рассказывал, что факел в небе горит сам для себя, для сброса лишнего газа; у них, у отца на нефтепромысле, тоже была такая же труба с факелом. В темную зимнюю ночь, когда снег падает, очень красиво: снежинки кружат, а в небе — живой огонь. На Новый год, бывало, с матерью, с сестрами ходили любоваться факелом, по снегу шли, взявшись за руки. А когда возвращались домой, тепло, светло было в доме, стишки читали, мать пирожками угощала, отец — всегда строгий бухгалтер — и тот веселился. Чудак-инок, иные посмеивались, вспомнил стишки, пирожки… И это ему-то на фронт!
А на одной узловой станции — поезд как раз шел медленно, и было уже сумеречно — Сергий привлек общее внимание к сгоревшему от бомбежек и поэтому, должно быть, доставленному на запасные пути составу с изувеченным паровозом и такими же побитыми вагонами. Никто не обмолвился ни словом, но конечно же каждому подумалось: как под бомбежкой загорелся поезд, как самолеты фашистские налетали, что происходило в этих вагонах? Скольких побило, которые выпрыгнули, сколько погорели? То была первая мета войны, представшая взору. Тихо встретились, как на кладбище, и тихо разминулись в сумерках. Многие молчали, задумчиво дымя махорочными цигарками.
Но был и забавный случай по пути, похохотали над парнем, когда Сергий опять кого-то дернул за рукав:
— Посмотри! Колодцы какие здесь, вон видишь? Колодец под козырьком, как крыльцо резное-расписное! Красота!
На что услышал ехидную реплику:
— А ты не на колодец смотри, крыльцо резное-расписное! Ты на деваху смотри, вон, которая берет воду из колодца. Смотри, какая загорелая, а задок! А ты — колодец! Эх, инок, спрыгнул бы сейчас вместо тебя с эшелона, да в дезертиры запишут!
Смеху было!
Надо сказать, и в самом деле люди как-то уж очень быстро распознавали, что он именно таков — лопух, инок, юнец зеленый, — не туда смотрит, куда следует, хотя и ростом бог не обидел, и в плечах не такой уж щуплый, и суждением тоже смышлен, но правда и то, что во многом Сергий оставался еще подростком, застенчивым и даже странноватым. Сергий и сам подчас думал об этом не без горечи, глядя на сверстников, на зависть быстро преодолевших угловатость, которые, не говоря уж обо всем другом, с женщинами обращались запросто. А он! Приключилась было одна история с намеком на любовь и как-то нелепо кончилась.
Вот опять же вчера на вокзале при посадке на поезд случай произошел странный, возможно, смешной, а, возможно, и нет… Из головы не шел всю дорогу. И все оттого, что люди с первого взгляда узнают, кто он таков — бесхитростный инок, да и только…
А дело было в том, что отправку их части объявили неожиданно, как по тревоге, ранним утром. Трудно сказать, почему столь срочно, но такова была команда. Война шла, и этим объяснялось все. Приказ есть приказ. Сборы шли в спешном порядке. И вскоре выступили они из пригородного лагеря всей пехотой, рота за ротой, и двинулись по окраинным улицам Саратова в направлении станции… Многие в тех колоннах были саратовцами, мобилизованными в армию. Проходя по улицам, иные шли мимо своих окон в общежитиях и домах, мимо ворот фабрики, где недавно еще работали. Как тут было молча миновать? Отсюда и закрутилась вся история. Никто, конечно, не помышлял выбегать из строя, такого командиры не потерпели бы, но были такие, что кричали на ходу в раскрытые по-летнему окна, чтобы попрощаться с родными. Или окликали прохожих, передавали приветы. И детвора дворовая набежала тут как тут с разных сторон, одни увлекая других: “Солдаты идут! Красноармейцы идут на войну!” А тут еще женщины — жены, сестры, соседки! И все увязались, точно бы только этого и ждали, да еще кто в чем успел выскочить — какая бежала в тапочках, а какая и вовсе босиком, да вприпрыжку, какая с полотенцем мокрым на волосах — как мыла голову, так и подалась, — кто в драной юбке. Бежали они рядом с шагавшими строем в солдатских сапогах, напутствовали их, уходящих на войну, на прощание, препоручая всех до едина самому Господу Богу; все до едина были для них в тот час одинаково родными, кровными. Бежали да все наказывали наперебой поскорее возвращаться с победой домой, в Саратов, на Волгу, в родную сторонку, а одна горемычная кликуша плакала да все выкрикивала: “Сталину слава! Сталину слава!” А потом, уже ближе к станции, спохватились, запричитали бабы перед разлукой, вспомнили о себе, о своей горькой доле, ибо было им о чем убиваться, расставаясь навсегда с уходящими на фронт, — вся их жизнь отныне становилась жертвоприношением войне с вытекающей отсюда почти неизбежно вдовьей участью до скончания века…
— А ну-ка, женщины, не кричать! Не мешать движению! Разойдись!
Но никакие увещевания и строгие окрики командиров не действовали на них. Так они и шли — солдаты в строю, а рядом поспешавшие женщины и дети — по кривым улицам саратовским, то на подъем, то вниз по спуску. И все дальше и дальше от Волги…
Не предполагал Сергий, что так тяжело будет переживать расставание, первый раз в жизни прощался на миру. Душа истерзалась, хотя, как и другие шагавшие рядом, пытался он приободряться, улыбался всем, с кем встречался глазами, рукой махал — ничего, мол, все выдюжим. Как иначе? А про себя очень переживал еще и потому, что не удалось попрощаться со своими — родители его уже были престарелыми людьми, он у них самым младшим родился. Одна сестра, старшая, жила в Казахстане, где-то на границе с Китаем, на пограничной заставе. Вторая, Вероника, здесь же, в Саратове, муж ее находился на фронте, жив или не жив — неизвестно. А у нее ребеночек, сама на работу, а малыша оставляла постаревшей как-то сразу в последнее время матери для присмотра, отец же — Воронцов Николай Иванович, всю жизнь проработавший на волжских нефтепромыслах бухгалтером, в ту пору лежал в больнице, давно болел. Об этом обо всем написала Вероника в их пригородный лагерь, на полевую почту воинской части, где днем и ночью обучали их воинскому делу. Посещения родным не разрешались, и в этих письмах Вероника описывала все, что они переживали и как ей трудно всюду поспевать — и на работе, и дома, и в больницу к отцу ходить. Она всегда была беспокойная душа, за всех переживала. Любил он свою сестрицу и за то, что Вероника была открытой и очень откровенной, все писала как есть. Однако на последнее письмо сестры Сергий не ответил и не знал, будет ли отвечать, очень неприятно оно подействовало на него. Странное, неловкое ощущение оставило на душе. Вероника писала — только откуда она все это узнала? — про Наташку, его бывшую одноклассницу, которую в школе называли “коминтеркой”, потому что Наташка еще в седьмом классе сочинила стихи о Коминтерне, о том, как в Испании сражались коминтерновские бригады за счастье рабочих и крестьян всех стран, и послала их в Москву, а оттуда ей прибыло письмо с благодарностью, и это было событием в школе, она всем давала читать то письмо. Шустрая, бойкая, Наташка-коминтерка потом стала активисткой, выступала на всех собраниях, ее все знали, и она всех знала. И был случай весной, как раз перед самой войной. Однажды он танцевал с ней на школьном вечере. Она сама его потащила танцевать, он стоял у окна, глядя на вальсирующие пары, когда она подошла вдруг, оставив своего партнера, и уверенно взяла его под руку: “Пошли, Сережа, больше всех с тобой хочу потанцевать!” И он повиновался ей, как пионер — вожатой, хотя она была всего лишь по плечо ему. И откуда в ней было столько решительности? А он будто бы этого только и ждал, в жар бросило. И они включились в танцующую толпу. С того и началось.
Небывалые терзания испытывал Сергий — так головокружительно было среди множества танцующих, точно бы незримый огонь исходил от вальсирующих, распаляя плоть и дыхание, так желанно отдаваться влекущей страсти. И в то же время тяготился он многолюдьем, хотелось убежать из толпы, взлететь в небо с Наташкой, чтобы никто их не видел, и лететь, лететь все выше и выше, прижимая ее к себе. А Наташка-коминтерка была как резина — и упруга, и податлива, он же поразился еще тому, что сковывавшая его поначалу неловкость отпустила и возникло ощущение особой близости, очень быстро нараставшей между ними, — сердце колотилось все сильнее, невозможно было унять. И это притяжение все больше овладевало им, однако лица ее, находясь столь близко, что явственно ощущалось ее разгоряченное дыхание, лица ее он почти не различал и от волнения не понимал, что с ним происходит. И только когда она вдруг сказала: “Я знаю, Сережка, ты меня любишь, ты мечтаешь обо мне!” — он увидел ее дерзко смеющиеся глаза и намеренно приближенное, с внушающим выражением лицо.
Сергий сильно смутился, такого он не ожидал и не был к тому готов, хорошо еще не потерял темпа, продолжал кружиться. Хотел что-то сказать в ответ, что-нибудь эдакое, лихое, уличное, как это здорово получается у других ребят: как скажут — аж дыхание перехватит, у него же получалось все всерьез. Он хотел сказать ей, что, мол, не думал, любит он ее или нет, хотя она ему вроде нравится, даже очень нравится. Однако Наташка как знала опередила, перехватила, переиначила его намерение. “Не отвечай, Сережа, не отвечай, не старайся! Я же пошутила, — заговорила она, кружась и покачивая в такт музыке головой. — Но, понимаешь, я же вижу тебя насквозь, могу сказать за тебя. — Наташка приостановилась на краю зала, чтобы слышнее были ее слова. — Я всех вижу насквозь, кто о чем думает. В райкоме говорят, что я прозорливая комсомолка-пропагандистка. И тебя вижу. Ты любишь меня и скоро мне об этом скажешь! Ты ведь у нас не такой, как другие. Тугодум, ой тугодум! Пока соберешься… Я все знаю. Ты ведь с девчонками еще никогда ничего! Так ведь? Да, ясное дело! Ну, не скрывай! Я же вижу по глазам! Но скоро на тебя будут все вешаться! А ты смотри у меня! Я первая! И ты будешь со мной! — Они снова закружились в танце. Наташка не умолкала: — Будем всюду вместе ходить. Я буду выступать на собраниях, а ты — записывать для газеты, журналистом станешь. Ты хорошо пишешь, я знаю. Понимаешь, я боевая, я здорово речи толкаю, а ты зато умник, мне как раз такой и нужен. Соображаешь?”
Вот такой случился разговор, то ли в шутку, то ли всерьез, надо ли было думать об этом или напрочь забыть, но в ту ночь Сергий не уснул, промаялся до утра, точно бы его ударило электрическим током. И решил он после этого написать ей письмо, но потом порвал его. Всерьез писать показалось не совсем уместным, а просто так, ради забавы, как бы прилаживаясь к ней, Сергию было неинтересно.
Со временем успокоился. Потом, уже после окончания школы, когда он поступал в пединститут — война началась в то лето, — они виделись раза два мимоходом, но о любви уже не говорили. Каждый раз Сергий ожидал, что они вернутся к тому разговору, но сам не намекал и от нее не дождался. Вернее всего, надо было забыть эту историю, но когда пришла повестка в армию, как-то получилось все наоборот. Сергий не сумел удержаться, пошел к тому дому многоэтажному, где она жила, и слонялся возле него, томясь, волнуясь и раздираясь между желанием уйти и желанием остаться. И дождался — она возвращалась домой. Но все получилось как-то очень буднично. Так бывает, когда угасает костер. Надо найти сухих веток, чтобы он ожил. Сергий сказал ей, что уходит в армию и пришел попрощаться. Она восприняла это совершенно спокойно, сказала, что теперь всех берут на фронт, мобилизация, что сейчас очень спешит, у нее дела, но пообещала писать. Пусть пришлет поскорее адрес полевой почты. Сергия это очень обрадовало, будто бы для этого он только и пришел — чтобы условиться о переписке, потому что в письме можно сказать гораздо больше, чем с глазу на глаз. В письме можно сказать то, на что подчас не хватает духу. Однако на свои письма, а он отправил ей подряд три, обещанных ответов от нее он так и не получил, ни одного, хотя очень ждал, вынашивал в уме разные фразы и возможные ответы. И когда уже надежда угасла средь будней солдатских, вдруг в последнем письме сестрица Вероника — откуда она все разузнала? — пишет, что Наташа-коминтерка выходит, как говорят знающие люди, замуж за человека намного старше ее, у которого год назад умерла жена и который имеет бронь от призыва на фронт. И далее Вероника писала: “Сережа, милый братец, не смей переживать из-за этого. Я же знаю тебя, ты начитался разных романов и на все смотришь со страниц книг, ты будешь переживать. Но ты не делай этого. Понимаешь, ты совсем другой. У вас разные натуры. И не осуждай ее в душе, это ее дело, если решила выходить замуж. Вы совсем не пара. Поверь мне. И только бы вернулся ты домой живой и здоровый, только бы быстрее кончилась война, а в том, что ты будешь счастливым и что какая-нибудь девушка станет с тобой очень счастливой, я не сомневаюсь, Сережа! Только ты вовсе не переживай, братец дорогой. И поскорее возвращайся к нам… Скорей бы кончилась война, скорей бы…” Вот такое письмо. Да ведь, по правде говоря, ничего между ним и Наташкой-коминтеркой и не было, чтобы переживать. Но сестра решила все-таки успокоить его.
Теперь эта незадавшаяся история с Наташкой оставалась для него в прошлом, как полузабытый сон, как минувший урок в минувшем отрезке его девятнадцатилетней жизни. С тем он уходил на фронт, уходил, сам себя не понимая, со сложным чувством и огорчения, и освобождения от того, чему ненароком готова была поверить его неопытная душа. Он уходил из города своего детства прямиком на войну в походном марше, провожаемый бегущими по улице женщинами и детьми. Сожалел при этом очень, что не было среди них сестрицы его Вероники, которая, знай она об их срочной отправке, конечно же прибежала бы во что бы то ни стало повидаться напоследок.
Но во все времена говорят — мир не без чудес. Возможно, то был именно такой случай. Судьбе угодно было возместить отсутствие его сестры совершенно неожиданным образом. Об этом он подумал уже в пути, успокоившись немного после посадки по вагонам.
Когда они еще направлялись к вокзалу, среди женщин в толпе оказалась вдруг одна цыганка. Откуда она взялась, одному Богу вестимо, хотя в Саратове цыган в летнюю пору всегда полно. Цыганка бросалась в глаза и смуглым ликом своим, и медными висячими серьгами, которые отчаянно раскачивались на бегу, и яркой изодранной шалью, сбившейся на плече, и длиннополой, почти до земли, юбкой. Ну, цыганка и есть цыганка! Увлеченная, должно быть, уличным многолюдьем и движением, она тоже поспешала сбоку колонны, что-то выкрикивала, жестикулировала и, казалось, кого-то высматривала в строю. Солдаты в ответ недоуменно перемигивались, подталкивали друг друга в бок — глянь, мол, не тебя ли выискивает цыганка? А один даже сам объявился:
— Эй, цыганочка, эй, бедовая, я здесь! Слышишь? Да это же я! Ты меня ищешь погадать? — И очень был удивлен, услышав в ответ, что когда-нибудь она погадает и ему, а сейчас сама найдет того, кто ей нужен. И точно — как сказала, так и получилось.
Вскоре она опознала на бегу, возможно, интуицией, данной ей свыше, возможно, по прихоти своей, того, кого искала. К удивлению шагавших в строю, им оказался Сергий. Почему именно он? Почему именно к нему, к Сергию, обратилась цыганка, поспевая рядом:
— Слушай, парень! Слушай, молоденький, эй, ты, чернобровый, выдь на край, дай руку, я тебе погадаю на дорогу, поворожу на счастье!
Сергий шел в шеренге третьим с краю. Но дело было даже не в этом, а в том, что он не знал, как ему быть в эдакой невероятной для него ситуации. Никогда до этого ему не гадали, не ворожили, в семье все были далеки от разных магий — отец ни в какие карты не верил, мать тоже не очень верила приметам, а тут вдруг такая нелепица.
— Не надо! Я не хочу! — громко сказал он ей, улыбаясь и пожимая плечами, смущаясь своим отказом, понимая, что следовало бы извиниться, но как и за что? А тут еще свои подтрунивать начали — вот, мол, цыганка как знала кому гадать, инока нашего облюбовала. А кого же еще? Он, кажись, в Бога верит, вот и в самый раз!
Цыганка, однако, не отвязалась:
— Слушай, парень, не отказывайся — это судьба!
Кто-то подсказал ей:
— Его Сергием зовут.
— Сергий? Эй, Сергий, дорогой, эй, чернобровый! Я тебе говорю — это судьба, не отказывайся, Сергий, ты совсем еще молоденький, судьбу твою расскажу! Погадаю от чистого сердца. Все скажу как есть!
Но тут какие-то идиоты на нее зашумели:
— А ну, не мешай, цыганка! Видишь — идем.
— А я не помешаю, я только гляну на руку, на ходу!
— Отвяжись, надоела, не мешай, тебе говорят!
Цыганка была не молодая, но и не старая. И в лице ее, как показалось Сергию, не было обычного плутовства, наоборот — открытость, участливость, как у сестры его Вероники. Веронике всегда хочется что-то доброе сделать кому-нибудь, и нет ей оттого покою. Да, очень она походила на Веронику. Или так показалось ему оттого, что та крикнула: “Я тебе как сестра скажу! Как своему брату!”
И когда цыганка где-то затерялась в толпе, Сергию стало даже жалко, и в душе упрекнул он себя — следовало бы откликнуться, что же он такой стеснительный? Нехорошо получилось.
Тем временем они подошли уже к станции, прибыли всем строем, рота за ротой, взвод за взводом, и загудела, зашумела саратовская толпа, прихлынувшая вслед за войском. Эшелон уже стоял на путях с распахнутыми для посадки товарными вагонами. Длиннющий состав, конца-края не видно.
И началась предотъездная суета. Распределяли, какому взводу какой вагон, шумно передвигались вдоль состава, а тут женщины, дети путаются под ногами, и никакими силами не отогнать их.
Погрузка длилась довольно долго. Жарко было и тесно на перроне. В ожидании своей очереди на посадку Сергий совсем забыл о цыганке той, как вдруг она снова возникла в толпе. Нашла-таки, вот ведь какая настырная оказалась.
— Эй, Сергий! Я за тобой! Не отказывайся, парень, послушай меня, цыганку. Судьба велит тебе погадать на дорогу. Не отказывайся, на войну идешь, судьбу узнаешь.
Сергий даже обрадовался:
— Хорошо. Гадай, если так надо. — Положив вещмешок у ног, повесив автомат на шею, он с готовностью протянул ей руку.
Вот так у вагона перед посадкой, в окружении товарищей по взводу и состоялось гадание. Цыганка внимательно разглядывала линии руки, шептала что-то, шевеля губами, покачивала головой.
— Ой, битва будет великая, невиданная и неслыханная. Ой, судьба, судьба! И только солнце останется не забрызганным кровью, и конь ускачет без седока, — приговаривала она, не обращаясь ни к кому конкретно, а потом добавила, глянув Сергию в глаза: — Была у тебя любовь непонятная. И печаль принесла она тебе, да напрасную. И чистый ты, как бумага неисписанная.
Тут раздались сразу солдатские смешки:
— Ясное дело, втюрился наш чистый — да не вышло!
— Не вышло! — заступился с наигранным укором другой. — Вам бы только зубы поскалить. Инок-то наш пострадал, выходит, да ни за что, а она, стало быть, хвостом вильнула — и была такова! А он как был чистый, так и остался!
— Ты не слушай их, парень, ты меня слушай, — отмахнулась цыганка. — Теперь дай другую руку и слушай только меня.
Разглядывая левую ладонь Сергия, цыганка напряглась, примолкла на мгновение и затем торжествующе воскликнула: