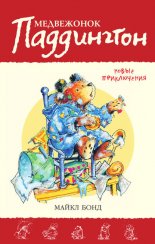Когда падают горы Айтматов Чингиз
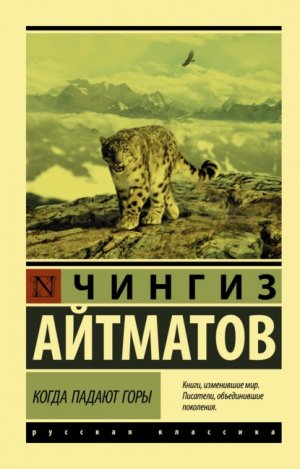
— Ты бессмертный! Сердце мне подсказало. Вот видишь — ты бессмертный! У тебя звезда такая! Я как знала! Потому и шла за тобой!
Все зашевелились вокруг. Сергий глупо заулыбался, не зная, как быть — то ли радоваться, то ли посмеяться да благодарственно поклониться для потехи, — и хотел было убрать руку, но тут вмешался один солдат. Кузьмин. Был такой зануда, въедливый мужик, ко всем придирался, если кто не так что-нибудь скажет. Поучать очень любил.
— Постой, постой, цыганка, ты что это, дорогая? — решительно покачал он головой. — Ты что-то не в ту степь поскакала. Что значит — бессмертный? Да разве может быть кто-нибудь бессмертным? Где это слыхано? Все на земле смертные — и только он один бессмертный? А мы, между прочим, не куда-нибудь, а на войну едем, и кто знает, кому как придется — кому пуля, кому — нет? Да на фронте сейчас смерть не разбирает, кому что нагадано. Подряд косит. Зачем же нас дурить?
— Я не дурю, я судьбу узнаю. А у него звезда бессмертная! На роду так написано, — не сдавалась цыганка. И добавила то, что устроило многих, хотя и было не совсем понятно: — А судьба выше смерти. От судьбы судьба ведется, а от смерти ничего не идет. У парня этого звезда бессмертная от судьбы!..
Кузьмин еще долго что-то ворчал, руками размахивал, как на митинге, доказывая нелепость цыганского гадания, и хотя он был прав, солдаты, однако, поверили почему-то гадалке. А когда надо было расходиться по вагонам, многие попрощались с ней за руку, и она не уходила с перрона до самой отправки и, когда поезд тронулся, бежала среди прочих женщин и детей за вагоном и махала Сергию рукой…
Жарко было. Не спалось в ту ночь. Колеса стучали во мраке, паровоз давал затяжные гудки, сердце сжимала ноющая тоска и тревога. Всякое думалось Сергию, уносимому волной истории на мировую войну. И среди прочего припоминал он то и дело цыганку ту. Запомнилась фраза: “И только солнце останется не забрызганным кровью… и конь ускачет без седока…” Что это могло значить? Непонятно и загадочно. Что же должно произойти, чтобы только солнце осталось не забрызганным кровью? И чтобы конь ускакал без седока? А звезда бессмертная? Какая такая звезда? И где она? Скорее всего все это байки. Ну какое отношение звезда имеет к человеку? Где звезды — а где человек. Но ведь есть судьба. И судьба с судьбой связана. А что такое судьба? И как может судьба вестись от судьбы?
Колеса стучали по рельсам. Солдаты лежали вповалку, храпели. Луна то появлялась в проеме дверей, то исчезала, звезды мелькали на бегу поезда…
Но вот что странно — как могла цыганка угадать про Наташку-коминтерку, про то, что письма ей писал, что ничего не вышло? Как она сказала, цыганка эта? Напрасная печаль? Значит, и печаль может быть напрасной. А что впереди? Как оно будет на фронте? Страшно, конечно. Раненые, прибывавшие в Саратов с фронта, рассказывали о войне. А теперь придется самому увидеть, какая она…
Сон не шел. И опять подумалось ему, что есть какая-то сила над всеми и над каждым, которая называется судьбой. И никто не властен остановить ее или объяснить. Наверное, от судьбы — война, от судьбы — жить или не жить, победить или не победить. Вот ведь едут они все на фронт — судьба велит. И потому они сейчас в эшелоне на нарах, и поезд мчит их на всех парах туда, где война с фашистами бушует. А там как будет? Опять же судьба! Убьют или не убьют? И от этого зависит, кто кого победит. Да, от того, кто кого убьет. Всем хочется, чтобы война поскорее закончилась, чтобы голод отступил. Об этом женщины и даже дети кричали в толпе, когда они шли по улице. А для этого надо воевать, надо убивать, надо победить. Выходит так. Дома отец с матерью спорят из-за этого. Когда пришла ему повестка и стали они обсуждать что к чему, готовить его, собирать, мать вдруг сказала с мольбой, присев на краешек стула и прижав руку к груди: “Сереженька, только не убивай никого, не проливай крови!”
С чего это она? Случайно или долго думала? И никогда уже не забудется, на всю жизнь запомнилось, как мать произнесла эти слова, глядя ему в лицо так, точно бы только что вернулась откуда-то издали, только что перешагнула порог и сказала то, о чем думала всю дорогу. И он сам словно бы впервые в жизни увидел свою мать, увидел, какие у нее глаза, уже утратившие былой золотистый блеск, какая она морщинистая лицом, какая старенькая в стареньком своем сатиновом халате, с платком пуховым на плечах. И странное открытие сделал он для себя — значит, все эти годы их скитальческой жизни по приволжским нефтепромыслам, когда он еще бегал босоногим мальчишкой, а она, мать, была крупной статной женщиной с косами русоволосыми, венцом уложенными на голове, озабоченной всегдашними делами по дому, детьми, школой да мужниным диабетом, все эти годы она, оказывается, готовилась, чтобы сказать ему то, что сказала, собирая его в армию. То, что мать взывала никого не убивать на войне, не проливать крови, очень смутило его тогда, и он неопределенно пробормотал:
— Ну что ты, мам! К чему об этом? Я же в армии буду. — И чтобы уклониться от разговора, стал перебирать в шкафчике учебники и книги. — Мам, у меня тут книги из библиотеки. Я их отложу, пусть Вероника отнесет и сдаст.
Но разговору тому суждено было продолжиться, потому что отец вмешался. Да, Николай Иванович всегда был прям и резок, вспыльчив даже, чуть что — спорил до ярости, возможно, оттого и с начальством не ладил, и печенью болел.
— Что значит — не убивай? — воскликнул он почти возмущенно. — Как это — не убивай, крови не проливай? Вот те на! А куда он уходит-то? Никак на войну. Ну, ты, мать, скажешь так скажешь, — и стал шарить по комнате в поисках курева. Мать прятала, он всегда хотел курить, когда волновался. Мать утверждала, что это от курева он такой худой и дерганый.
— Только не кури, Коля, — взмолилась она, — пожалей себя.
— Ну да, как тут не закуришь после того, что ты сказала Сергею. А ему на фронт завтра. И что он там будет делать?
— Вот потому и говорю. Пусть Бог рассудит. Все только и твердят — убей, убей! Враги нам смерть несут, мы им — смерть! А как потом жить на свете? Одни убийцы останутся на земле? Я, думаешь, не понимаю: ты не убьешь, так тебя убьют? А убьешь — все равно убийца. А что с Анатолием, зятем нашим? То ли жив, то ли нет, то ли убили его, то ли он убивал? И Веронике сказать боюсь. Так я уж сыну выскажу, что на сердце, — и заплакала молча, подавляя рыдания, не находя ответа и не в силах переубедить себя.
— Во-во, — продолжал отец с укоризной, — да тебя за такую агитацию во враги народа и в Сибирь упекут. Тут война идет мировая, кто кого осилит, или мы, или нас, а ты — не убий! Думаешь, мне собственного сына не жалко? Или Анатолия нашего? Только как же иначе? Солдат землю свою защищает, у него приказ. И если солдат уничтожит врага, то есть убьет, то по приказу, по долгу, и в этом его геройство!
Мать молчала, занятая латанием вещмешка для сына, а отец пустился в воспоминания молодости, когда он девятнадцати лет от роду, такой же, как сейчас Сергей, плавал в Первую мировую моряком-подводником. И рассуждения его сводились к тому, что уничтожение вражеской живой силы — это главное дело на войне. Вот, к примеру, они на подлодке своей потопили военно-транспортное судно с войском в Балтийском море. Вначале долго шли следом под водой. А потом торпедировали. И оба снаряда в цель, попадание в борт по ватерлинии. Корабль загорелся, стал тонуть. Они на подлодке ушли вглубь, переждали час, затем снова поднялись и стали наблюдать в перископ за происходящим на поверхности. Задрав носовую часть к небу, огромный корабль уже наполовину ушел под воду, а вокруг множество людей еще отчаянно пытались выплыть.
В перископ смотрели, конечно, командир да старшие офицеры, с их слов связисты каждую минуту радировали в ставку, в Кронштадт, выстукивали азбукой Морзе сводку об успешном выполнении боевого задания, а задание — это приказ. Приказ уничтожить врага — и все!
Вначале только в перископ подсматривали, как тонут люди. А потом, когда вражеский корабль затонул, убедившись, что вокруг нет никакой опасности для подводной лодки, полностью всплыли на поверхность. И дан был приказ — всем наверх, и весь экипаж вышел на палубу и построился перед командиром выслушать объявление благодарности. А враги тонули вокруг, их осталось уже совсем мало. Иные пытались доплыть до подлодки и не могли, а иных, доплывших, расстреливали из наганов, с вытянутой руки.
Вот она, война. На войне побеждает тот, кто убивает, а кто побеждает — тот прав. Всегда так было и так будет.
Мать не стала ни спорить, ни возражать. Только головой покачала. Потом заглянули попрощаться соседи, тетка с племянниками пришла. Вероника прибежала с работы, стала помогать матери по дому. И другие уже разговоры пошли до самой полуночи.
Жалко было теперь родителей — и мать, и отца. Мать хотела, чтобы он никого не убивал, а отец, чтобы его не убили, а потому требовал убивать врагов. Все то, что прежде казалось обыденным, домашним, обрело в пути самоценность и щемящую боль утраты. Прошлое с каждой минутой удалялось, оставалось позади. Вспоминалась Волга под саратовским нагорьем. Любимые летние места, зеленые островки и сияющая, магическая речная ширь, а на ней паруса. Но больше всего в детстве тянуло Сергия к большому железнодорожному мосту над рекой. Мост был высоченный, надо было голову задирать, чтобы, находясь внизу, на берегу, часами любоваться проходящими по нему поездами, прислушиваться к грохоту колес. Металлические пролеты моста гудели и дрожали, и он завидовал в такие минуты тем, кто куда-то ехал по мосту через Волгу, в какие-то прекрасные страны, описанные в книгах…
И еще припомнилось из детства, как в новогоднюю ночь ходили всей семьей в валенках через снежное поле к высоченной трубе с полыхающим факелом. Живой огонь, живой снег, нескончаемо падающий в зареве огня. Огонь безмолвно пожирает снежинки, а снег все идет и идет, любя огонь, не в силах отстраниться, густо валит… И огонь не гаснет, и снегу нет конца…
С годами многое ушло, изменилось. И вот теперь война — необходимость убивать или быть убитым. И иного выхода нет, только так. Сергий беззвучно заплакал во тьме, вспомнив мать, отца, сестру Веронику, плакал потаенно, среди спящих солдат. Как хотелось снова, взявшись за руки, брести по снежному полю к полыхающему в небе ночному огню.
А колеса стучали на рельсах, вагон раскачивался на бегу. Проносились стороной какие-то полустанки, подслеповато мелькнув в ночи огоньками. Эшелон, набитый солдатами и оружием, поспешал туда, где предстояло убивать или быть убитым. Быть убитым не зависело от твоей воли, никто не жаждет быть убитым и никто не знает, быть ли именно ему убитым. Убивать — дело воли, а на войне — обязательное, безусловное дело. И однако же, как скажешь себе: убить — не убить?
…И стучали колеса на стыках: убить — не убить, убить — не убить, убить — не убить…
Постепенно задремывая со слезами на ресницах, Сергий пытался представить себе войну, бои, то, как и кого придется убивать — выстрелом или врукопашную, этому его обучали все лето на берегу Волги. Пытался представить и то, кто будет делать то же самое, чтобы убить его. Старался вообразить себе того врага — немца, фашиста… И ничего не получалось — трудно было представить его так же, как трудно было представить по отцовскому рассказу тех, кто тонул возле подводной лодки. Волны захлестывали лица. Их было не разглядеть. А кто приближался, того расстреливали в воде… И он исчезал в пучине безмолвно и бесследно.
“Убить — не убить”, — стучали колеса. Сергий попытался припомнить немецкие слова, которые учил в школе, но тоже не уверен был, как могли звучать они на немецком: убить — не убить, убить — не убить, убить — не убить…
И мчался поезд во тьме…
P.S.
Текст рассказа “Убить — не убить” мне удалось найти в бумагах Арсена Саманчина. Я сожалею, что автору не было суждено увидеть свое произведение опубликованным.
Но читатели остаются всегда, как при жизни автора, так и — еще больше — после его смерти. И, как указано в записной книжке Арсена Саманчина, я буду читать вслух “Убить — не убить” на фронтовых кладбищах.
И слышу я зов Вечной невесты, о которой так много рассказывал покойный Арсен Саманчин! И я с ней…
Элес
Февраль 2006
Брюссель
1
Муж старшей сестры (кирг.).
2
Ровесники (кирг.).