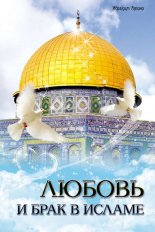Экспериментальная родина. Разговор с Глебом Павловским Крастев Иван

Г. П.: Номинально я был разнорабочим в ЖЭКе, как теперь киргизы в Москве. Имел свой дворницкий участок на Арбате, от Староконюшенного переулка до Нащокинского, где должен был убирать. Заколачивал двери квартир, куда вселялись то бомжи, то хиппи. Тогда здесь было много пустующих домов, выселенных на реконструкцию, и во всех были сквоты. За дизайнерский ремонт квартир руководства подпольной фирме Криндача ЖЭК предоставил под мастерские жилье в старых домах. Роскошное и по нынешним меркам. В квартирах были газ, вода, работали телефоны и даже стояла антикварная мебель, покинутая жильцами. В Староконюшенном переулке, против гнезда партноменклатуры, где доживала вдова Никиты Хрущева с сыном Сергеем, я оборудовал нелегальную мастерскую. Практически же с семьей и друзьями жил в огромном особняке в десятке метров от посольства Канады, неусыпно контролируемого КГБ. Тут я прятал тиражи «Поисков» и тут же выполнял заказы по дизайну. Элькон Георгиевич Лейкин, настоящий зиновьевец 1920-х годов, отсидевший за это несколько десятилетий, войдя, сказал изумленно: «А знаете, что последний раз я был в этом доме пятьдесят лет назад, и тоже на явочной квартире? Меня сюда посылал сам Григорий Евсеевич!» Имелся в виду Зиновьев.
Ты спрашивал, что было моей «визиткой»? Член редколлегии свободного московского журнала «Поиски», диссидент. С этим легко входил с улицы в любую академическую квартиру в Черемушках, в писательские дома на Ленинградском проспекте. Физический труд, конечно, отнимал время, зато психически меня сбалансировал. И у меня были друзья в разных средах, никак не пересекавшихся.
Оборотной стороной стало то неудобство, что за мной теперь сильно следили. Открыто, даже демонстративно за мной по Москве ездили машины наружного наблюдения. С утра выглянув в окно, я видел одну или две машины. «Наружка» с тобой целый день, куда ни пойди. Иногда их удавалось обмануть и оторваться, но этого никогда не знаешь наверняка. Перед демонстрациями на Пушкинской площади диссидентов обычно блокировали на дому. Чтоб уйти от слежки и назавтра попасть на Пушкинскую, я однажды заночевал в руинах Гостиного двора у подруги, против Кремля. Теперь тут выступает Путин, а тогда был мир руин, хиппи-сквотов и сорняков в рост человека. Там вечно журчала вода из труб, полопавшихся в незапамятные времена. Витальность Москвы меня радовала, и я смеялся в лицо любому, кто видел в 1970-х «годы застоя».
И. К.: Ты часто мне говорил, что в 1970-х появляется граница между либералами и диссидентами. Как она появилась и как исчезла?
Г. П.: Не граница – целая пропасть! Отход либералов от Движения после 1968 года переживался, и не мною одним, как измена. «Либералами» тогда в СССР называли партийных интеллигентов, близких к журналу «Новый мир» и требующих осуждения Сталина. Еще их называли «шестидесятниками».
Измена шестидесятников «семидесятникам», то есть диссидентам, была невероятно болезненной, из-за нее я расстался с несколькими хорошими людьми. Еще недавно среда была единой, партийные часто подписывали письма протеста в защиту инакомыслящих. Иосифа Бродского вернули из ссылки по обращениям партийных писателей-либералов в ЦК КПСС. До самого дела против Якира—Красина в 1972 году сохранялась иллюзия, будто инакомыслящие с либералами – одно сообщество. Одни больше рискуют, другие меньше. Мы действуем extra muros, они intra muros, но две общины, «экстра» и «интра» вместе – единая советская демократическая общественность, Демократическое движение.
Эту иллюзию долго поддерживали обе стороны. Вдруг знакомые перестают ходить к тебе в гости и не звонят тем, кого вызвали в КГБ и у кого был обыск. Другие, наоборот, именно теперь спрашивают: чем помочь? Дело Якира и Красина в 1972 году охватило сотни людей, видимо, КГБ рассчитывал одним ударом дисциплинировать среду интеллигенции. Появилось выражение «это не телефонный разговор», что означало: больше мне не звони. И пошло размежевание. Одни консолидируются в Движение – другие просто кладут трубку. Либерал из ЦК Анатолий Черняев зашел к Гефтеру в 1969 году напоследок сказать: «У вас уже не “новое прочтение” марксизма, а ваше личное, – прощайте, Михаил Яковлевич!» И на двадцать лет забыл его адрес.
Все это было после конца «Нового мира» – события, сравнимого в советской жизни с вводом войск в Чехословакию.
И. К.: Тогда журнал закрыли или просто сменили редакцию?
Г. П.: Журнал не закрыли, но главного редактора Твардовского заставили уйти, уволив сперва всех его заместителей. Твардовский после этого вскоре умер.
И. К.: В романе «Парк Горького» есть выражение, что герой встречался с «евреями, диссидентами и проститутками». Как еврейская тема присутствовала в диссидентской среде и как там смотрели на войны 1967 и 1973 года?
Г. П.: Как-то в разговоре Гефтер признался, что война 1973 года впервые сильно затронула его еврейство. В дни, пока наступление арабов успешно развивалось, он почувствовал, что у него в этой войне есть сторона, за которую ему страшно: Израиль. Его это удивило! Ведь еще в войне 1967 года Израиль для Гефтера был чужой. Но для еврейской общины в СССР именно Шестидневная война стала поворотной точкой, я это видел на друзьях-евреях еще в Одессе. Победа толкнула советских евреев к идентификации именно как евреев. Они гордились за новую еврейскую силу.
Война 1973 года состоялась внутри другой ситуации – разрядка с Америкой, евреев начали выпускать из СССР. Сахаров получил Нобелевскую премию, они с Солженицыным разговаривали с Политбюро твердо, почти ультимативно. Не прося уступок, как прежде, а прямо говоря властям: отступите! Зима 1973–1974-го сломала догму непобедимости системы, она обнаружила силу явочных действий в условиях, когда власть не смеет тебя уничтожить.
С 1970-го в СССР можно говорить о брежневском консенсусе, появилась официальная формула «и лично Леонид Ильич Брежнев». Советская власть в рамках брежневского консенсуса стала викторианской. Не в пример сталинской (или ныне российской), сходилась на том, что «довольно жестокостей». Политбюро в Кремле кричало обществу: «Стоп!», а мы ему отвечали: «Пошли к черту!» На этом рубеже Движение состоялось как диссидентство. Теперь оно было поддержано не одними левыми интеллектуалами, а правящим Западом. Хорошо помню это ощущение, когда по пустынной ночной дороге за мной едет машина «наружки» – и черт с ней, Запад за этой машиной присматривает!
И. К.: Как Запад присутствовал, скажем, в «Поисках»? Когда вы сделали журнал, для вас было важно, чтобы его читали за границей или нет? Вы хотели дистанцироваться или нет? Если там кто-то позвонил из BBC, была ли у вас политика, будете говорить или нет?
Г. П.: Советский Союз 1970-х, оставаясь полузакрытым обществом, был полон важных встреч с иностранцами. «Поиски» долго избегали пресс-конференций, пока один из нас не удержался – и за этим последовал обыск. Тут уж мы стали часто общаться с журналистами. Со странным чувством я читал заметочку о себе в New York Times: Historian makes a furniture – «Историк делает мебель». Квартира Гефтера тоже была любима иностранными гостями. Старик никому не отказывал в разговоре. Там я познакомился с такими именитыми историками, как Такер и Коэн, Моше Левин и Харуки Вада. Но реально помогали нашему журналу молодые французские «гошистки», влюбленные в Россию и иногда в кого-то из нас. При разгроме «Поисков» они одно время выпускали в Париже журнал L’Alternative как его продолжение. Лев Копелев и его жена, великолепная переводчица Рая Орлова, помогли связаться с западными журналами. Сильно помогали хозяйка журнала «Цайт» графиня фон Дёнхофф и Генрих Бёлль.
Мы начали переиздавать журнал на Западе, идеалистично воображая, что там его станут читать. Стало ясным, что нам нужны связь и защита, а значит, паблисити. Наш читатель жил в СССР, но самиздат как социальная сеть иссякал. Новой коммуникацией в СССР были ВВС, Радио «Свобода», «Голос Америки».
К концу 1970-х начал сказываться эффект полицейской тактики Андропова, которую он сам называл «правилом ключевого бревна»: аресты активистов сочетались с поощрением выезда других диссидентов из СССР. Подлая, но технически верная идея – демонтировать гражданские сети, выбивая координаторов, одновременно соблазняя их выездом на Запад. Это сработало. (Я долго не понимал, как Кремль пошел на такой революционный для системы шаг, разрешив выезды? Черняев объяснил, что ключевым для Кремля стал успех Гомулки с высылкой польских инакомыслящих как «евреев».) Активная среда запустела. Оставшиеся читали самиздат, но от участия уклонялись. Движение разбилось на массу читателей «запрещенки» и узкие кружки друзей арестованных, где сами ждали ареста.
И. К.: В 1982-м у тебя появляется тюрьма как особый опыт.
Г. П.: День ареста вообще жизненная кульминация. С тобой происходит нечто давно ожидаемое и главное. Мое первое чувство: все, жизнь моя удалась – я в тюрьме! И, конечно, горе провала, с осознанием всего, что не успел или скверно сделал. А я ведь оставил на свободе неразвязанный клубок отношений с женами, обе ждали детей.
Тюрьмой я «припал к народу», как прежде на стройке. Я твердо стоял за нормальность, хоть советский быт и был для меня неприемлем. Мое воспитание требовало подвести под инакомыслие основание нормы. Чем вообще могла стать «победа» диссидентства? Тем, что наша точка зрения станет здравым смыслом. Мы продвигали свои взгляды в системе успешно, как выяснится в перестройку – диссидентская повестка стала тайной повесткой Горбачева. Освобождение политических заключенных стояло в центре повестки. Но у диссидентов вовсе не было повестки реформы институтов, не было даже идеи реформы тюрем и лагерей, куда нас сажали! Ничем таким мы не занимались.
Соседям по камере я обрадовался несколько сентиментально. Двое из них были убийцы и один серийный, но во мне совсем не было отчуждения. Я принимал людей вместе с их преступлениями. Рядовые люди и прежде были моим кумиром, я знал их по стройкам и лесозаготовкам. Я жалел о недоигранной на воле партии, но чувство общности с зэками явилось сразу.
И. К.: Тебе не было там страшно?
Г. П.: Нисколько. В начале 1980-х в тюрьмах политических было немного, и нас уважали. Я сидел в позднесоветской тюрьме Бутырки, тогда более гуманной, чем теперь. Политических держали в так называемой специальной части Бутырок. На спецу не было общих камер на пятьдесят–семьдесят человек, куда набивали и по полтораста, – здесь находились небольшие камеры, на пять–семь коек. И в ссылку меня, как политического, этапировали в изоляции. В боксе столыпинского вагона шесть полок, их набивали человек по десять, не меньше. А я ехал в боксе один, барином.
Страшновато было раз на пересылке, где я ненадолго оказался в камере с детьми – малолетками. Взрослых запрещено сажать к подросткам, но на пересылке правила нарушаются и все сидят вместе – рецидивисты, малолетки, хулиганы. Для новичка это опасный момент, он незащищен. Малолетки в стае легко быстро теряют человекообразие. Они обменивались яростными модуляциями, где с трудом можно угадать элементы мата. Даже мат их был нечленоразделен. Они были стаей, а стая всегда может кинуться. Впрочем, на меня они внимания не обращали. Меня взяли под опеку воры-рецидивисты, их еще «полосатиками» называли – телогрейки с полосами, чтобы охрана отличала. Попав в их компанию, я удивился тому, как они разговаривают, – речь без мата, изысканно уклончивая. Не интеллигентная, конечно, но старательно избегающая чем-либо задеть соседа. Сейчас бы ее назвали «политкорректной», и в фейсбуке общаются не в пример грубей! В той среде Брежнева было можно назвать «козлом», а соседа – нельзя. Ведь тогда он обязан убить тебя, или ты его – к чему такие хлопоты? Среди рецидивистов я чувствовал себя уютно и в безопасности. Но не от вертухаев с киянками в руках, разумеется.
И. К.: Был ли момент, когда ты мечтал о побеге?
Г. П.: Только во снах. Побеги из Бутырок – любимейшая тема тюремных баек. Считают, что отсюда бежать нельзя. Но у воров был миф, будто Феликс Дзержинский бежал, согласившись для этого нырнуть с головой в «парашу» с дерьмом и дышать через соломинку. Но когда наш автозак на дороге из Ухты съехал в обледенелый кювет, мы все его выталкивали: рецидивисты, охранники, я – все вместе. И никто не пытался бежать.
А вот из ссылки я однажды сбегал. Меня толкнула на это сильная боль – из Союза навсегда уезжала Лина с моей дочерью Настей. Лину выгнали из института за связь со мной, доказанную уже тем, что она беременна. Она страшно трудно выживала. В 1985 году наши ангелы-троцкистки помогли ей уехать во Францию, фиктивно выйдя замуж. Узнав об этом всего за день до ее отъезда, я решился бежать в Москву. Это было возможно, потому что при аресте я успел спрятать паспорт и сохранил его в ссылке. (Я был довольно ловок и паспорт перепрятал на уже обысканной кухне в сахаре.) С паспортом я смог вылететь из Ухты. Билетов на Москву не было, из Ухты пришлось добираться в облет через Харьков, и я на два часа опоздал. Когда я влетел в дом, друзья только вернулись с вокзала, проводив Лину с дочерью в Париж.
И. К.: Ты хотел просить ее не уезжать?
Г. П.: Вероятно. Я не имел плана, был в горячке и готов на все – ведь я бросил место ссылки. Тогда запросто давали вторые срока, а за побег, если поймали – точно бы дали. Но я успел вернуться в Коми. Все вместе заняло два дня, и для меня обошлось.
И. К.: Надзиратели не поняли, что тебя нет?
Г. П.: На работе сказал, что запил, – обычное дело. А в милиции отмечался раз в неделю и, когда срок подошел, как ни в чем не бывало отметился. Дуракам счастье!
И. К.: Когда рассказываешь, я просто не могу себе представить этих трех дней.
Г. П.: Пока ехал в поезде через Харьков в Москву, я написал яростное письмо на случай ареста. Пафос его был в том, что я больше не хочу объяснять себя государству. Вот я такой, как есть, и не могу жить ни с вами, ни без вас. Отчаянный текст в никуда, на каком-то безумном коктейле ненависти и любви.
И. К.: Я где-то читал, что, когда ты был в ссылке, ты писал политические тексты в правительство…
Г. П.: О да, и не раз. Еще я написал массу несносно длинных писем-трактатов друзьям в Москву и в Америку.
И. К.: Что-то из них у тебя сохранилось? Ты их перечитывал или нет?
Г. П.: Да, но их неприятно перечитывать. Письма из ссылки кажутся мне теперь манипулятивными – ведь я не хотел признаваться себе, что не прав. Аресту 1982 года предшествовала моя яростная полемика в самиздате в пользу компромисса Движения с властью. Из ссылки я пытался ее продолжить, но после покаянного заявления на суде такое, конечно, стало немыслимым.
Признание вины перед государством для «семидесятника» означало самоликвидацию, моральное харакири, а моя личность оставалась вмонтирована в этос диссидентства. Согласно философии Движения, признавший себя виновным перед властью должен «сломаться». Я же ломаться отказался, хотя был к этому крайне близок. И неважно, что я никого лично не выдал. В письмах я убеждал, что мой компромисс с государством политический, а не моральный. Те письма ужасные, вообще странно, зачем было все это писать друзьям? Они и так меня простили.
Я написал несколько меморандумов для властей, особенно выразительны были первый и последний. Первый 1983 года о том, что СССР неправильно борется с Рейганом – антиамериканская пропаганда груба, ее надо строить тоньше, не так! Сегодня нечто подобное может написать кто-то из придворных аналитиков Путина. А последняя записка в 1985 году, что еще смешней, была об оптимизации нефтегазового и жилищно-коммунального комплексов Республики Коми.
И. К.: Из диссидента ты превратился в невостребованного советника власти? Кто из представителей власти тебя читал?
Г. П.: По месту ссылки меня читал алкоголик – уполномоченный КГБ Троицко-Печорска и все отсылал в Москву. С его московскими шефами я встретился в отпуске – да, ссыльному при «хорошем поведении» могли дать отпуск. Считалось, что у меня, как признавшего виновность по статье 190-1, поведение в целом удовлетворительное. Вскоре после смерти Андропова мне дали съездить домой в Москву. И, конечно, сразу повстречались со мной, узнать «чем дышу».
Там был подполковник, с которым я виделся на обыске января 1980 года. В тот день, когда Сахарова высылали в Горький, у меня был долгий обыск, который должен был закончиться арестом. Взяли кучу всего, но опять-таки журнала «Поиски» не нашли. А он был на виду – в кармане, пришитом к ковру и замаскированном женой под ковровый узор. Привезли на Лубянку, показали ордер на арест, вызвали по телефону конвой… я гордо отказывался говорить. Как вдруг они мне предложили уехать на Запад. Я письменно обязался покинуть страну «в течение тридцати дней». Но выйдя с Лубянки, я передумал. У Марины был сын Митя, я не мог его оставить. Уже начиналась новая любовь. В том январе был долгий-предолгий разговор с Арсением Рогинским, тогда шеф-редактором самиздатских сборников «Память», – стоит ли нам уезжать на Запад? И решено было: нет, не стоит. Таким, как мы, нужны «бодрящие покалывания извне», мудро убеждал меня Сеня, – без них мы не можем работать. Его самого посадили через год.
После двухдневных переговоров в КГБ мы с ними составили трехстраничный меморандум – казуистическое соглашение о том, на каких условиях я останусь в Советском Союзе. В нем я отказывался от политической деятельности – «как официальной, так и антиофициальной», долго споря по каждой формуле. И мой партнер по переговорам подполковник сказал: «Вот какой интересный вражеский документ вышел, Глеб Олегович! Буду разбирать его на семинарах в высшей школе КГБ».
Но тогда еще шел январь 1980 года. В 1984 году, когда мы снова встретились на Лубянке, все переменилось. Шло жестокое время, Движение решили подавить окончательно, что и было сделано. В Москве я не застал прежней среды – люди ушли в быт, жались по семьям, общались мало, не образуя влияющего фактора. Альтернативное брожение ушло вглубь аппарата, став невидимым. И мой подполковник говорит: «Глеб Олегович, вы тут собрались вести переговоры с государством – это с каких же позиций? Рейганом занимаются другие люди. С высоты табуретки поучаете Политбюро ЦК КПСС? (До того я рассказал ему, что в ссылке научился делать табуретки.) Сперва сделайте карьеру и заслужите позицию, с которой к вам прислушаются в СССР. Как академик Арбатов, например. В ЦК серьезные люди, о чем им разговаривать с вами – о тюремных вшах?»
И. К.: Как воспринялся ваш призыв к компромиссу между Движением и властью?
Г. П.: Когда меня в 1982-м посадили, вокруг этого пошла некая политическая игра. Игрунов вел переписку с КГБ обо мне, для него самого довольно опасную. Мои самиздатские тексты 1981–1982-го о компромиссе Игрунов расценил как новую позицию. В спорах со столичными диссидентами он пытался сформировать курс компромисса. Вступая с КГБ в переговоры о моем освобождении, он верил, что в тюрьме я останусь в рамках независимой позиции, которую хранил до ареста. Но я ее не сохранил.
Есть ряд его меморандумов того времени. О том, что власть не должна увязывать компромисс с унизительным требованием отказа диссидента от взглядов. Но для КГБ инквизиционная задача и была центральной: сломать отступника! Ведь если нет твоего отречения от взглядов, то и модель власти надо переосмыслить, официально допустив в ней статус лояльных не-советских людей. Но тогда система превращается в отчасти плюралистическую, что недопустимо.
И. К.: Как твоя позиция выглядела в глазах диссидентского сообщества? Они думали, что ты испугался, что продался или что ты сошел с ума? И как ты сам сегодня видишь свою тогдашнюю стратегию компромисса?
Г. П.: В оценках друзей смешались все три твои гипотезы. Ведь я нанес удар по доверию, оскорбил их чувство истины. Мой поступок выглядел просто отвратительно – активист Движения под судом публично признаёт себя виновным в клевете на советский строй!
Годом раньше диссидентскую среду расколол выход из тюрьмы другого редактора «Поисков» – Виктора Сокирко. Он вышел из Бутырок без суда и с более умеренной формулой «разоружения», чем моя, и все же полемика вокруг этого была яростная. Я защищал в Сокирко героя компромисса и надолго поссорился с Померанцем. В последнем, восьмом номере «Поисков» я намеренно поместил материалы Куроня и Гавела о политике диалога восточноевропейских диссидентов с властями. Попытался развернуть дебаты о масштабной политической сделке Движения с государством, об условиях и рамках компромисса. Попытка провалилась. Те, кто шел на компромисс ради освобождения от лагеря, как я или Виктор Сокирко, деморализовали остатки Движения.
Сегодня я вижу, что такой спор был бы возможен на подъеме Движения. В дни разгрома слово «компромисс» звучало как сигнал капитуляции.
V
Алкивиад. Темные девяностые
В ссылке я не знал, что у Горбачева родимое пятно, – на портретах его фотошопили. В новой реальности возникает вытесненная в диссидентстве тема ресурсов действия. Журнал «Век XX» в дебатах гласности стал интеллектуальным внутренним оппонентом демократов. Перестройку вспоминают, как любовницу: этих она обманула, у тех ее похитили Ельцин с Путиным. Третьи не помнят, что с ними случилось, но твердо знают, что «потеряли все». Перестройка – это картина травмы. Украина уже не была для меня делом принципа: раз нет государства Советский Союз, то и государству Россия не бывать. Родина рушилась. В тот день я записываю в блокнотик: «Государства у нас больше нет. Есть территория, населенная лицами, нуждающимися в продуктах чужой цивилизации: товарах, правилах и безопасности. Что делать советскому космополиту в расово чистом государстве Ельцина?» Я ждал, что Москва шатнется в сторону национал-демократии. Важный фактор постперестройки: у каждого возник выдуманный им враг. Все на воображаемых фронтах боролись за спасение иллюзорных идентичностей. Я жил в России, как в гетто, видя перспективу жизни в упадке. Моим героем теперь был Алкивиад, с его запальчивым вызовом: «Я им докажу, что я еще жив!»
И. К.: В годы перестройки появляется новый Глеб, редактор журнала союзного значения, публичный интеллектуал. Как появился «Век XX и мир» в твоей жизни?
Г. П.: Ссылка кончилась, и в декабре 1985 года я вернулся в Москву. Перед этим выпустили из лагеря лидера «Поисков» Валеру Абрамкина, уже после его повторного срока. Он провел на зоне шесть очень тяжелых лет. Время стояло мрачное, болись, что дадут третий срок. Когда я вернулся в Москву, от Движения остались всего несколько десятков активистов. Группки, ориентированные на выезд из СССР, жили под надзором. Несколько заявлений для западной прессы, КГБ проводит обыск – и всех высылают вон.
Москва запустела. Конец Движения выкинул меня из времени прямо накануне того, как Событие, которого все устали ждать, пришло из Кремля. В ссылке я телевизор не смотрел, в 1970-е я советское телевидение вообще старался не видеть. Вдруг гляжу – с Новым 1986 годом поздравляет советский народ человек, а у человека пятно на лбу! Для меня это было потрясением. Я не знал, что у генсека родимое пятно, на портретах его фотошопили. Однако, по драконовскому указу того же Горбачева, с лета 1985 года политическим запретили прописку в столицах. Я был не вправе жить в Москве, где была моя семья, Марина с детьми – Митей, Наташей и Сашей. В проекте уже были Юля с Ульяной. На Запад я твердо решил не уезжать. Единственное, что оставалось моей твердой позицией, – Гефтер и жизнь в России.
И. К.: Почему? Это интересно.
Г. П.: Причина в ранее сделанном выборе. Теперь все тогдашнее трудно объяснить. В рамках его «выбор» между женами в тюрьме казался мне выбором ради Гефтера. Лина для меня была принцессой Движения. Они с Виктором Томачинским вытащили меня из-под стен оцепленного Мосгорсуда после моей неудачной «атаки» и прыжка с крыши. С ногой, переломанной буквой Z.
Марина казалась мне Герой, богиней семейственности, душевного порядка и ясного смысла. В камере я надумал, будто с Линой обязан остаться диссидентом, хотя внутренне от Движения отошел. Но как диссидент, я не смогу работать с Гефтером – меня скоро опять посадят. Зато с Мариной считал себя вправе уйти из политики к кабинетной работе. Выбор, конечно, был софистически ложный, мнимый. В любом случае я не бросил бы Гефтера и не стал кабинетным ученым, а Гефтер бы не уехал на Запад. После разгрома «Поисков» и особенно моего отречения он ушел в штудии декабристских судеб. Прислал мне в Коми мантру Пушкина: «Все должно творить в этой России и в этом русском языке». В ссылке я возобновил работу с ним и продолжал, вернувшись. И все-таки в Москве мне было тоскливо. Диссидент, пусть раскаявшийся, остается зелотом. А зелот не знает никого, кроме праведных душ и слуг сатаны. Если праведных не осталось, он одинок и в аду.
Но тут опять стряслось своевременное чудо. Летом 1986 года, бродя по Арбату и раздаривая девушкам зонтики, я спустился в подвал клуба «Наш Арбат». Внутри его был еще один крохотный молодежный клуб «Компьютер». До того я о клубах не знал или они мне были смешны. В советское время понятие «клуб» и роль «общественника» означали нечто политически ничтожное. В подвале сидели школьники за компьютерами Amstrad, подаренными клубу Гарри Каспаровым. Персональные компьютеры в Советском Союзе тогда были новость и огромная редкость. Из «Комсомольской правды», где работал Валя Юмашев, поступали письма читателей, нам их давали разбирать. Тогда и это было смелое начинание – читательские письма считались секретной документацией. А редакция передавала их в клуб, то есть нам, шалопаям.
Из этих писем я узнал, что вольных сообществ в стране сотни и сотни! Оказалось, внутри якобы тоталитарной системы действуют тысячи параллельных структур – научные, театральные, воспитательные, музыкальные. Я начал знакомиться с ними и знакомить их друг с другом. Среда неформальных групп и сообществ стала мне вроде Tinder, непримиримое диссидентское зелотство мое улетучилось. Мне вдруг открылся обширный живой мир советского общества grass roots. Та самая «советская недемократическая человечность» из рассказов Гефтера явилась мне в лицах. Тысячи людей вне власти занимались публичными делами и помогали жить другим. Они шли по жизни привольно – такими я видел героев романов Стругацких о будущем «мире полдня». Но они не были диссидентами, ибо ничему не противостояли!
Молодые люди изобрели новую медитативную игру, она называлась «хэб». Лидер их клуба Витя Золотарев год спустя создаст на его основе ядро Конституционно-демократической партии. А рядом – клуб «Здоровая семья», адепты профессора Чарковского, где женщины рожали в воде. Или семинар Егора Гайдара, там обсуждали, как реформировать советскую экономику.
Образовательных, педагогических клубов было особенно много. В центре их была идея воспитания человека – нечто вроде «советской Касталии». О коммунарах-воспитателях я знал прежде от друга-сибиряка, писателя Бориса Черных, одного из основателей движения. Коммунарское движение базировалось на инфраструктуре пионерлагерей, в нем участвовали десятки тысяч человек. Всеми двигала идея чистоты: дети не должны замараться коррупцией взрослых, уметь заслониться от авторитарных семьи и власти.
Уже в сентябре 1986-го мы, несколько человек, создали Клуб социальных инициатив (КСИ) – первый легальный независимый политический клуб в Москве. Его президентом стал Гриша Пельман, лорд теневой Москвы. Создав клуб, начали объединять другие клубы в то, что назвали «советским неформальным движением». Начиналось время чудес. Времена были новые, но еще не такие уж новые, понимаешь? Сахаров был еще в Горьком, а политзаключенные – в лагерях. В дни, когда был создан КСИ, Анатолий Марченко начал трехмесячную голодовку, от которой погибнет. Я не имел права жить в Москве – милиция стерегла у дома, составляя протоколы о нарушении закона. В том году я подписал второй протокол, по третьему могли посадить. А мы зовем на заседания КСИ академика Татьяну Заславскую и обсуждаем «неформальную “Солидарность”». Меня ищут с милицией, а я начал печататься в советских журналах, правда нелепых, вроде «Клуб и художественная самодеятельность», где просто не знали о том, кто я. Какой-то Павловский пишет про молодежные клубы.
В новой реальности встала тема, вытесненная в диссидентстве, о ресурсах действия. Теперь она звучала как право организации юридического лица и открытия легального расчетного счета. У клубов были права на хозяйственную деятельность. И закипают страсти. Уставы переписывают под право клуба оперировать деньгами, а вскоре и кооперативы в это включатся. То, на чем позже вырос «Менатеп» Ходорковского, – синтез клубов с молодежными техническими центрами.
Процесс несся быстро, порождал парадоксы. Вот момент осени 1986-го: наш клуб КСИ на приеме в райкоме партии Москвы в старинном особняке графа Орлова на Арбате. В качестве представителя движения неформалов я с друзьями чего-то жестко требую от партийных. В то же время у меня дома милиция, пришли меня посадить. А тем же вечером звонок из паспортного стола – Ельцин в порядке исключения дал мне временную прописку в Москве!
И. К.: А те ребята, с которыми ты был вместе в клубах, – они знали, что ты сидел?
Г. П.: Да, конечно.
И. К.: И это было не проблемой?
Г. П.: Уже нет, это все переставало быть важным. Там в клубах я встретил Андрея Фадина, бывшего члена и идеолога подпольной левой группы «Варианты» в ИМЭМО. В нашей политической теории Фадин известен концептами «модернизации через катастрофу» и «семибанкирщины». В отличие от «Поисков», их группа плохо себя повела на следствии, их выпустили, но Андрей еще был в депрессивном состоянии. В конце 1986 года он сводит меня с журналом «Век XX и мир», а три года спустя я приведу его в «КоммерсантЪ» редактором отдела политики. Андрей погиб в автокатастрофе в 1997 году.
И. К.: А чем был журнал «Век ХХ и мир» до этого? Какой-то советский, неинтересный?
Г. П.: Журнал основали в 1968-м как орган рептильного Советского комитета защиты мира. Маленький бюллетень на нескольких языках, но бесцензурный – через Главлит он не шел, как и газета «Правда». Редактор печатал материалы под личную партийную ответственность. Редактором был Анатолий Беляев, тип героев Твардовского. Советский русский мужик с чувством правды и мечтой увидеть, как однажды придет ее носитель во власти. Редкая фигура среди высшей номенклатуры, он рискнул взять меня в журнал. Конечно, разрешение на это он получил в ЦК у Анатолия Черняева. Их эксперимент со мной предшествовал решению Горбачева об амнистии диссидентов.
И. К.: Твой первый текст в «Век XX и мир» был о чем?
Г. П.: Первый мой текст назывался «Свобода помнить», страстное эссе против тогдашних лицемерных «коллективных прозрений». Термин Юрия Власова, советского атлета (после он обезумел и стал антисемитом). Он подметил, что в советской прессе вдруг становится много коллективно прозревших. В статье я вольно напоминал о прошлом, где православные соборы и памятники Сталину испарялись бесследно за ночь. Неужели нас еще раз ждет повторное беспамятство сверху? Я настаивал на значимости пережитого опыта и общей памяти. В статье я упоминал о диссидентах, а в марте 1987-го это еще был скандал.
И. К.: Ты появился в публичной сфере перестройки как критик коллективного прозрения, твой нонконформизм теперь – антиперестроечный. Наверное, этим ты понравился части власти?
Г. П.: Едва ли. Я пришел с идеей – вспомнить всех. Не валить все на Сталина с Брежневым, а обозреть опыт и заново продумать весь событийный исторический ряд. Беляеву это было близко. Уже пошел вал пафосной риторики оживившихся «шестидесятников». Ему было важным не влиться в новый мейнстрим, а найти новые основания. Он за меня поручился, и я получил охранную «корочку» – удостоверение корреспондента Комитета защиты мира. По тем временам это было близко к статусу корреспондента «Правды». Тогда было много так называемых «хозяйственных дел». Запреты в позднесоветской экономике стали разрушительно абсурдны, но тех, кто их обходил, все еще ловила прокуратура. С «корочкой» и диктофоном я вторгался в любой кабинет; несколько уголовных дел мне удалось остановить. И это при том, что сам поначалу не имел права жить в Москве! Смешно, не правда ли?
И. К.: Мне психологически трудно представить людей того времени. Что же потом случилось с Беляевым и журналом?
Г. П.: Беляев превратил журнал в независимый и дал мне полный карт-бланш. Но все, что происходило после конца Союза, было ему не близко, и он вышел на пенсию. Тем не менее именно Анатолий Беляев в конце 1980-х первым собрал вокруг себя в редакции клуб «Московская трибуна» и оргкомитет знаменитых митингов в Лужниках. Возник постоянный круг авторов «Века XX»: Галина Старовойтова, Юрий Карякин, Леонид Баткин, Алесь Адамович, Лен Карпинский. Редакционные круглые столы стали основой «Московской трибуны», затем перейдя в ядро Московской межрегиональной группы.
И. К.: Какой тираж был?
Г. П.: В период гласности тираж поднимался до 400–500 тысяч, но рост тиражей шел у всех. Мы первыми в СССР напечатали Солженицына, его «Жить не по лжи». Самым скандальным, как ни странно, оказалось первое интервью Гефтера летом 1987 года. По поводу него была даже отдельная записка председателя КГБ Чебрикова Горбачеву. Ведь само имя Гефтера почти двадцать лет запрещалось упоминать в советской прессе. Чтоб подстраховаться, Беляев просил меня взять у Юрия Афанасьева предисловие к интервью. Афанасьев, историк, ректор университета, один из будущих «грандов гласности», написал несколько строк, и Беляев напечатал запретного историка-ересиарха. Чебриков тревожно обращал внимание Горбачева на публикацию в журнале «Век XX и мир» интервью, где вместе с проклятым именем Гефтера впервые вводится в легальный оборот проклятое слово «сталинизм».
И. К.: Почему Гефтер был важен и опасен для власти? Ведь он не был организационной фигурой.
Г. П.: Конечно, Гефтер не политический организатор. Но он был «странным аттрактором», конфигуратором интеллектуальной среды 1960-х и мостками от нее к диссидентским 1970-м. Два раза, в начале 1970-х и в начале 1980-х, рассматривался даже вопрос о его аресте.
И. К.: А был ли ты конфигуратором среды в 1980-е?
Г. П.: Да, тогда впервые. К концу 1980-х у неформалов я входил в первую десятку лидеров. При организации первого демократического митинга в Лужниках стоял на трибуне рядом с Сахаровым и Ельциным. Тогда я повстречался с Владимиром Яковлевым, сыном Егора, и мы организовали кооператив. Возникает частная информационная служба «Факт», я резко ухожу в другую среду. Из неформалитета и политики я отступил в мир медиа. В 1989-м кооператив «Факт» создал информационное агентство Postfactum, я стал директором. Агентство финансируется как часть «Коммерсанта». Строю корреспондентскую сеть, но сеть – не прибыль, а затраты, деньги-то зарабатывает «КоммерсантЪ». Потом и 1990-й, и 1991-й, и 1992-й пройдут в мучениях поиска инвестиций в агентство.
Неформалы политизируются и все меньше меня привлекают. Я публично очень резко выступил против идеи «народных фронтов» и яростно воевал с популизмом. Но сам журнал «Век ХХ и мир» был популярен, а я был известным гражданским лидером. Мне предложили выдвигаться на I съезд народных депутатов 1989 года, только мне это было не интересно. Не отвечало моей методике – катализировать процесс, самому оставаясь вне его. Почти случайная встреча с Джорджем Соросом в Москве осенью 1989 года – и я стал директором программы «Гражданское общество» в его фонде. Теперь я строю гражданское общество снизу, мой пароль open society и параллельные структуры. С Михником в 1989-м мы обсуждали идею нашего клуба превратить «Мемориал» в советскую версию «Солидарности».
Журнал «Век XX» в дебатах гласности стал интеллектуальным внутренним оппонентом демократов. Мы давили на прессу слева, расширяя круг имен и тем, – и давили справа, требуя сочетать революцию с осторожностью. Первыми в СССР напечатали Солженицына, Гефтера, Карпинского, Сергея Ковалева, Ларису Богораз, Александра Дугина, Анатолия Чубайса, Симона Кордонского. В редакцию приходили самые разные люди. Приходил Гайдар, забегал Петр Авен. Старший Чубайс приводил с собой младшего брата Анатолия и, не давая ему разговаривать, сам за него говорил. Ходорковский и Невзлин по дороге с работы забегали поболтать.
Фигура Ельцина меня страшила, но и Горбачев разочаровал. В журнале я публиковал злые эссе о деградации перестройки. Впрочем, разногласия еще не мешали среде перестройки ощущать себя единым сообществом советской меритократии.
И. К.: Когда сегодня ты смотришь на перестройку, как ты ее оцениваешь: что достигнуто и что провалено?
Г. П.: Когда в России отмечают юбилей перестройки, заметно, что под видом анализа чаще делятся своими переживаниями. Никто не пытается разобрать феномен. Перестройку вспоминают как любовницу: этих она обманула, у тех ее похитили Ельцин с Путиным. Третьи вовсе не помнят, что с ними было, но бредят, что «потеряли все». Перестройка – это картина травмы.
Перестройку изображают как прыжок от тоталитаризма к свободной России, но пропускают реальность горбачевского переходного государства. Союз Горбачёва был обществом, пять лет искренне трудившимся над своим обновлением. Да, некомпетентно. Но целая пропасть между сталинской империей 1949 года, где предгосплана Вознесенского зверски пытали в вагоне, кружившем вокруг Москвы, и Союзом 1989-го, где академик Сахаров полемизировал с генеральным секретарем ЦК КПСС перед телекамерами. Возможно, в конце 1980-х здесь было самое честное из европейских обществ, искренне желавшее всякого добра себе и миру. А его приравняли к «тоталитарному злу» и заживо похоронили.
У нас нет модели, объясняющей перестройку, поскольку нет модели советского – одну утопию убили другой. Пора взглянуть на эпоху гласности как на пропагандистскую кампанию средствами советских масс-медиа. Все скрытые советские фантазии вышли наружу и оказались взаимно несовместимы. Мечта о «рае немедленно», мечта о свободе, мечта о суверенитете как независимости от мира. Мечта о царстве умников одновременно и в конфликте с мечтой о России простых мужиков, без очкастых наставников.
При виде Горбачева советская интеллигенция решила, что пришел Меценат. Настало ее царство. Теперь они с комфортом поселятся вокруг власти, как ее мудрые наставники-бнефициары. Но простой советский человек хотел иного – избавиться от партийных хитрецов, наказать начальство, а товары распределять по справедливости. Интеллигенты стали ездить на Запад, расширяя запросы, а человек массы, наоборот, лишился скудного прейскуранта ранее доступных ему товаров и услуг. Одни голодали по власти, другие – по потребительскому минимуму.
И. К.: Где ты был в 1991-м? Что делал в те три дня? О чем думал? Кстати – как ты вообще относился к людям на улице?
Г. П.: А знаешь, что первый опыт мятежной толпы на улице я получил еще в одесском детстве? Острый и незабываемый. В начале 1960-х годов по Союзу прошла волна мятежей, известнейший из которых кончился расстрелом в Новочеркасске. В Одессе бунт был годом раньше, в 1961 году на Слободке недалеко от моего дома. Он развивался по схеме всех тогдашних бунтов, в ответ на нехватку продовольствия и хамство милиции. У хлебного магазина арестовали солдата, который выступал против нехватки хлеба: хлеб стал желтым, его пекли наполовину из кукурузной муки. Толпа отбила солдата и пошла крушить милицию. Сбежались рабочие, милиционеров пытались было бросить под трамвай…
Слободка разбушевалась. Родители дома шептались, будто «вешают милиционеров». Побунтовав, мятежники разошлись, и меня, второклассника, одного отпустили в школу. Шел по Конной улице, где тогда была стоянка грузовых подвод с битюгами. А навстречу группами возвращался с мятежа народ. Будучи ребенком, я еще на расстоянии ощутил угрозу. Мужики шли мрачные, злые, вдоль мостовой, покрытой конским навозом, и, поравнявшись со мной, один из них больно пнул меня в бок. Я слетел на проезжую часть в навоз, было стыдно и страшно. Моментальный оттиск страха с непониманием – за что? – оставил внутри ранку.
Но в 1991-м толпы на улицах были знаком конца перестройки, а слабость Горбачева – государственной слабостью. Как публицист я требовал от интеллигенции остановить «сползание в ельцинщину». Для меня Борис Николаевич стал знаком обрушения либерального Союза в архаику, в допетровскую Русь.
Продолжая примыкать к либеральному фронту, мой «Век XX» стал центром полемики с ельцинизмом. Но и медлительность Горбачева стала невыносимой. Я был за Союз, но его президент выглядел образцом слабости. После расстрелов в Литве в январе 1991-го я напечатал статью «Михаил Горбачев – типичный советский интеллигент». Чем шокировал демократов, ведь тогда считали, что интеллигент обязан быть ельцинистом. Но во мне проснулся диссидент. Я писал контрреволюционные эссе, приравнивал московскую демократию к обезьяне, сорвавшейся с цепи. В те дни я разделял мысль «Вех» о том, что русские демократы безгосударственны, а мне возражал Максим Соколов, тогда большой демократ. Ныне он консерватор и ультрапутинист.
В голове мелькали мысли, что я обязан остановить Ельцина, человека, опасного для всего, чем я дышу, – но как? И чем, статьями в «Московских новостях»? Все, что я предпринимал, было смешным. Весной 1991 года с Денисом Драгунским и Гасаном Гусейновым мы решили создать журнал «Консерватор» и подбирали материалы для него – Бёрк, Токвиль, Победоносцев… Это в 1991 году-то, в самые дни войны в Заливе!
В августе 1991-го я начал было нащупывать политический контакт с горбачевскими властями, чего никогда прежде не делал. 17 августа 1991-го отправился в дом на Пушкинской, где тогда был Кабинет министров, пытаясь пробиться к премьеру Павлову. Я был руководителем известного информационного агентства Postfactum, одного из двух крупнейших частных агентств в России, и собирался поставить его на службу союзной власти. Премьера не было, меня принял Александр Торшин, тогда он работал в аппарате Павлова. Я горячечно говорил, что надо положить конец «безумию», Торшин посочувствовал, все кончилось ничем. Тут я понял, что в кризис ставка на параллельные структуры гражданского общества бесполезна.
И. К.: А что ты думал тогда, что надо делать?
Г. П.: Моя позиция была – хватит уступать, Горбачеву нельзя быть тряпкой. Мне не понравился Ново-Огаревский договор, который не спасал Союз, поскольку внутри его возникла сепаратная «Россия». Но государственной альтернативы у меня еще не было. Я считал, что Горбачеву надо показать Ельцину зубы, разогнать «российские структуры» внутри СССР, став центром консолидации всех, кто за Союз. Но когда утром 19 августа позвонили из моего агентства и сказали, что на президентском аэродроме «Внуково» перекрывают летные полосы (я узнал об этом раньше Ельцина), – меня охватил спазм либеральной злости. Эти дураки думают нами распоряжаться? Диссидентски острое чувство личного суверенитета вскричало: нет!
Я знал, что с Ельциным общество потеряет власть, добытую с Горбачевым. Но к ГКЧП отнесся как к эксцессу слабоумных, не ведающих страны. Я не увидел в них сильной альтернативы Горбачеву, да и «коллективное руководство» в СССР считалось синонимом слабости. На три дня в августе я стал сторонником Ельцина, но лишь поскольку три дня Ельцин выглядел горбачевцем. Ну, и еще мне очень понравилось, как он залез на танк.
У меня был друг Илья Медков. Юноша из московской физматшколы поработал за копейки в кооперативе «Факт», затем быстро ушел от нас, и коммерческий гений сделал его миллионером. К августу 1991-го он уже имел банк и личную разведслужбу. Та фиксировала перемещения военных и передавала нам, а мы – в Белый дом. Новости агентства перегоняли через Internet (тогда еще не глобальную сеть, а почтовую систему) в Калифорнию участникам соросовской программы развития гражданского общества. Три дня я, оголтелый контрреволюционер, работал на революцию Ельцина! Но в толпе под ельцинским Белым домом быстро понял, что здесь «не мои». Я видел людей, кипящих ненавистью равно к ГКЧП и к Горбачеву, все тут были ельцинисты. Работая для Ельцина, я ельцинистом не стал. Для меня он был лишь досадным приложением к задаче вернуть Горбачева и спасти Союз. Ради этого надо сопротивляться ГКЧП, но Ельцина мне не нужно!
И. К.: А когда у тебя настало ощущение их краха? Как всегда, когда слабая власть хочет сыграть в сильную, а люди в это не верят?
Г. П.: В этом драматургия Августа: советские люди оказались слабаками, едва они попытались изобразить себя силой. Это касалось и ГКЧП, и команды Ельцина, и отчасти даже собравшихся у Белого дома. Я был на той смешной пресс-конференции ГКЧП, где «диктаторы» выступили как совет ветеранов. Катастрофой был уже вид этих людей, их жалкий язык. И то, что это рассмотрела страна, стало их концом. От агентства Postfactum я послал вопрос, что они собираются делать с Горбачевым, в ответ Янаев промямлил нечто двусмысленное. Я повернулся и вышел – черт возьми, тогда уж пусть лучше Ельцин! Было ясно, что ГКЧП проиграл. Илья Медков, а он идейный антикоммунист и те дни провел на баррикадах, пришел грустный-грустный – маленький курчавый еврей с выразительным носом, настоящим «шнобелем». Рассказывает: «Спускаюсь с баррикады у Белого дома, а пьяный демократ мне: “Что, жидяра, проиграли твои коммуняки? Ельцин здесь царем будет!”» Илья и говорит: «Все, Глеб, – с демократией я завязал!» Осенью 1991-го он разместил в центральных газетах объявление, где приглашал на работу в свой банк «бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС и КГБ СССР».
И. К.: Стала ли улица сувереном ситуации?
Г. П.: Бесспорно, нет. Уже неделю спустя улица политически стала ничем. Зато лидеры демократов все больше опасались «уличной анархии», и я понял, что теперь я в тактическом союзе с моими врагами-ельцинистами. Зазвучали призывы мэра Москвы Гавриила Попова и мэра Питера Собчака – довольно беспорядков! Прекратить «охоту на ведьм»! Сохраним лицо русской демократии чистым! Еще наблюдая свержение памятника Дзержинскому на Лубянке, я знал, что оно подстроено Моссоветом, чтобы увести толпу от зданий ЦК. Это меня устраивало. Та ночь стала моментом истины – я впервые чувствовал себя ближе к людям в кремлевских кабинетах, чем к вандалам, которые разбивают памятники: они мне чужие совсем.
И. К.: Ты испугался революции, которой ждал в юности?
Г. П.: Я ждал бархатной революции, а такой не хотел. Во мне жила элитарная брезгливость к толпе на улицах, подогретая диссидентским отрицанием политики масс. Даже в ультралевый период моими любимыми книгами вместе с «Боливийским дневником» Че Гевары были контрреволюционные «Дни» Шульгина, «Доктор Живаго» и «Повесть двух городов» Диккенса.
И. К.: Были ли революционные герои, с которых тебе хотелось списывать свои поступки? Возможно, из времен Французской революции или Октябрьской?
Г. П.: Мой бог в русской революции Ленин, а во Французской, скорей, Демулен и Бонвиль с Дантоном. Близки Суханов «Записок о революции» и Савинков, но любим и Токвиль. Бухарин, даже Феликс Дзержинский последних лет его жизни – периода работы в ВСНХ, где он, тогда самый правый большевик из правых, окружил себя меньшевиками-экономистами. Нравились революционные технократы: Пальчинский, Савинков, народовольцы Тихомиров и Стефанович. Вообще утописты с государственной жилкой.
И. К.: Профессионалы революции, да?
Г. П.: Инженеры-конструкторы революции. А революционные матросы и пьянь из «охраны Белого дома», шатавшаяся с автоматами по Москве, – моя антипатия. Впрочем, сам я не чувствовал угрозы себе и в новой грязной криминальной Москве. Со времен СССР во мне живет гордыня меритократа.
И. К.: У тебя не было охраны в 1990-е годы?
Г. П.: Нет, никогда. Но картина московских улиц выглядела как потоп наглеющей слабости, а слабость в политике отвратительна. 22 августа 1991-го позвонил Миша Погребинский из Киева и говорит: «Вы там не видите, что у нас? Свяжись с Белым домом – Кравчук решил отделяться! Украина отделится!» Для него как киевского демократа главным представлялось не отделение Украины, а то, что Кравчук – коммунист и партократ. Через Алексея Головкова я связался с канцелярией Ельцина и узнал, что на решительные действия там не пойдут. Родили запоздалый меморандум Вощанова – будете отделяться, и Россия начнет пересмотр советских границ. Но поднялся рев демократической прессы, и Ельцин Вощанова уволил.
Для меня, видишь ли, Украина не была делом принципа: раз не стало государства Советский Союз, то и государству Россия не бывать. Родина рушилась. В тот день я записываю в блокнотик: «Государства у нас больше нет. Есть территория, населенная лицами, нуждающимися в продуктах чужой цивилизации: товарах, правилах и безопасности. Что делать советскому космополиту в расово чистом государстве Ельцина?» Я ждал, что Москва шатнется в сторону национал-демократии, и считал Россию фронтиром, где любой получил право захвата и создания союзов.
И. К.: Была ли в то время проблема этнической угрозы еврейству?
Г. П.: Ты про меня? Как одессит, я с трудом отличу еврея от нееврея. Заметного антисемитизма не было. Разговоры о «русском фашизме» шли от самих демократов, они эту угрозу приписывали коммунистам. Реально ничего такого не было, но еврейских паник с конца 1980-х помню несколько. Всплеск бегства из РФ начался с осени 1991-го – на «заре свободы». Впрочем, Израилем я уже заинтересовался – как успешным искусственным государством, государством-проектом.
Ельцинский реставрационный национализм, игра в Великую Россию, мне сразу показался опасным. Ведь русская культура с Петра I и Пушкина космополитична. Реальностью национал-демократии стали высылки и погромы русских в Молдове, в Приднестровье, в Чечено-Ингушетии, абхазов в грузинской зоне. Осетино-ингушский конфликт рванул к концу года. Про все эти жуткие вещи московская демократия тогда не хотела знать и сама передала мандат на решения военным.
И. К.: К 1993-му слабая власть успела набрать силу. Было ли у тебя ощущение, что Ельцин взял власть в свои руки?
Г. П.: 1993 год я встретил директором информагентства Postfactum, которое разрослось, когда в него инвестировал Илья Медков. Вокруг Медкова и агентства сложилась тогда такая интересная среда с такими яркими людьми, как Антон Носик, Симон Кордонский, Виктор Золотарев, Костя Эрнст.
И. К.: Между прочим, что делает Медков сегодня?
Г. П.: Медкова застрелил снайпер в сентябре 1993 года, за три дня до ельцинского переворота. Илья был в жестком конфликте с правительством Черномырдина.
Убийственное зрелище – московские улицы 1993 года. Школьные учительницы выпрашивают молоко на Тверской. В подъездах книги, выкинутые из домашних библиотек. Трудно объяснить, отчего тогда все выбрасывали книги? В СССР у книг был модус сокровища. Я рос в Одессе, копаясь в бесчисленных книжных лавочках среди гор русской и украинской литературы, благодаря чему и читал по-украински. Книги продавались в самых крохотных поселках. Роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» я купил в селе, где не было продмага, но книжный магазин там был. Читающий класс разрастался. Как вдруг – горы выкинутых книг, истребляемые домашние библиотеки. Около букинистического я встретил старого знакомого Роя Медведева – понурившийся, он распродавал свою библиотеку. В новой реальности я видел дьявольское клеймо: советские люди прокляли печатное слово, принесли причастие буйволу. Это уже не государство русской культуры, хранящее ценности, из-за которых есть смысл с ним поспорить. Так я думал тогда.
Раскачка во власти шла с 1992 года и была явной игрой Ельцина. Я видел, как интриги Хасбулатова идут на пользу Кремлю. Ельцин на глазах становился президентом без альтернативы – «хозяином», как я предсказывал еще в статьях в «Веке ХХ». А для меня безальтернативность была клеймом! Если спросить, что написано над вратами Ада, я сказал бы: «Иного не дано» – пароль демократов 1990-х.
Как директор информагентства я был в курсе происходившего в верхах, но в их игре у меня не было ставок. Я не был ни на стороне Верховного Совета, ни Кремля, но победу Ельцина считал куда опасней. Хасбулатов создал бы шаткую коалиционную власть. У него не было шансов стать ее «хозяином». Картина России еще была множественной, и многие сильные люди, как Примаков, часто были с Верховным Советом. Могла бы возникнуть хасбулатовская директория из разных сил, и та ненадолго.
Мир демократических масс-медиа переживал стремительное огосударствление. Массовые аудитории 1980-х испарились. Массового русского читателя не стало. Журналист мог рассчитывать только на спонсора либо на госбюджет. С начала 1990-х я пишу о том, что рынком российских СМИ становится власть. Медиа превратились в услугу, оказываемую журналистами властям. Министр Ельцина Полторанин воздвигал Министерство информации, думая стать популистским Геббельсом. Я испытывал невероятное бессилие – ничтожества вертят Россией, как хотят! Вопрос бессильного: поддержать кого-то из них или рискнуть самому создать силу? Но политику я все еще воспринимал как зону измены, где мне нечего делать.
И. К.: В каком-то смысле в 1993-м ты опять был во внутренней эмиграции.
Г. П.: Да, но в более глубокой, чем в 1970-х. К новому государству я испытывал тотальную нелояльность. Помню, как читал книгу разговоров Пеньковского и почувствовал, что моя родина теперь изменник, коллективный Пеньковский. Кому здесь хранить верность? Моим героем теперь был Алкивиад, с его запальчивым вызовом родине: «Я им докажу, что я еще жив!»
И. К.: А ты кроме Гефтера с кем-то общался интеллектуально в это время?
Г. П.: Да, и очень широко. Я был журналист. Бывал в Кремле, и в Верховном Совете, и в новых складывающихся кружках, которые поздней станут важны.
Был «Эпицентр» Григория Явлинского. С Гришей я весь 1993 год общался, придумывая для него антиельцинскую партию. Был круг Егора Яковлева, с которым я особенно сблизился, когда тот шепнул мне про Ельцина: «Давай подумаем, как сковырнуть невежду». Кружок во Внешнеполитической ассоциации, руководимый бывшим министром Александром Бессмертных, называли «Ассоциацией Бессмертных». Там собиралась удивительная палитра людей – великий страновед России Вячеслав Глазычев и Андрей Белоусов, тогда не министр, а молодой экономист. Методолог Петр Щедровицкий и империалисты Сергей Кургинян и Шамиль Султанов, замредактора прохановской газеты «День». Джахан Поллыева и Ярослав Кузьминов. Возник сборник «Иное», авторы которого – люди, собиравшиеся у Бессмертных; ковчег уцелевших при потопе. Пас наше малое стадо Сергей Чернышев, некогда мой полувраг: в Фонде Сороса он торпедировал программу «Гражданское общество», посчитав меня опасным антикоммунистом.
Кстати, важный фактор постперестройки – у каждого возник выдуманный им враг. На воображаемых фронтах мы сражались за иллюзорные идентичности. Я с помощью Сороса боролся за спасение либерального Союза ССР. Сорос дал миллион на рассылку комплекта – ксерокс, компьютер, факс и лазер-принтер, и мы их расшвыривали по стране, торопясь опередить близкий коллапс. А Чернышев, тогда директор Фонда Сороса, спасал Союз от меня-антисоветчика, раздающего гранты на подрыв СССР. Поздней мы дружески сошлись с Чернышевым в «Русском проекте». К середине 1990-х люди вновь стали сближаться, формируя новые сети. Но поначалу я обитал в России как в гетто, с тоскливой перспективой выживания. Кружки начала 1990-х плыли в никуда, чувствуя себя, как спасшиеся с «Титаника».
И. К.: Людьми потерянными и потерявшими все?
Г. П.: Да, сообщества утраты и общей беды. Еще доживала «Московская трибуна» – клуб демократов перестройки. Я один из ее организаторов, но теперь и она мне стала чужой, обсуждая угрозы «русского коммунофашизма». Люди вроде Юрия Афанасьева ушли в личную фронду против ельцинской авторитарности. Их оппозиция, будучи антисоветской, была мне не близка, но сам Афанасьев симпатичен. Он чуть ли не единственный из демократов перестройки не ушел из Кремля с личным банком за пазухой.
Любопытное место возникло в запустелых зданиях ЦК КПСС – Рабочий центр экономических реформ. С конца 1991 года я участвовал в его работе. Здесь был прайд Егора Гайдара. Сам Гайдар был в правительстве, а Центр делал ему разработки. Руководил им толковый экономист Сергей Васильев. Так возник революционный закон о торговле января 1992 года: каждый вправе продавать все, что угодно, контроль цен упраздняется. Эту хартию экономических вольностей писали Симон Кордонский с друзьями. Но чем это все политически поддержать? Тандем Ельцин—Гайдар пустил ельцинскую популярность на топливо определенной программы. Оставаясь врагом Ельцина, я из любопытства помогал их команде. Я не сочувствовал гайдаровской концепции реформ, но мне интересно было разрабатывать технологию поддержки власти.
Именно там, возможно, впервые в русской демократической среде прямо был поставлен вопрос: как в условиях демократии мягко отстранить население от воздействия на власть? Слова пиар мы не знали, пропаганду все недолюбливали, зато обсуждали «информационную политику». Все соглашались, что информационной политике нельзя плестись в хвосте публичной, она должна опережать. Зная, что планирует Кремль, можно упаковать это в успокоительный нарратив для негодующих масс. Идея политической упаковки меня вдохновляла: упаковав режим во что-то, можно его затем переупаковать. Разобрать и заново собрать. Например, в новый режим.
Я гулял по кабинетам, где недавно сидели члены ЦК КПСС, а теперь американские советники. Учился читать и понимать сводки общественного мнения. Хорошие опросы проводил покойный Леонид Кессельман. Идут реформы: «Как вы к ним относитесь?» – «Плохо». – «Готовы ли в случае дальнейшего ухудшения выйти на улицу?» – «О да, еще как готовы!» Социологически процент будущих мятежников растет устрашающе, на 3–5 % в неделю. Все готовы лично участвовать в уличных беспорядках? О да! И никто никуда не выходит. Рейтинг протестной готовности достиг трети населения России и застыл.
Так я познакомился с действием «спирали молчания»: люди повторяют одобряемые глупости, но живут совсем иначе. При том что экономическое положение действительно обвалилось. Но в России никогда нельзя доверять слишком яростным заявлениям. Они не значат, что люди действительно готовы рискнуть. Помню, как мы это обсуждали: что значит треть «против»? Это значит, что две трети – «за» власть. Пока никто не вышел на улицу, есть коридор, в котором можно политически маневрировать.
И. К.: А в октябре 1993 года было ли у тебя какое-то соприкосновение с улицей?
Г. П.: В те дни я только на улицах и жил. Я не мог усидеть в агентстве и не уходил с улиц. Сила События захватила меня и затянула в себя. Но для меня переворот 1993 года начался чуть раньше, чем для других. Я уже говорил, что моего друга Медкова снайпер застрелил 17 сентября 1993 года, прямо под окном моего кабинета. Кремлевские силовые структуры уже были отмобилизованы, и я склонен думать, что, скорей всего, это был их человек, из «снайперов-невидимок», после октября бесследно растворившихся. У Ильи был острейший конфликт с правительством да состояние в полмиллиарда долларов cash. В тогдашней России это давало огромную власть, делая Медкова непредсказуемым игроком. 21 сентября, когда мы его хоронили, вышло сообщение Ельцина об Указе № 1400 – Конституцию перечеркнули. Я ушел с поминок и с того вечера на две недели вообще бросил есть. Решил, что умирать будет проще на пустой желудок.
Москвичи теперь уже были злые. Улица негодовала на «ельцинских жуликов-капиталистов», но заметь: ни один частный ларек в Москве не разгромили, а их были тысячи. Я смотрел на это и думал: почему? Что за яростная левизна на словах при столь буржуазном уважении собственности – что их соединяет?
Оборона Белого дома поначалу была потешной, и я решил было, что Ельцин с Хасбулатовым опять разыграют спектакль. «Блокада парламента» – легкие деревянные козлы вокруг Белого дома с проходами между ними, редкая цепь солдатиков внутренних войск. Я иду в Верховный Совет – солдат берет козл и отодвигает в сторону, чтобы мне удобней пройти. Это «блокада»? И внутри хасбулатовцы поначалу лишь играли в осажденную крепость, поглощая подносы бутербродов.
Казалось, все кончится опереткой. Но у сценаристов не вышло удержать поступки людей внутри своего сценария, и события пошли развиваться иначе. Мой друг Золотарев, как лидер конституционных демократов, участник совещаний у президента, предупредил, что Ельцин озлоблен и действительно «хочет стрелять». Улица закипала тоже, люди срывались. Милиционер говорит: «Пройдите, товарищ», но товарищ не отходит и кидается на милиционера, милиционер отступает. Впервые заметна стала плохая реакция на евреев. Но никаких фашистов на улице не было, и многие знакомые евреи участвовали в защите Верховного Совета.
1 октября 1993-го, гуляя с детьми, я случайно оказался там, где началась последняя фаза противостояния, – на Старом Арбате. Лужков тут устроил гуляния, что было плохой идеей. Собрался мрачноватый народ. Чем я ближе подходил к Садовому кольцу, тем сильней ощущалась злость толпы. Отправив жену с детьми домой, я пошел к месту свалки. Не очень было понятно, что делается. Люди перегородили Садовое кольцо, я волок какие-то фанерные листы. Интересно, что ларечники нам помогали. Они разбирали свои прилавки и отдавали на постройку баррикад – никто ничего у них не отнимал.
Поучаствовав в мятеже, я, возбужденный, пошел к себе в агентство. Первая кровь уже появилась в той давке. Были потасовки у баррикады, еще без жертв, и была кровь на плитках Старого Арбата, который я тогда очень любил.
Ну, а потом были дни расстрела. Вечером 3 октября я пробирался сквозь толпу на Тверской. Сюда вышли люди, которых Гайдар призвал «защищать демократию от фашизма». С балкона выступал какой-то урод, требуя «выкинуть сифилитика из Мавзолея». Меня здесь узнавали, приветствовали, ведь все они были читатели журнала «Век ХХ и мир». Но я шел сквозь них, как через толпу врагов к Белому дому. И уже 4 октября, лежа на мостовой, слышал тупой стук пули снайпера в булыжник Леонтьевского переулка. Лежишь мордой книзу и думаешь: вставать бежать или пока рано?
VI
Политтехнолог. Трудовые девяностые
Восстановление русского государства делает ничтожными прежние электоральные перегородки – демократические/антидемократические, красные/белые, советские/антисоветские. Я решил, что Русский проект, если не придавать ему этнического оттенка, позволит склеить чужеродные группы в национальную коалицию. Формула власти уже была протопутинистской – борьба против конфедеративных тенденций, рынок под патронажем «чеболей», свобода при диктатуре закона. Вопреки ожиданиям, в российском сознании «демократия» не противостояла «авторитаризму», а ценность свободы совмещалась с волей к репрессивности. Коммунистический избиратель не был авторитарен, пока речь шла о его частной выгоде, а либерал вполне конформен, пока не затронут его потребительскую свободу. Это открывало коридор для право-левых сценариев. Американцы в чудеса не верят, они до конца ждали, что президентом станет Зюганов, установили с ним доверительные контакты. Страх перед коммунистами маскировал более сильный страх – войны Ельцина за власть, в которой избиратель мог потерять все, что у него оставалось. Мотивами пропаганды были фактор безальтернативности и фактор страха: по этим двум клавишам мы молотили, как бешеные зайцы. Считалось, что власть должна закрепиться в зоне консенсусов населения, осторожно ее расширяя. Путина еще нет, но путинизм уже проступал. Идея «вертикали власти» с 1997 года проходит по бумагам в составе главных целей. У всех чиновников в Кремле были бизнесы, все что-то имели на Западе – квартиры, счета, покупали и продавали какие-то бумаги.
И. К.: Перестает ли в 1993-м фигура публичного интеллектуала быть политически важной? И как это объясняет твой персональный выбор?
Г. П.: В октябре 1993 года фигура интеллигента слилась с фигурой сторонника Ельцина, и обе обесчестились. «Демократическая интеллигенция» надолго стала бранным ярлыком, метафорой танков у Белого дома. Были ужасные, притом совершенно ненужные письма интеллигентов Ельцину. В них расстрел Белого дома приветствовался как «шаг к демократии и образованности» и стояли подписи известных интеллигентов. Лишь несколько интеллектуалов возражали – Гефтер, Синявский, Максимов, Егидес, – но их не считали представительной группой. В 1993-м интеллигенцию приравняли к ельцинистам. Эта репутационная рана оказалась смертельной, и всех накрыла война в Чечне.
Следующий за расстрелом год очень важен. Есть годы-развилки, когда еще возможны разные сценарии будущего. Гефтер называл их «предальтернативами», и 1994-й для России стал таким предальтернативным. После избрания новой Думы – не поражения, но и не победы Ельцина – в Кремле настала растерянность. Я ушел из информационного агентства, протестуя против цензуры, введенной в октябрьские дни. Фактически же я просто разочаровался в силах гражданского общества. Мой уход был символическим, в действительности я отправился на поиски превосходящей силы.
Но перед этим сделал свою последнюю попытку бросить прямой вызов Кремлю. «Движение за демократию и права человека» я придумал как внепарламентскую оппозицию, даже провел его съезд и уличный митинг на Пушкинской. Но почти сразу увидел, что силу сегодня так не создают. Политический класс был перевозбужден, но заметно трусоват и хотел патронажа. Люди спорили из-за слов, не рисковали столкнуться с новой жестокой реальностью.
Я чувствовал, что гражданское общество теперь не мое место. У моей биографии отнята актуальность. По насыщенности экспериментами и событиями жизнь удалась, но что с ней дальше делать? Стало скучно коллекционировать свое участие в великих событиях. Чтобы продолжать работу с историей, надо было поменять всю технику жизни.
В те дни Марк Печерский – старинный мой друг, политэмигрант, к которому я приехал в США после многолетнего перерыва, – спросил: «Ну что, какие у вас новые идеи?» Прямой вопрос семидесятника, все мы так разговаривали. Какие у меня идеи? Я не мог ответить! Это был момент истины – я вдруг понял, что выхожу из богатейшей исторической полосы идейно нищим. Мне под сорок пять, а с чем я иду? Я писал яркие статьи, считался известным публицистом, но для публицистики не было публики – публика разошлась выживать.
И еще раз случайное событие мне стало подсказкой – скандал с «Версией № 1». То был текст-гипотеза, составленный весной 1994-го в аналитическом управлении агентства Postfactum, о том, что в окружении Ельцина, возможно, готовят путч. Для моего агентства то была проходная гипотеза, каких много. Функция «версий» в том, чтоб наш корреспондент в кремлевском пуле проверил, есть ли за слухом что-то реальное или нет? Кто-то украл бумагу и в сотнях экземпляров разослал ее по столичным адресам.
И. К.: Что там было написано?
Г. П.: Заговор против Ельцина! Назывались фамилии Степашина, Сосковца, Коржакова – уже не помню, кого еще. Вдруг главным государственным делом в Москве стала пустая бумажка! Само по себе это симптоматично для тогдашней публичной жизни.
В столице бушевал шторм, а я сидел себе на даче с Гефтером, работал и ничего не знал. О скандале меня известил Симон Кордонский, который сам и составил «Версию», а теперь сильно нервничал. Делом занялись ФСБ, прокуратура. Ельцин требовал арестов и в прямом эфире поручил Степашину сыскать мерзавца-сочинителя. Кордонский ждал беды, да и гибель Ильи Медкова еще была перед глазами.
Растерянный, я спросил: «Хочешь, возьму авторство на себя?» Симон согласился и в тот же вечер надолго покинул Москву. Я ушел обдумывать, как все устроить. Чем больше я думал, тем ясней видел, что передо мной открылось окно вмешательства. Ведь никто не называл меня в этом контексте, никто не подозревал в «заговоре». Но всем нужен был враг президента, и я мог его дать. Система РФ подставилась своим слабым местом – отчего было в него не ударить?
Правда, я уезжал с семьей на школьные каникулы в Грецию. По пути в аэропорт в машине набросал коротенький текст и завез главреду «Независимой газеты» Виталию Третьякову. Тогда у нас с ним были прекрасные отношения. Журналисту я подарил сенсацию, и он ее немедленно напечатал. А я уже был в Греции и при виде Микен позабыл про все. Мобильные телефоны еще не вошли в быт, и я стряхнул московские заботы.
И. К.: Что было в твоем заявлении?
Г. П.: Что «Версию № 1» написал я. Что это моя личная бумага, и все вправе обдумывать, что там готовят в Кремле скрытно от общества. Что я рассматриваю любые политические сценарии и впредь буду – это моя работа. В общем, оппозиционная риторика в моем тогдашнем вкусе. Но главным для всех, как я и рассчитывал, стало то, что автор плана переворота нашелся! «Павловский против Ельцина» – вот как это выглядело для публики. Что мне и требовалось.
Следователи с журналистами кинулись искать, а меня нигде нет. Вернувшись из Греции, уже в аэропорту я оценил шквал заголовков: «Павловский исчез!», «В живых ли автор “Версии”?», «Увидим ли мы еще этого странного человека?»
И. К.: И, конечно, всех интересовало: кто это заказал?
Г. П.: Они стали жертвами своего конспирологического заказа – узнать, кто за всем этим стоит? Я им просто подбросил ответ в рифму. Ответ, который не был ни ложь, ни правда, а «постфакт», скажут сегодня.
Впервые за десять лет у меня снова был обыск. Но следователь был небрежен, он говорил: «Видали у меня шкафы в кабинете? Здесь материалы на всех – на вашего Собчака, вашего Черномырдина, вашего Гайдара. Все копится, и однажды все пойдет в ход». Дело кончилось ничем. Поняли, что к рассылке «Версии» я не имел отношения и та вообще шла не с факсов нашего агентства.
После я так никогда не поинтересовался, кто и зачем это сделал. Но теперь знал, как создается медиакризис и какова его рабочая схема. Когда поздней мы с Явлинским пытались договориться, он сказал: «Устрой мне несколько таких хеппенингов, как с “Версией”, – и я буду президентом!» Его слова я также запомнил.
И. К.: А когда у тебя поменялось отношение к Ельцину?
Г. П.: Когда столичная интеллигенция стала его атаковать. Их претензии к Ельцину ачались с того, что он подписал амнистию, и «белодомовцев» отпустили из Лефортово на свободу. Осенью 1994 года по Ельцину открылась канонада демократической прессы, в тех узнаваемых мной формулировках, что недавно по Горбачеву. Те же люди, кто подписывал в октябре 1993-го гадкое письмо к президенту с требованием «раздавить красно-коричневую гадину», теперь рвали на части его самого!
Я догадался, что Ельцина готовят на роль Горбачева № 2, и у меня поменялось к нему отношение. Убийцы 1993 года подберут стране нового «народного президента»? Накипало раздражение этой однообразной пошлостью измен. Я написал большое эссе о «беловежском человеке» как творце постсоветской истории. То был мой расчет с интеллигенцией перестройки, забывающей всякий свой прошлый кувырок ради нового. Последовательно забывая о каждом сделанном выборе, интеллигент коррумпирует поле опыта.
Роль тут сыграл и Гефтер. В последний год жизни он рассматривал Ельцина как ненавистный ему, но масштабный исторический персонаж. Гефтер говорил мне о загадочной власти русских персонификаций. Люди будто бессодержательные вдруг становятся конфигуратором событий, подавляя других масштабностью. Им нет альтернативы, поскольку оппоненты мельче их и не отвечают масштабам России. Политика страны стягивается к одному лицу, ее повестка технично персонализируется. Гефтер не думал, что я обращу его мысль в технологию и затем, став путинской, технология проглотит меня самого. В фокусе у Гефтера были Сталин и Ельцин. Кстати, он первым обратил внимание на странную параллель этих двух, внешне таких непохожих. Ельцин – ведь это некровожадный Сталин, и тоже сценарист весьма коварный.
И. К.: Была ли у тебя идея реванша?
Г. П.: О да! Я мечтал о реванше с октября 1993-го, а особенно после ввода войск в Чечню. Конечно, я был резко против чеченской авантюры как суицидальной для государства показухи. Но вдруг понял: коготок увяз, птичка попалась. Обратного хода нет – «беловежская Россия» с Кавказа уже не вернется. Режим переменится.
Мотив реванша меня расшевелил, угроза нависла над самим русским доменом. Я отбросил ностальгию по СССР – будущее государство увяжет советское с русским. Был же галло-римский синтез, в конце концов! Реванш государственного центра сотрет линии старых расколов на демократов и антидемократов, советских и антисоветских, революции и контрреволюции. Чечня меня подстегивала, теперь я искал целеустремленно.
В фокус моего интереса вернулся ненавистный Кремль. Против него явно собиралась опасная коалиция регионалов и демократов, правозащитников и коммунистов – но ведь Ельцин будет сопротивляться? Следовательно, ему нужна помощь. Я знал силу проектных схем в политике, знал силу временных коалиций. Обсуждая Русский проект с друзьями, твержу, что государственности нужен лишь «добавочный контур» – надо пристроить к Кремлю технологический стимулятор власти. К президентской власти достроить нейтральную группу technical assistance, дав ей преимущество опережения остальных.
Большую роль сыграл Валя Юмашев. У нас с ним с 1987-го сложилась история отношений нечастых, но доверительных. Впервые мы встретились в 1987-м, когда наш Клуб социальных инициатив защищал хиппи, избитых милицией в Москве на Гоголевском бульваре. Журналист «Комсомольской правды» Юмашев был единственный, кто помог, ни о чем не спрашивая и не отнекиваясь, как другие. Еще мы участвовали с ним в продвижении «Мемориала» и нового закона о печати. А тут он пригласил меня реконструировать журнал «Огонек». Зимой 1994–1995-го с остатками команды Postfactum я работал над проектом нового еженедельника, которому хотели придать формат немецкого «Профиля». Толку не вышло, но мы сработались. Валентин был связан с семьей Ельцина, и кое-какие мелочи мы обсуждали. Так, в январе 1995-го – не поменять ли правительство? В тот ужасный момент, когда грачевская попытка штурма Грозного кончилась бойней танкистов и пресса накинулась на Ельцина.
И. К.: У тебя появился реальный канал влияния.
Г. П.: Нет, не влияния, но доступа. Влиять я не хотел. Я тогда и не знал бы, чего мне хотеть от Ельцина. Зато знал, что ему нужна модель усиления власти, и ельцинский Кремль становился понятней. Я отбросил старые предубеждения. Стал видеть, чего аппарат не умеет, как действует и каким языком говорит. И я видел, насколько выборы стали важной регалией власти.
Как диссидент, прежде я мало интересовался выборами. Зато ими уже занимался мой новый товарищ Ефим Островский. Два его успеха меня особенно впечатлили. В октябре-декабре 1993 года шла кампания Гончара, главы разогнанного Лужковым Моссовета. Для мэра Лужкова Гончар был враг, хуже Хасбулатова, и мэрия делала все, чтоб его провалить. С помощью Ефима Гончар выиграл выборы в Совет Федерации от Москвы. Второй его успех – кампания Сергея Мавроди.
И. К.: Основателя МММ?
Г. П.: Да, весной 1994 года на довыборах в Думу Островский вел кампанию скандального Мавроди и выиграл. Теперь меня интересовало в политике только то, что работает, и возник инструментальный интерес к выборам. Они заинтересовали меня именно как средство бархатного реванша.
С начала 1995 года с Сергеем Чернышевым мы обсуждали Русский проект – надпартийное средоточие власти, обращенное к архиву русской и советской культур. Восстановление русского государства делает ничтожными прежние электоральные переборки – демократические/антидемократические, красные/белые, советские/антисоветские. Я считал, что Русский проект, если не придавать ему этнического оттенка, позволит склеивать чужеродные группы в национальную коалицию. В это время я только над нехваткой инструментов и думал, а идея проекта уже была.
В феврале 1995 года умирает Гефтер. Я остаюсь в этой жизни без капитана и проваливаюсь, заодно заболев. Выплыв, схватился за предложение Андрея Виноградова, бывшего председателя РИА «Новости»: создать фирму по выборам с Михаилом Лесиным. И мы создали фирму. Я дал ей имя Фонд эффективной политики, в честь Foundation Айзека Азимова. А неделю спустя явились посланцы от генерала Лебедя и Скокова с предложением от Конгресса русских общин.
И. К.: Делая фирму, ты не знал, кто будет первым клиентом Фонда эффективной политики?
Г. П.: Конечно, нет. Кстати, первый пришел Явлинский. Но Гриша так долго думал, что мы не договорились.
Поначалу я не был внутренне вовлечен в проект и концепцию кампании для КРО сочинил впопыхах, часа за три до встречи с Лебедем и Скоковым. Был уик-энд. Гуляя с детьми, я забыл про Лебедя и понял: беда! Мы новая фирма и пойдем к крупному заказчику без презентации? Сел и махом написал пять страниц подхода к целям клиента.
Моим пером водили Ясперс с Ньютом Гингричем. Склеив их с Русским проектом, я обещал генералу Лебедю выстроить вокруг него «русское республиканство»: за рынок, свободные институты и сильную власть с военной косточкой. Новый национальный режим, который по «контракту со страной» объединит всех – левых с правыми. Формула власти была протопутинистской – борьба против конфедеративных тенденций, рынок под властью «чеболей», свобода и диктатура закона. Ага, чертова «диктатура закона» появилась у меня еще тогда. Все это я диктовал безапелляционно, будто мне все равно, примут они или нет. Но Скокову с Лебедем понравилось, и ФЭП получил контракт на ведение идеологической и медийной кампании КРО. Но контроля за штабом нам не отдали.
И. К.: Как это поменяло твое представление о политике и власти?
Г. П.: В пиаре я применил свой диссидентский опыт. Он помог мне раскрепостить ум, стать подвижным. Я говорил тебе, что Движение отвергало политику, но желало влиять на власть. Диссидент готов был импровизировать и лично рисковать, чтоб повлиять на Кремль. Влиять, не делая политику, – как? Влияя на умы. На диссидентство можно теперь посмотреть и как на остро эмоциональную пропаганду личным примером. Занявшись избирательными кампаниями, я их строил в технологии двойного влияния – на массы и на власть. Мы пришли в кампанию, пообещав сделать КРО самым популярным блоком в стране. К моему изумлению, скоро так и вышло. Страна обсуждала «феномен КРО», «восхождение Лебедя». Но в КРО не велись обучения актива, не было и реальной системы местных штабов. Центральным штабом руководили Скоков с Дмитрием Рогозиным, и им предстояло узнать разницу между влиятельностью и победой.
И. К.: Твой сектор задач был информационный, идеологический?
Г. П.: «Медийка под ключ», так это называлось: сценарий кампании, идеологические тексты, клипы, позиционирование лидеров. Все это легло на нас, и пришлось срочно набирать кадры Фонда. Я призвал старых коллег по информационному агентству, и его команда вошла в ФЭП. Ведь «КоммерсантЪ» и агентство Postfactum изначально строились как гибкая аполитичная линейка кадров, пригодных для любой работы в медиа.
И. К.: А насколько большой была новая компания? Когда вы начали ФЭП, сколько людей работали на ФЭП?
Г. П.: Кампания уже шла, до выборов было полгода, и следовало очень быстро все развернуть. К июлю в ФЭПе работали человек пятнадцать, а к концу лета – сто. Придумывались программы кампании, которые надо было обеспечивать людьми. Для меня это было совсем ново, подобным я прежде не занимался. Но к середине 1990-х в России набралось немало сред – кадровых резервуаров. Кроме информагентства Postfactum был журнал «Век XX и мир» с его обширным тогда кругом небогатых авторов. Была Ассоциация Бессмертных, диссидентские связи и кадры. Пришел галерист Марат Гельман с кучей друзей, бесшабашный умница с политическим воображением. Военную программу Конгресса русских общин написал поэт Тимур Кибиров, социальную сочинили в отделе банков «Коммерсанта», а политическую отредактировал Александр Проханов.
И. К.: Постидеология, технология и прикладной постмодернизм?
Г. П.: Да, все ради премодерации общества к будущей власти. Власть возникает еще не как реальность, но как обольщение силой. Для меня самого стала неожиданной тяга русского общества к ярким силовым нарративам. Информационная кампания КРО вышла невероятно успешной, при старте с нуля. Она привела к взлету генерала Лебедя, и наша право-левая идеологема широко разошлась. К моменту выборов эксперты спорили лишь о том, займет КРО первое место или второе. Но блок КРО провалился! Ведь мы предложили избирателю не предвыборную кампанию, а захватывающую сказку про нее. Увлекательный нарратив. Страна пересказывала наши истории, клипы генерала и его афоризмы. Часть мы писали сами, часть заказывали поэтам, писателям и журналистам.
И. К.: «Была перестройка, будет перестрелка»?