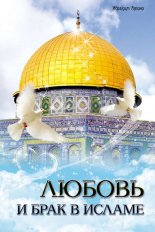Экспериментальная родина. Разговор с Глебом Павловским Крастев Иван

Г. П.: Да, генерал был сам легок на слова и легко усваивал чужие.
Итак, пока избиратели аплодируют политическому сериалу КРО, они реально поглощены выживанием под игом местных хозяев. Если не взять местную власть в игру, сценарий останется эфемерным. Но вместо создания оргструктур кампании Юрий Скоков упоенно интриговал и секретничал с губернаторами. Я впервые увидел эффект имплозии, когда бравурная пропаганда подавляет инстинкт опасности в самом пропагандисте. Бездейственный штаб КРО пал жертвой нашей пропаганды «непобедимого КРО».
И. К.: Они посчитали, что структуры им не нужны.
Г. П.: Да, стиль кампании был грохочущим, и Рогозину со Скоковым логистика показалась излишней. Не строили штабов в регионах, не вели полевой кампании. Сговоры с местной властью вне бюджетных трансферов оказались нестойкими. Когда премьер Черномырдин спустил в регионы прямой приказ голосовать за блок власти «Наш дом Россия», регионалы отвернулись от КРО. Официально блок якобы не добрал десятых долей процента до 5 %, но я знаю, что проходной барьер все же был перейден. Лет десять спустя за коньяком Черномырдин полушутя мне сознался, что они отсыпали голосов у нас и у радикалов Анпилова. Сколько – не знаю, но КРО едва ли набрал сильно больше 6–7 %.
Впрочем, Скоков был доволен результатом. Он бизнесмен с двойной мотивацией, а его кампания была частью большой интриги в верхах, по итогам его банк не остался в убытке. Зато генерал Лебедь стал общенациональной президентской фигурой. Для спонсоров Скокова это была важная стратегическая инвестиция.
И. К.: Значит, ФЭП, хоть проиграв, показал всем сильную кампанию. И ваш клиент, и вы уже были на рынке.
Г. П.: Да, тогда, в 1995-м, мы перепробовали массу интересных техник на будущее. Кстати, в 1995-м ФЭП первым в России политически применил Интернет, начинавший тогда проникать в Россию. Мы использовали его в программе «сетевого контроля выборов», но проконтролировать хитреца Черномырдина никакой Интернет не сумел бы. Важней была работа с данными о реальности, начатая мной всерьез. В ФЭПе изначально сложился культ аналитики и умение читать социологические опросы. Впрочем, тогда еще было что читать – Фонд «Общественное мнение» и ВЦИОМ еще не перешли на штамповку рейтингов для Кремля. Тогда это были сильные независимые научные центры, ведущие исследовательскую работу.
Социологи навели меня на любопытнейший «крест аттитюдов» населения. Впервые обнаружив в одном из исследований ФОМ, я применил его для КРО в 1995 году, а после во многих кампаниях. Вопреки интеллигентским кредо, в российском сознании «демократия» не противостояла «авторитаризму», а ценность свободы сочеталась с одобрением репрессивности. В отношении свободы в России сложился надпартийный консенсус, но ее понимали как частную свободу от государства, для себя лично. Требуя сильной власти, избиратели не хотели ее вмешательства в свои дела. Возник шанс объединить ценность рынка с ценностью сильной власти в прочный гибрид.
Свобода торговли, потребления, использования валюты, свобода выезда и демонстраций – всего этого хотело большинство в две трети. Это было надпартийной позицией, наравне с сильной властью. Такой fusion-консенсус охватывал и коммунистов. Коммунистический избиратель не был авторитарен, пока речь шла о его выгоде, а либеральный был конформен, пока не затронут его потребительскую свободу. Это открывало коридор для конструирования право-левых идеологий. Что мы экспериментально подтвердили затем в 1997 году, когда Немцов чуть не увел электорат у Зюганова.
Но пока приближались главные, президентские выборы 1996 года. Еще в конце 1995 года я конфиденциально заказал Фонду «Общественное мнение» исследование: избираем Ельцин или неизбираем? В первом туре Ельцин с треском проигрывал почти всем кандидатам, зато при выходе во второй тур у них выигрывал. Результаты я передал Валентину Юмашеву в начале 1996 года вместе с запиской о важности «повторных голосований». Мы договорились о подготовке запасного «сценария победы» и возможном привлечении ФЭП в кампанию Ельцина в функции запасного штаба.
И. К.: Они боялись коммунистического кандидата.
Г. П.: Именно игра с «третьими кандидатами» лежала в основе нашего сценария. Детальную его разработку мы закончили в феврале 1996-го и в марте защитили перед группой Чубайса. После кампании я его даже издал.
Президентская кампания 1996 года была яростная, с очень личным азартом. В КРО у меня еще не было такой страсти победить и наказать врага. Теперь же – тотальная личная вовлеченность! Рекламной кампанией Ельцина руководил Миша Лесин, тогда содиректор ФЭП. Телеканалами, консолидированными Березовским и Гусинским, виртуозно дирижировал Игорь Малашенко. Впервые в РФ возник феномен «тотального телевидения». ФЭП вел кампанию в остальных медиа. Кампанией мы рулили самостоятельно, с массой трюков и изобретательной, однако грязной контрпропагандой.
И. К.: Я помню, на выборах появились газеты с программой Зюганова.
Г. П.: Да, наша работа. Были фейк-«программы» КПРФ, фальшивые «коммунистические» наклейки, которые расклеивались по всей Москве. Я и сам их клеил. Они всегда лежали в кармане, и, куда ни шел, в каждом лифте клеил красную наклейку якобы от имени КПРФ «Ваш дом подлежит национализации». Гусинский был в ярости, когда Малашенко наклеил ему пакость прямо на дверь кабинета. Изготовлены они были крепко и отдирались вместе с лаком.
Мы снимали клипы с актерами, изображавшими озверелых коммунистов, жгущих тираж «Не дай Бог» – помойного антикоммунистического листка. Треш про каких-то «коммунистических проституток»… Кампания велась с прицелом на самые темные слои сознания. Привлекали астрологов вроде покойного Алана Чумака, их гороскопы были за рамками добра и зла. Про грядущую войну России с Украиной с высадкой десанта на Кинбурнской косе (схему я перерисовал из книги про штурм Суворовым крепости Кул-Бурун). Про сатанический паровоз, который привез труп Ленина из Горок и теперь зарыт на задворках ЦК КПРФ, генерируя темную материю. И в Мавзолее лежит не Ленин, а его заживо умерщвленный двойник, плавающий в крови русских младенцев.
Весь этот суггестивный шлак под давлением ТВ закачивали в массовое сознание, и люди жаловались на кошмары врачам. Тогда впервые опробовали модель всеподавляющей пропаганды, которую теперь ежедневно практикует путинское ТВ.
И. К.: Где проходила для вашего сообщества черта: что делать можно – чего нельзя? Моральные границы «эффективности»?
Г. П.: Хороший вопрос. Поначалу для ФЭПа сама работа с Кремлем представляла моральную трудность, ведь многие в прошлом были диссидентами. Я тоже советовался, как быть, со старым другом-диссидентом Арсением Рогинским. Он не видел большой проблемы. Но ограничения, конечно, были – мы не готовили отмену конституционных институтов и не подстрекали к насилию.
Кампания в новом жестком формате началась слишком поздно, с марта, зато была кинжальной. Ее краткосрочность подстегивала наш азарт, сильный и очень опасный. Помню, как с одним тогдашним заместителем Малашенко мы стоим на крыше небоскреба банка «Мост» – бывшее здание СЭВ на Новом Арбате – и глядим вниз. То ли он мне, то ли я ему говорю – то и другое равно возможно: «Давай спустимся, подожжем вон тот ларек и скажем, что это сделали коммунисты!» Вот тебе замер азарта! Черта, к которой мы подходили, хотя ларьков, конечно, не жгли.
Промежуточный триумф сценария настал в мае за месяц до голосования. Эксперты и даже банкиры все еще боялись поражения Ельцина. Но уже быстро росли ножницы ожиданий – отставание процента тех, кто ждет его поражения, от процента уверенных, что президентом останется он! Все догадывались, что просто так Ельцин власть не отдаст. Треть противников Ельцина считали, что и проиграв Зюганову, он каким-то образом останется президентом. На страхе перед тем, что при этом развернется в стране, велась кампания. Страх перед коммунистами маскировал более глубокий и сильный страх войны Ельцина за власть, где избиратель мог потерять все, что у него было. Но вот в мае 1996 года число уверенных, что Ельцин останется президентом, впервые превысило число ждущих, что он проиграет выборы. «Ножницы» превратились в крест ожиданий ельцинской победы. Хотя голосовать большинство избирателей все еще думали против Ельцина, неуверенные качнулись в сторону других кандидатов – и Лебедя прежде прочих.
Кампания Зюганова стала разваливаться. Думаю, для местных начальников вал проельцинской пропаганды срабатывал, как передовицы партийной прессы: они получали точный сигнал, на чьей стороне сила и куда ветер дует. Было, конечно, и аппаратное давление правительства на губернаторов. В Татарстане Шаймиев, который в первом туре позволил Ельцину проиграть, уже во втором туре показал прямо противоположную триумфальную цифру «за» Ельцина и «против» Зюганова. Ни той, ни другой цифры, конечно, нельзя проверить.
Тем не менее чудовищное промывание мозгов 1996 года было фактом. Я помню свое тогдашнее чувство, будто мы пробили в черепе России дыру и под телевизионным прессом закачиваем токсичные нарративы. Но что потом?
И. К.: Вы показывали безальтернативность Ельцина.
Г. П.: Ты назвал имя еще одной раны. Безальтернативность – мой вечный философский враг. Выражение «иного не дано» – квинтэссенция всего, что я ненавижу. Но мы намеренно утрировали безальтернативность Ельцина как движок кампании. Мотивами пропаганды были фактор безальтернативности и фактор страха: по этим двум клавишам мы молотили, как бешеные зайцы. Нагнетая атмосферу предрешенности там, где были и другие варианты. Форсируя страх перед будущим, мы поощряли веру в безальтернативную власть.
Я играл на мотиве, который был мне идейно враждебен, – зачем? Помню, я убеждал себя, что к безальтернативности толкаем не мы, а «столичная антиельцинская сволочь». Либералы-предатели, продавшие перестройку в СССР, а теперь продающие Ельцина. Зюганов вообще был для меня никто, тем более что он голосовал в 1991-м за Беловежские соглашения. Но не забывай: шла война в Чечне. Ельцин выглядел последней преградой все более явным шансам Грозного на победу. Чеченцы сумели превратить российские СМИ, медиа своего врага, в канал трансляции собственной боевой пропаганды. Стыдно сознаться, информационные успехи дудаевской Ичкерии произвели на меня сильное впечатление. Я видел, как Грозный из московских комплектующих построил боевую медиамашину мирового класса. Только прокремлевская консолидация 1996 года несколько подавила прочеченский крен московской журналистики.
И. К.: Удугов понял логику медиа.
Г. П.: Да, softpower по-удуговски как дирижирование нашей журналистикой из Грозного. Понятно, что у московских медиамагнатов на это были свои мотивы: Гусинский вел борьбу с Лужковым, Березовский продирался к власти… Но Мовлади Удугов всех встроил в схему, и в российских СМИ установился отчетливо «пораженский» мейнстрим. У телезрителя больше не было веры, что войну можно выиграть. Спорили только, на каком рубеже урезанная Россия остановится при откате с Кавказа.
И. К.: И победа коммунистов означала бы распад России?
Г. П.: Да, так я думал. Был уверен, что первое, что сделают коммунисты, если победят, – отпустят Чечню и спишут потерю на Ельцина. Но вряд ли на этом они смогут остановиться. Татарстан, Якутия и Башкирия тоже потребуют от президента Зюганова платы за поддержку, что исключало для него централистский маневр.
И. К.: Значит, идеология безальтернативности как-то была связана со страхом реального распада России?
Г. П.: Да, унитарность либо ничто. После Хасавюртских соглашений Лебедя с Масхадовым считалось, что федерализация приведет к «распаду страны». Мы почему-то не задумывались: какой к черту распад? Как он мог выглядеть реально, политически и экономически? Как только приближаешься к теме единства России, мозги отключаются, но включаются страхи.
Однажды Путин столкнул нас с Илларионовым у себя в кабинете, как раз по теме единства России. Оба мы несли чушь, которой он, я думаю, наслаждался, решая свою задачу. Илларионов убеждал предоставить шаймиевскому Татарстану независимость, отделив его от РФ охраняемой границей, а я, как водится, требовал большей централизации при укрупнении русских земель.
Память о недавних Беловежских соглашениях подавляла стратегическую мысль. Сегодня видней, что и варианты чеченского урегулирования тогда были, но слабые власти в Москве и в Грозном не смогли их реализовать.
И. К.: Для меня это теоретически интересный вопрос, потому что люди обычно думают, что безальтернативность идет от силы. А тут безальтернативность стала результатом слабости политической системы?
Г. П.: Безальтернативность часто значит бессознательное навязывание себе плохого, но простого решения как единственно правильного. Все это трюки слабости.
И. К.: Когда появилось ощущение, что есть команда Ельцина и что ты – ее часть? Когда Кремль стал для тебя больше чем просто клиентом?
Г. П.: В дни выборов, а точней, при свержении Коржакова в Кремле. Момент был реально опасный. В июньскую ночь, когда решался вопрос «кто кого», я не ночевал дома. Генерал Лебедь, уже законтрактованный Ельциным в союзники, сыграл тогда большую роль символическими жестами. Его только назначили секретарем Совета безопасности. Разбуженный Чубайсом, он вышел среди ночи на Старую площадь и в прямом эфире – зычно, но неясно, ведь генерал парень был хитрый, – зарычал: «Тут намечается государственный переворот!» Но чей переворот, не сказал, так как сам не знал еще, кто победит. «Переворот будет жесточайше подавлен!» – кого при этом подавят, Лебедь тоже не сказал. Все это выглядело пугающим, и силовики отпрянули от Коржакова.
И. К.: Как ты думаешь, если б не Чубайс, могло все у вас закончиться иначе?
Г. П.: Конечно! Кто был тогда истинно безальтернативен, так это Чубайс. Чубайса ненавидели и одновременно боялись – так он себя поставил. Была ему альтернатива в 1996 году? Окажись на его месте другой, Ельцин бы проиграл все. Ленинградский государственник Чубайс в той ситуации стал надпартийной фигурой. Чубайс часто вступал в игру на одном личном волевом потенциале. Его холодная сдержанная истеричность производила впечатление силы, позже он применял ее при реформе РАО ЕЭС. Видно, что перед тобой человек «отмороженный» и готовый на любые средства. Поначалу он один был живой эталон той новой власти, которую я призывал. Если б он только мог скрыть глубокое презрение к людям, фамилия президента России после Ельцина была бы Чубайс. А так он стал лишь главой президентской администрации.
С сентября 1996 года начинаются те информационно- политические совещания в администрации президента, что далее превратятся в ядро разработки кремлевской политики. Фонду велели сосредоточиться на стратегическом планировании. Осенью 1996 года мы разрабатывали сценарии смещения Лебедя. Затем подбирали календарные «окна» для дней операции Ельцина, когда президенту политически не так опасно лечь под наркоз. Такие расчеты немного алхимия. Но они были основаны на больших объемах доступных данных, с оценкой синхронных событий в сценарных развилках. Я научился чувствовать конфликтующие временные ряды, но пришлось выучиться быть ясным в рекомендациях. Упрощать интуиции, строить между собой и аппаратом дружественный интерфейс. Это умение ФЭП развивал со времени выборов 1996 года, пока не вошел в ментальную «симфонию» с командой Кремля.
И. К.: Мы дошли до того, что появилась команда. И в первый раз ты уже не сам по себе, не вне институтов. Ведь до того периода никогда в своей биографии ты не бывал участником государственного института! Каким было впечатление человека, впервые пришедшего в аппарат извне власти? Насколько легче тебе стало понимать, как это все работает? И каким тебя воспринимал сам аппарат?
Г. П.: Команда формировалась пестрая, в основе она состояла не из аппаратчиков. Валя Юмашев был журналист. Михаил Лесин сам прежде не работал в государственном аппарате. Игорь Малашенко побыл советником Горбачева, но недолго. Самый аппаратно искушенный среди нас был Чубайс. Мы собирались в Кремле в президентском корпусе, где чиновников почти не видно было – те еще прятались по кабинетам.
И. К.: И вы работали как предвыборный штаб, да?
Г. П.: Да, компактность и экстраординарность группы сохранилась, но теперь мы готовились к выборам 2000 года. Совещание по информационно- политическому планированию стало регулярным совещанием по внутренней политике, что не менялось затем долго, лет десять. Только в 2005-м Медведев изменил формат совещаний с внешними экспертами при участии главы администрации. А начались они еще при Чубайсе в 1996-м.
В 1996–1999 годах формируется и концепционный тандем ФЭП с Фондом «Общественное мнение» Александра Ослона вокруг той же задачи создать сильную власть. Считалось, что для этого власть должна закрепиться в зоне консенсусов населения, осторожно ее раздвигая. Но целью, конечно, было не «обожествление власти» по Суркову, а само ее выживание. И в себе мы видели команду спасателей государства. Работая на команду, я не ощущал бюрократической тяжести аппарата. Искомым для меня, однако, был концепт власти, а не государства. Государство рассматривалось неполитически, как каркас обеспечения власти. Бюджетно-хозяйственным обеспечением тогда ведало правительство. Из редких пересечений с Белым домом помню лето 1998 года, где мы собирались и обсуждали, как нам реорганизовать правительство. Считалось, что, уходя в отпуск, Ельцину следует «укрепить» кабинет Кириенко. Страна неслась к дефолту, Транссиб был перекрыт неизвестно кем, шахтеры бастовали. По Кремлю ползли темные слухи о том, будто генерал Рохлин с армией что-то готовят.
В 1998 году мы резко ускорили постройку своей Doomsday Machine. ФЭП встроил в АП службу блиц-мониторинга с каскадом оповещений об «угрозах» и политическими рекомендациями, как на них отвечать. Управление этим параллельным контуром восходило прямо к главе администрации президента, в обход прочих властей. И мы претендовали обеспечивать государственные интересы.
И. К.: В вас, наверное, тогда стали видеть «реальную власть». Невидимая тайная власть всегда кажется реальней, и с точки зрения аппарата тоже. Но что с твоим публичным образом? После выборов ты предстал символом политтехнолога – тайной власти в Кремле?
Г. П.: До победы Путина связь с ельцинским Кремлем была вещью непопулярной. Все эти годы я вел еще и вторую, некремлевскую жизнь. Как я уже говорил, мне важно ступать по жизни двумя ногами. Я спасался от безальтернативности тем, что одновременно работал на гражданское общество – как журналист, как издатель, автор и меценат альтернативных проектов. Я долго надеялся запустить альтернативный власти мотор – сильную гражданскую среду, которая далее сможет расширяться сама.
Все 1990-е я не оставлял попыток создания русского интеллектуального журнала. Последовательно возникли «Пределы власти», «СреDa», «Пушкин», «Интеллектуальный форум», наконец «Русский журнал», который стал в интернете чуть не первым политическим сайтом. Он вышел летом 1997 года. За этим последовало создание «Ленты. ру», «Газеты. ру», «Иносми»… К 1999-му во мне подозревали монополиста Рунета – русскоязычного интернета. Я это называл работой на обогрев русской Вселенной – в Интернете я добивался реванша текста над ненавистной «картинкой» телевидения.
Все это лишь сгущало демонический образ «Павловского». Когда анархисты взорвали памятник царю Николаю под Москвой, даже старый мой друг написал, что видит в этом «руку Павловского с Гельманом». Впрочем, пока я избегал телевидения, меня редко узнавали в лицо. Люди изумлялись, узнав, что памятный им Павловский-неформал или оппозиционный публицист Павловский из «Века XX и мира» – тот же человек, что Павловский-«пиарщик». Для них столь разные роли относились к геологически несовместимым пластам.
Еще в 1996-м многих раздражало, что малоизвестный ФЭП попал в главные подрядчики кампании Ельцина, и я приобрел кучу врагов. А в 1997-м война разгорелась внутри самой кремлевской команды, между группой Чубайса—Немцова и парой Березовский—Гусинский. Предшествовал этому правительственный переворот Ельцина весной 1997-го. Президент навязал Черномырдину двух первых заместителей, Чубайса и Немцова. Последнего представил своим преемником, ФЭПу поручили работать с его образом. Чубайс в самолете набросал пункты их реальной президентской политики, на их основе Фонд разработал имиджевую линию «команды молодых реформаторов». За два месяца Борис получил наивысший президентский рейтинг, даже в коммунистическом электорате он конкурировал с Зюгановым! Но это длилось недолго. Немцов с Чубайсом стали целенаправленно политически уничтожать Березовский с Гусинским. Заодно пошли удары по мне, как ни избегал я телеизвестности. Группа «Мост» поставила меня на прослушку, пустили наружное наблюдение.
И. К.: На какой стороне ты был в этом конфликте?
Г. П.: Разумеется, там, где администрация президента, – с Чубайсом и Немцовым. Информационная война 1997-го кончилась тем, что Ельцин, отступив, удалил их из правительства. С той поры уравнение «НТВ – враги Ельцина и Немцова» вселилось в головы кремлевских либералов.
ФЭП позволял мне работать с властью дистантно, не покидая удобной капсулы. Так, я почти не пересекался с Борисом Березовским, хотя все думают, что он в это время царил. Вероятно, в 1996–1998-м Борис действительно был близок к семье Ельцина. Но мы лишь изредка пересекались на совещаниях и, как правило, ссорились. В рабочую группу проекта Борис не входил – Юмашев об этом позаботился.
И. К.: А какие человеческие отношения установились между членами этой группы?
Г. П.: В «моем Кремле» атмосфера была очень дружественной и привольной. Согласование стратегии строилось на взаимном доверии, а рост угроз доставлял чувство общей судьбы. После дефолта 1998 года Кремль стал осажденной крепостью, откуда люди с аппаратным чутьем бежали. Но мы упрямо вели свою работу над проектом новой власти – тем, который теперь называют проектом «Преемник». Мы запрещали себе любую мысль о неудаче, и «плана Б» у нас не было.
И. К.: Как вы представляли себе Россию после десяти ельцинских лет?
Г. П.: На первых же совещаниях в Кремле осенью 1996 года перед участниками поставили задачу – подготовить успешные президентские выборы к концу второго срока Бориса Николаевича. Немедленно после выборов-1996 началась работа над выборами-2000, что и было моим главным заданием. Заработал обратный отсчет: еженедельно мы обновляли план на следующую неделю, месяц, год и общий график – вплоть до декабря 1999 года.
Слово «преемник» редко применяли, но смысл был именно в этом – готовить трансфер президентской власти за порог 2000 года. Государство Ельцина после Ельцина было образом будущего, и оно задавало отсчет.
Были ли у нас идеи на дальнейшие времена? Для ФЭП горизонт планирования обрывался выборами 1999–2000 года, которые создадут новый государственный порядок.
Все в текущей политике было допингом или химиотерапией, позволяющими старой больной власти дожить до метаморфозы 2000 года. Только та будущая власть-преемница и явится окончательной властью. Властью, завершающей незадавшуюся русскую историю ХХ века, подводя черту под цепью катастроф. И я воодушевлялся этой утопией, не веря, что она подомнет Конституцию и отменит политическую деятельность.
И. К.: Конец перехода в каком-то смысле.
Г. П.: Да, но что будет, когда все догадаются, что Ельцин уходит? В 1996 году кампанию провели на страхе перед его уходом, а тут он действительно уходил! Сценарий, при котором Ельцин останется президентом на третий срок, никогда нами не рассматривался.
Что это будет за власть? Контракт с нацией, который предстоит разработать? Власть, заново учреждающая государство? Как она сбалансирует русскую тему с советской, тему демократии с темой реванша? Путина еще нет, но во мне путинизм наступал. Идею «вертикали власти» с 1997 года я твердо веду по всем запискам в числе главных целей. Чубайсу я написал записку о необходимости создать российский аналог ЦРУ. Однажды Саша Ослон принес записку, где разбил население страны по отношению к Кремлю на две группы – «Наши» и «Не-наши». Юмашев, уже ставший руководителем Кремля, сказал: «Уничтожь это и никому не показывай» – и Ослон заменил их на класс «Да» и класс «Нет». Но, конечно, мы ставили задачу нарастить нашу группу «Да». Закрепляя в сознании масс и элит привычку к доминированию Центра, сдвинуть область консенсуса в более выгодное нам поле.
И. К.: А внешняя политика была частью этой повестки дня?
Г. П.: Тогда еще в малой степени. Международные дела долго были периферийной частью повестки власти. В 1990-е внешняя политика ушла даже из газет, а для Кремля она состояла в выклянчивании внешних займов для выплаты пенсий. И еще в поездках Ельцина на саммиты – комедия «равноправного партнерства» с США, которую президент Клинтон поддерживал. Примаковскую версию умеренного западничества считали оптимальной, до войны НАТО с Югославией в этом царил консенсус. После вывода ядерных сил с территории Украины в 1997 году Ельцин подписал с Кучмой всеобъемлющий договор, сняв тему Крыма.
В 1992 году при разговоре с министром иностранных дел Козыревым меня резануло его сравнение: «Вот есть же образцовые демократические страны – Сингапур, Южная Корея и другие». Российская либеральная утопия 1990-х была не европейской, а азиатской авторитарно-рыночной утопией. В ней угадываются черты китайских «свободных зон», режимов Сингапура и Южной Кореи. Редкий московский демократ 1996 года не признал бы Ли Куан Ю «образцовым демократом»! Зато кремлевская идея мировой власти, напротив, была калькой с американской. Вопреки риторике «многополярности», ее питали картины униполярного мира. Не забывай, что мировой политике Кремль обучался у американцев. Не «ялтинский» биполярный мир, а монополярный мир 1990–2000-х годов лежит в основе кремлевского мышления. Мюнхенская речь Путина 2007 года станет претензией не на одно из мест за столом, а на весь стол.
И. К.: А была ли большая коррупция?
Г. П.: Была, но вдали от нас. Деньги тогда были у правительства – бюджет, внешние долги и спекуляция ими, тарифы, зачеты по бартеру. Здесь варились астрономические личные состояния, но те шли через «семибанкирщину», а никак не через политическое планирование в Кремле. На счастье, мы не имели отношения к перераспределению финансов.
Я испытывал духоту в черномырдинском Белом доме, где бывал по делам молодых реформаторов. На совещаниях в правительстве царил другой сорт людей, от которых в Кремле я был избавлен. Кишели лоббисты. Велись речи о людях-кошельках «Газпрома», «Транснефти», РАО ЕЭС. В коридорах толковали о бюджетных откатах, но не о государстве. У всех чиновников в Кремле были бизнесы, все имели на Западе квартиры, счета, покупали и продавали ценные бумаги. Уход с высокой политической должности всегда конвертировался в «хлебное место» – Сбербанк, «Транснефть», РАО ЕЭС; все это обсуждалось открыто. Я предпочитал не вникать в степень коррумпированности высшего круга, зная, как тот высок. К этому я относился, как к дефекации власти, неизбежной при обмене веществ. «Коррупция Семьи» для меня была просто черным мифом о Ельцине, вражеской пропагандой. Глядя на Ельцина, я видел, что предложить ему взятку нельзя. Оппозиция искала кредитные карточки президента, а тот не знал, каким концом их засовывать в банкомат.
Меня интересовала только будущая государственная власть. И очень устраивало, что Кремль оплачивает постройку ее колоссальной медиамашины. За большими деньгами проще всего было идти на поклон к региональным боссам.
И. К.: А скажи, регионы хотели работать с ФЭПом?
Г. П.: Да, и наперебой, но мной почти всегда отклонялись. Консалтинговые фирмы, работая с регионами через правительство, имели несчетные легкие деньги. «Партия власти» вела выборы губернаторов по спискам, PR-подрядчики правительства получали десятки регионов сразу, денег на выборы тогда не считали. Я просто не хотел туда лезть. И вот еще что: губернаторы, которые стучались в ФЭП, почему-то все хотели в президенты России. А это грозило конфликтом интересов. Власть привлекала как шанс нового государства – власть как бизнес меня не интересовала совсем. У меня была цель, я не желал отвлекаться.
И. К.: Насколько важны для вас были деньги?
Г. П.: О да, конечно важны! Но лишь как строительный материал для проектов Фонда. Меня тревожило, успеем ли мы построить сильную власть средствами слабой власти. Медиамашина отлаживалась, Фонд вырос. В 1998 году ФЭП занимал несколько этажей в гигантском здании-монстре на Зубовском бульваре, где при СССР было АПН, а ныне – агентство путинской пропаганды «Россия сегодня».
В ту предбоевую зиму 1998–1999-го я много экспериментировал с рискованными техниками. Например, мы разрабатывали «окна возможности влияния» и «окна проникновения власти», сочетая анонсные базы данных с прогнозными рядами и построением графов. На манер азимовских MNC (Minimum Necessary Change) – «минимально необходимых воздействий», а попросту – штабных разработок операций Кремля над ближайшим будущим. Это позволяло угадывать и опережать врага. А также создавать «прокси» – мнимых акторов, приписывая тем свою собственную активность. К счастью, все ограничилось пробами в реале. Мы не сумели построить универсальную математическую модель, работоспособную при операциях с временными Big Data. Сегодня я думаю об этом не без удовольствия – наши фэповские квесты в стиле The End of Eternity Айзека Азимова были безответственны, и нетрудно представить, как воспользовалась бы ими команда власти.
Интернет-департамент ФЭП вообще рос особенно бурно. Здесь царили ум, наглецы и анархия Марины Литвинович с покойным Антоном Носиком.
И. К.: Да, как ты говорил – всегда должна быть другая жизнь, другая среда, которая не имеет ничего общего с первой…
Г. П.: Мне важно оставаться разным, только это спасает от самого себя. И еще я привык жить среди умных людей. Работая на Кремль, я параллельно развертывал независимые от власти проекты, например Русский институт. Из моих изданий «Пушкин» и «Интеллектуальный форум» о провластном ангажементе вообще трудно догадаться.
И. К.: А как эта другая среда функционировала?
Г. П.: В обществе, в прессе, в культурных кругах я был как дома. Будучи одним из них, я, вероятно, преувеличил мощность либерального слоя и, строя бесконтрольную медиамашину, проглядел в ней риск орудия гегемонии. Российские СМИ мне всегда казались позорно зависимыми от власти и манипулируемыми, об этом я твердил все 1990-е годы. Что за беда, если внутри их сети зависимостей мы выстроим особую сеть поддержки Кремля, по тем же принципам управления повесткой, как практикует НТВ? Мой вечный друг Игрунов, став вторым человеком у Явлинского, в те же годы строил партию «Яблоко». Мы с ним часто спорили, и я говорил: «Иди и построй контркремлевскую машину вашим – кто мешает?» Я отвергал либеральную пассивность, зато диссидентски преувеличивал силу интеллигенции. Трудно поверить, но безальтернативными мне тогда виделись либералы, а не Кремль.
Медиаполитика представлялась нейтральным скальпелем либерального Кремля. Раз нет репрессивного аппарата и нет сильного государства, думал я, то и угрозы нет! Усиливая такую власть, мы уравновешиваем государство. Не будет внутренней вражды, раскола и чисток – всего, чего боялись диссиденты 1970-х. Мы мешаем оппозиции выкрикнуть все, что она хочет? Да, но избегаем гражданских расколов, сохраняя влияние интеллигентов на курс Кремля. Меритократам Движения в 1970-е годы это показалось бы отличной программой! Вот почему я так безоглядно делал ставку на бесхребетно гибкую власть. И в ее самовозрастании пропустил точку невозврата.
VII
Украинизация родины. Конец игры
Путин исходит из неизменности природы людей, ее непоправимой порочности. Народу нужна идеология – им, а не нам. Отказался Путин от мысли о европейском выборе России? Нет, но теперь он его видит иначе. Никуда Европа от нас не денется. Это для Европы русский выбор неизбежен, а не европейский для России. Европа вернется! Идеал Путина – привычная Россия, а не новая. Путин в осенние дни 2011 года отошел в сторону, не мешая другу топить себя. Массовые митинги привнесли в кампанию Путина драгоценный мотив врага. Теперь у народа-избирателя Путина был «враг-либерал», который себя выдал, выйдя на улицу. Москва, в соответствии со всей доктриной постсоветского легитимизма, поддерживала кандидата от действующей власти. Благодаря чему Кучма навязал нам Януковича. После Беслана рейтинг Путина на Украине упал, его обаяние пошатнулось, и кампания Януковича просела. Межрегиональная ненависть на Украине так сильна, что я уже тогда определял ее как «встречную расизацию». Унитарная Украина с идеальной вертикалью национальной власти на каждых выборах рассыпалась в пазл, который заново складывали. «Управляемая демократия» Путина висела в пустоте, над деполитизированным и деидеологизированным обществом. Она не смела требовать верности. Новая американская доктрина обещала поддержку «цветным» революциям, но после Ирака поддержка Буша понималась как военная поддержка. Что если мы следующие? С весны 2005 года закипела работа по новому антиреволюционному проекту. Он теперь известен как «суверенная демократия». Косноязычную кальку sovereign democracy мы позаимствовали из западного дискурса. Термин нес камуфляжную функцию. Майдан еще не победил, а государства не стало. Оно испарилось до того, как Янукович бежал. Не создавшие полноценных наций, Украина и РФ искали легитимности в гибридной войне.
И. К.: Ты стал моделью успеха для нового поколения интеллектуалов?
Г. П.: В начале нулевых да, я был иконой стиля. От меня ждали перспектив для молодой элиты, считали то Клаузевицем, то Джеймсом Бондом нового режима. Ставку на меня делали разные люди, их пути затем далеко разошлись. Мне симпатизировали Борис Немцов и генеральный прокурор Устинов. На Гражданском форуме 2001 года я выступал с анархо-либеральной концепцией суверенитета личности – бедный Путин вынужден был это выслушивать, сидя рядом. Потом все прошло. С арестом Ходорковского и уходом Волошина из Кремля я целиком сосредотачиваюсь на Путине как единоличном воплощении государства. Он для меня теперь princeps, первый гражданин России.
И. К.: Ты рассказал, как вы в 2000-е думали, что надо построить власть. Теперь власть институционально построена, но чтоб появилось государство, надо строить народ. И Путин увидел возможность построить народ, как он его понимает. Народ, готовый умереть за Родину. С этой точки зрения последний взлет путинизма для меня самый интересный. Появился Крым, появилось крымское подавляющее большинство. Оно уже не метафора – Крым его превратил в реальность. Неидеологическая власть становится идеологической, появляется новое истеричное телевидение. Как все это произошло? Как «оккупай Абай» превратился в «оккупай Крым»? Как ты теперь смотрел на будущее?
Г. П.: Хоть Путин довольно бесчувственный человек, у него бывают сентиментальные чувства к народу. Не исключаю, что на митинге победителей после выборов 2012 года слезы его были настоящими. Но как он видит человеческое существование? Путин исходит из неизменности природы людей и ее непоправимой порочности. Неудача с тандемом и быт друзей-клептократов слились тут в общий вывод. Он разочарован в команде верных товарищей, я думаю, не меньше старца Пилсудского. Каждый день на его столе сводки ФСБ, Росфинмониторинга и других спецслужб – о чем они? Все о коррупции и пороках верхов, их интригах и пустой болтовне.
По Путину, будущее надо очистить от «лишних» элементов. Он считает, что в Советском Союзе, а затем в России было слишком уж много лишнего. Глядя на свои прошлые семнадцать лет, Путин мог сказать: многие вещи казались неприкосновенными, а когда их убрали, ничего не стряслось. Были якобы всесильные олигархи, казалось, с ними надо договариваться. Сам он, будучи секретарем Совета безопасности, ездил к Березовскому с букетом роз… Но оказалось, договариваться с ними незачем. Были партии, столько сил и волнений потрачено на стабильную «полуторапартийную» систему. Он лично уговаривал Зюганова перекраситься в «социал-демократа», чтоб выстроить полный спектр многопартийности – а зачем вообще ее строить? Какие-то партии в Думе есть, и довольно.
Или идеология. Путин часто возвращается к ней, говоря: в Советском Союзе была идеология, она была лишней – нам, профессионалам, это только мешало работать. Народу нужна идеология – им, а не нам. «Какой народ, такие песенки» – приговаривал о советском гимне, вмонтированном им же в геральдику России.
Отказался ли Путин от мысли о европейском выборе России? Нет, но теперь он его видит иначе. Он считает, что никуда Европа от нас не денется. Это для Европы русский выбор неизбежен, а не европейский для России. Европа вернется! Сейчас такого представить нельзя? Ничего, дождемся. Ему свойственна тактика выигрышного выжидания. Отсюд его желание затягивать паузы, при этом не допуская, чтобы Запад объединился против России. Однажды на Западе поймут, что с нами пора договариваться, и тогда санкции рухнут сами собой.
Реальна для Путина идея элиты, вообще мысль об успешном передовом образованном меньшинстве? Или он поверил в свою способность назначать в элиту указами? Частые напоминания Путина о пользе конкурентности выдают лишь намерение самому назначать «конкурентов». И что вышло? Борьба за место порученца центра на поднадзорной территории. Уже формула «наделение властью» предполагает сверхкомпетентность «наделяющего» (в элиту назначают и из нее исключают).
Путин человек архаический. Новости его утомляют, а мысль о России после него Путину неприятна. Его выбор – отсрочки, и он будет искать, что еще пролонгировать из того, что привычно. Идеал Путина – привычная Россия, а не новая. Он живет в путинской России, как жил в старой ельцинской.
И. К.: Путинское большинство, которое вы слепили в 2000 году, развилось и уплотнилось. А затем – и я думаю, что это посткрымский феномен – появляется «путинский народ». Он уже нечто другое?
Г. П.: Осень 2011 года как политическая мистерия еще недоразобрана. Когда сломленный президент Медведев, стоя на краю политической могилы, воображал себе «тандем 2.0», в его речах появились оскорбительно надменный тон и словечки, которые после переймет Путин. Нечего обсуждать, мы с Путиным все решили правильно, и народ в подавляющем большинстве это подтвердит. «Подавляющее большинство» появилось из тех поздних речей Медведева. Путин в осенние дни 2011 года скромно отошел в сторонку, не мешая другу топить себя. Он выжидал и до 2012-го слабо проявлялся. Собственный сценарий выборов в путинском мозгу поначалу был позитивный и выглядел скучновато: новая индустриализация, социальные раздачи, Евразийский союз. Программа, изложенная в его предвыборных статьях, если ее перечитать, обещала совершенно иной курс, чем развернувшийся после инаугурации.
Взрыв городского гнева на думских выборах 4 декабря 2011-го вызван тем, что их изображали плебисцитом по «второму тандему». В дни стотысячных декабрьских демонстраций в Москве испуганное Останкино впервые честно показывало происходящее. Медведев запоздало принял решение о возвращении губернаторских выборов, упростил создание партий. Могло бы начаться что-то важное, политизация вернулась в страну – и сразу оборвалась.
Медведев еще был президентом, Путину предстояло пройти через выборы. Впервые с 1999 года он засомневался в удаче. Человек, который возвращается в Кремль потому, что «мы с Медведевым так договорились», – ужасно слабая позиция! Допуская, что в первом туре может не выиграть, он содействовал выдвижению Прохорова. Зато демонстрации на Болотной дали ему нечто важное – наглядное чрезвычайное основание возвращения. Они привнесли в кампанию Путина драгоценный мотив врага. Теперь у народа-избирателя Путина был враг – либерал, который сам себя выдал, выйдя на улицу. Нужна была народная мобилизация снизу – то, что Путин ненавидел и прежде не допускал.
Вот важный поворот. Посыпались реакционные инициативы, «письма в Кремль» из его окружения: «Владимир Владимирович, такого терпеть нельзя!» Хотя, повторяю, Путин сперва осторожничал. Телевидение в дни его избирательной кампании было, пожалуй, либеральней медведевского. Мне еще дали сказать по Первому каналу, что «экспорт цветных революций» – наша кремлевская пропагандистская выдумка. Но вот появляются первые телекартинки лояльной пропутинской массы: митинг на Поклонной горе. Тысячи возбужденных людей с его портретами, зримый образ «подавляющего большинства».
Начинает меняться роль телевидения, во главе которого с конца 1990-х стояли асы телевизионной драматургии. Один из них, шеф Первого канала государственного телевидения Константин Эрнст, мне рассказывал, как восхищала его трансляция CNN расстрела парламента в октябре 1993 года: «Это прежде всего было красиво: Белый дом на фоне голубого неба и танки, бьющие прямой наводкой в прямом эфире! Вспышки разрывов под комментарии онлайн… Лучшее шоу в истории телевидения!» В штиле управляемой демократии Эрнст тосковал. Не стало места уличным конфликтам и острым дебатам в парламенте. Во имя стабильности мы установили на телевидении и в стране противоэмоциональный фильтр. Конфликты убирали с эфира – политические программы шли в отредактированных записях. Нарушителей правил наказывали уже одним тем, что о них в телеэфире умалчивалось. С конфликтами следовало идти к властям, но не на улицу. Телемастера хвалились талантом вырезать из кадра любого нарушителя правил – был участник и нет его, только лишние ноги в кадре остались.
Переменит положение гражданская война на Украине. С 2014-го Эрнст с Добродеевым получат «эфиры мечты» с трупами и стрельбой. Телевидение стало ультрапропагандистским, так что Путин считает его народным.
И. К.: Если угроза цветных революций – выдумка Кремля, то что случилось в Киеве в 2004-м и затем в 2014 годах? И есть ли у тебя «оранжевая» травма?
Г. П.: Скорей, «оранжевый» шрам. Украинский миф о Павловском в «оранжевой революции» похож на советский киноштамп Керенского в 1917 году – epic fail и бегство с переодеваниями. Финал в Киеве мне и самому кажется комичным, хоть я никем там командовать не мог. Трудно понять, как столь скудная роль превратилась в яркий эпизод провальных для Януковича выборов, ведь я не был даже его советником. Конечно, я не чувствовал сцены, куда попал, и роли, которую предстояло сыграть. Администрация Путина откомандировала меня присмотреть за ходом украинской кампании. Сценарий ее хоть и был известен, но принадлежал не мне. И он был сценарием Кучмы, а не сценарием Москвы.
Моя компетенция ограничивалась контролем применения догмы, поначалу на Украине бесспорной: поддержка Путина – условие победы кандидата в президенты Украины. Москва развернула программу действий в поддержку кампании кандидата от Кучмы. Российское телевидение было тогда одновременно и всеукраинским, малопрофессиональные киевские каналы здорово отставали по рейтингам.
Но Украиной правил не Путин, а Леонид Кучма. Москва, в соответствии со своей доктриной постсоветского легитимизма, поддерживала кандидата от действующей власти. Благодаря этому Кучма навязал ей Януковича, рекомендуя как «сильного донецкого мужика» – воистину, ошибка века! В отличие от Ельцина в 1999-м, Кучма и не подумал отойти в сторону, предоставив преемнику свободу рук. До конца кампании он раздумывал, не остаться ли ему еще на один срок, объявив выборы несостоявшимися? Этот трюк не покидал его мыслей, и последующий бунт киевских элит против Януковича подогревала вера в тайное сочувствие Кучмы. Уже приняв решение в пользу Януковича, Кучма продолжал колебаться, не позволяя штабу начать предвыборную кампанию. Он разрывался между ним и собой. Президентский рейтинг Ющенко продолжал расти, но ни один украинский чиновник не шевелился без президентской отмашки.
Отмашка пришла в июне, Янукович выдвинулся, но затем штаб опять заморозили на все лето. Кучма блокировал острые пункты программы кандидата – поднятие пенсий, двойное гражданство, государственный статус русского языка – хотя все, разумеется, было с ним согласовано. Колебания президента поддерживало посольство США. Давая это понять, Кучма, пригласив к себе, обычно сталкивал меня с выходившим от него американским послом (или тогдашним министром иностранных дел Украины, что почти одно и то же).
Но худшая беда Януковича пришла из России. Бесланский теракт сентября 2004 года нанес удар по харизме Путина на Украине. Дети без еды и воды в осетинской школе показывали, кто властелин жизни и смерти Кавказа. Та последняя попытка Шамиля Басаева опрокинуть Россию рикошетом ударила по кампании Януковича. Вид школы в Беслане, захваченной автоматчиками Басаева и взорванной при штурме, из Киева выглядел воротами в русский ад. Украинский избиратель не прочь был иметь президентом Путина, но отказывался разделить с русскими их войну. Чеченская война, популярная в России, в Киеве была пугалом: Украина не желала воевать! Украинец начала 2000-х был пацифистом. После Беслана рейтинг Путина на Украине упал, его обаяние пошатнулось и кампания Януковича просела.
И тут-то отравление Ющенко (по сей день остающееся загадкой) окончательно столкнуло ход выборов в хоррор. Ведь отравление – это крик о прямой телесной угрозе. Не оранжевые ленточки, а изрытое язвами лицо Ющенко, еще недавно такое красивое мужское лицо, стало знаменем оппозиции.
Приходилось пересматривать стратегию мобилизации провластного большинства. Но до выборов остался месяц, развернуть поезд кампании на ходу киевский штаб не мог. Социологические опросы показывали, что опережение Януковичем Ющенко замедлилось. Отрыв в 2–3 % был слишком мал, чтобы считать цифры надежными. Получая социальные подарки из рук кандидата власти, избиратель не испытывал к нему благодарности.
С конца октября в записках Кремлю я уже называл происходящее в Киеве революцией. В какой момент накопление нюансов перешло в событие, требующее такого сильного слова? Ведь неудачные для Януковича выборы сами по себе революцией не были. Не были революцией и уличные демонстрации против Кучмы с Януковичем – всего четыре года спустя Януковича изберут президентом Украины как главу оппозиции.
С сентября на киевских деревьях стали появляться оранжевые ленточки, в октябре весь город стал оранжевый. Было это революцией? В обычном смысле слова нет, но стилистически – да, было! Безальтернативности, с которой танк Януковича накатывался на электоральное поле, противостоял децентрализованный театр альтернативной уличной моды. Здесь наш старомодный кандидат был наиболее уязвим. И еще нюанс: 2004-й был годом финала трилогии Вачовски. «Матрица: революция» стала хитом, революционная кинометафора завладела умами киевской молодежи.
Что же главное в революции – вторжение ненависти в политику? Революцию нельзя назвать в обычном смысле слова политическим процессом. Витальная ненависть – ее вечный спутник. Межрегиональная ненависть на Украине так сильна, что я уже тогда определял ее как «встречную расизацию». В России тогда подобной не было – русский расизм разнообразней, но он не межрегионален. Нельзя было представить в Москве листовок, подобных расклеенным в Киеве: «Не ссы в подъезде – ты не донецкий!»
Но с каким упорством киевляне вопреки очевидности заверяли меня, что западно-восточного раскола нет, что он «выдуман русскими политтехнологами»! В подтверждение приводили глупейшую листовку-карту Украины, разрубленной, как туша, на три части: запад, центр и юго-восток. Эта схема электоральных предпочтений Украины, устойчивая на протяжении двадцати лет, выражалась в электоральной догме «Центр Украины на выборах побеждает всегда – в союзе то с юго-востоком, то с западом Украины». На картах президентских голосований 2000-х хорошо видна сплошная черта размежевания областей страны с севера на юг между двумя кандидатами в президенты. Таков эффект унитарной конструкции Украины. Ультравертикальная власть президента без корректирующей автономии снизу. Унитарная Украина с ее идеальной вертикалью якобы «национальной власти» всякий раз на выборах рассыпалась, и пазл собирали заново.
Непривычна московскому глазу была и демобилизация кучмовского аппарата власти в апогее кампании. Штаб кандидата власти вел себя с неслыханной пассивностью, даже обреченностью. Выгодно выделялся только глава президентской администрации Сергей Медведчук, тип делового яппи, стилистически близкий кремлевской команде. Но и Медведчук целиком зависел от Кучмы.
В последние дни колеса кампании покатились врозь по инерции. Последней ошибкой штаба стала дозировка публикации данных подсчета голосов, начиная с участков, выгодных для Януковича. Этот прием киевляне подсмотрели у нас. В гигантской России, растянутой на одиннадцать часовых поясов, первые данные голосования появлялись на Камчатке, и затем цифровое цунами медленно катилось к Москве. Первые цифры, благоприятные для кандидата власти, невольно становились директивой членам избирательных комиссий. Глядя на Дальний Восток, аппарат «определялся», кто побеждает, что несомненно влияло на подсчет. (Теперь и у нас такая техника запрещена.)
Но в Киеве публикация первых цифр второго тура, по которым казалось, что Янукович чуть не вдвое опередил Ющенко, вызвала взрыв. Возникло ощущение фальсификации необъятных масштабов. На мостовой Крещатика появились первые сидячие пикеты: люди выходили на улицу, явно намереваясь расположиться надолго. Я бессильно наблюдал за разрастанием числа скамеечек, что не волновало штабных баронов, озабоченных динамикой процентов. Но динамика захвата Крещатика шла быстрей, и к утру возник первый Майдан.
По ходу подсчета цифры кандидатов опасно сближались, Ющенко догонял Януковича. По украинской номенклатуре пошли волны от киевского эпицентра. Хозяева областей придерживали протоколы голосования, пока не выяснится вполне, кто взял верх – Кучма или его враги? Дольше всех хранил интригу киевский мэр Омельченко. Его долго считали верной опорой Кучмы, но он уже решил перебежать в «оранжевый» лагерь. И когда, опоздав на сутки, данные по Киеву появились, причем сразу мешком в миллион голосов, – они были плохи для Януковича. Борьбу «за цифру» Янукович в конце концов формально выиграл, но с ничтожным, а значит, сомнительным превышением в три процента. К тому времени борьба за интерпретацию происходящего была им проиграна, их с Кучмой резиденции блокированы молодежью. Все это хорошо описано многими. А для меня уроком тех дней стал прогрессивный паралич аппарата власти. Бессилие, с каким президентская администрация глядела на разбегающиеся по центру палатки. Глубокий обморок номенклатуры, неспособной политически ожить. Связано это было не с Америкой, а с аппаратными играми за спиной ослабевшего Кучмы. Я своими глазами видел, как игра выскользнула из рук игроков – картина, описанная всеми современниками русской революции.
Один за другим телеканалы перешли на сторону Ющенко. Толпы в оранжевом заполнили центр города, и тут выяснилось, что власти, контролирующей все в стране, некого противопоставить улице. Намерение организовать в Донецке встречные протесты в пользу Януковича породило комичные (тогда!) телекадры, с несколькими десятками мужичков нетрезвого вида. Такой визуальный ряд уже был политической катастрофой. Еще одно удивление для меня, с 1991 года привычного, что власти Москвы на любую нужную им демонстрацию легко пригоняют любое число автобусов с «общественностью».
Да, я понимал, что передо мной некий модус демократии, не электоральной, а площадной. Будь я киевлянином, в такой ситуации я бы сам вышел на площадь. Но я не был киевлянином и испытывал острую вражду к революции в Киеве. Украинская ли она, кстати? На моих глазах воскресала русская революция, в хорошо известном виде уличной магмы. Смешно винить себя в том, что не остановил извержение вулкана – но я винил! Ведь это вулкан в землях Путина, хоть и на суверенной территории Украины.
Со сложными чувствами я вернулся в Кремль, где был торжественно официально поздравлен. Но для меня это был чистый проигрыш, и не Кучмы с Януковичем, а Путина, то есть мой. Я думал: в чем угроза случившегося для нас? Перекинуться на Россию пожар не мог, это мне было ясно. В молодежной среде Москвы «оранжевая революция» привела к недолгому карнавальному перевозбуждению. Паломничества пикаперов в «революционный Киев», кутерьма группок под громкими названиями «Мы», «Удар» и «Вперед» ничего сделать бы не могла – и не собиралась. Но «оранжевый пузырь» сильно тревожил как симптом стратегической слабости. Внутри страны это был призыв к нелояльности власти, а вовне – призыв к Западу о вмешательстве. Что тогда означало одно: апелляцию к Джорджу Бушу-младшему, военному императору западного мира. В 2004 году Буш был в зените самоуверенной силы. Он победил на выборах повторно. Карл Роув построил для этого бесподобную коалицию избирателей. Мы сравнивали ее с нашим «путинским большинством», и бушистское издали выглядело столь же прочным. В Кремле забеспокоились.
Путинское большинство устойчиво, но не мобильно. Это демобилизованное «большинство» улице предпочитало диван, телевизор и шлепанцы. В тихой Москве революционный пузырь легко было бы изобразить недорогими средствами нескольких групп активистов. Управляемая демократия Путина висела в пустоте над глубоко деидеологизированным обществом. Она даже не смела требовать верности себе. В Киеве же мы столкнулись именно с идейным вызовом.
Вслед Киеву перевороты прошли в Ливане, Киргизии, попытки были в Узбекистане и Молдове. И все их привечала Америка, и все звала «цветными революциями». Американская доктрина обещала им защиту, но после Ирака поддержка Буша однозначно понималась всеми как военная поддержка. Что если мы следующие? С 11 сентября 2001 года Кремль жил в мире Буша-младшего, и мы не знали, сколько еще проживет этот мир. Говорить о войнах нового типа и разрабатывать боевые контрстратегии стало всемирной модой. Вошли в оборот понятия асимметричной войны, войны информационной, кибервойны, и среди прочих – войны гибридной. Война стала выглядеть стильно, и иконой стиля были Соединенные Штаты. Ведя войны в Ираке и Афганистане, Буш готовился к войне с Ираном – на Каспии, нашем внутреннем озере! Приравняв демократизацию Ближнего Востока к военным интервенциям и поддержав лозунг «цветных революций» на постсоветском пространстве, он поставил нас перед мыслью о гибридной войне. Трудно представить что-то болезненней для Кремля, чем одновременность речи Буша в Тбилиси, восстания в узбекском Андижане и заявлений Ющенко о вступлении в НАТО. Ничто в мире не казалось немыслимым. Лишь когда потоп в Новом Орлеане осенью 2005-го размыл бушистский консенсус, мы допустили, что русский бог переменил гнев на милость. Любопытно, как часто невероятнейшие случаи и бедствия спасали Кремль от беды.
И. К.: Как ты смотришь на то, что случилось на Украине за последние годы? В чем наибольшая разница между Россией и Украиной – как между обществами и государствами?
Г. П.: Не буду изображать равнодушие – с первых дней Евромайдана я не мог отвести глаз от творившегося в Киеве. Во мне воскрес одессит той старой моей Одессы. И я видел, как история Украины договаривает то, что не договорила русская в 1991 году, – беловежский мир испытывался на разрыв. Конец старой Украины, на мой взгляд, не повод для московских пошлостей и пропаганды. На это надо взглянуть глазом историка, Гефтера или Тацита. В нем вскрылась проблематичность наций, возникших вследствие Беловежских соглашений. Теперь я точно знал, что Россия будет испытана следующей. Выпуская в дни Евромайдана книжку об этом («Система РФ в войне 2014 года»), я еще эгоистично надеялся, что жертва Украины отсрочит испытание для России. Увы, при вмешательстве Путина Украина подстегнула русскую метаморфозу. Сегодня Россия внутри испытания, которого не выдерживает.
С развитием Евромайдана украинское государство стало развоплощаться, таять и исчезать, как мир романа Набокова «Приглашение на казнь». То, что я видел в Киеве в те дни, было истощением повседневности, где жили 40 миллионов граждан Украины. В январе 2014-го, когда я в последний раз посетил Киев, государства уже не было, хотя в президентском дворце еще сидел Виктор Янукович. Изображая силу, которой от него ждали в Москве, он свез в столицу сброд «титушек» со всей Украины. В ответ Майдан легализовал отряды самообороны и, как водится, тут же потерял управление ими. Киевский обыватель, былой властелин этих мирных мест, теперь робко пробирался между воюющими лагерями. Майдан еще не победил, а государства уже не стало. Оно кончилось, прежде чем Янукович бежал. Говорили о «рождении нации», тогда как оборвалась склейка советско-украинского гибрида в соборную общность. Новая украинская нация не могла возникнуть в XXI веке из региональной романтики под портретом Степана Бандеры. Это лишило революцию возможности охватить все украинское общество с юго-востока на запад – и Москва ударила прямо в эту щель.
С потерей Крыма революция угасла, развернулась возня претендентов на роль повторного собирателя Украины. Но беда тем, кто застрял среди расходящихся платформ! Одесский Дом профсоюзов – бывший одесский обком КПСС, где 2 мая 2014 года заживо сгорели и задохнулись десятки одесситов, – подтвердил неготовность Украины к универсальной революции. А буржуазной Одессе показал, что конформизм ее больше не спасает. Сожжение живьем в прямом эфире взвинтило военную эскалацию. После одесской гари Россия взревела от неподдельной ненависти, желанной Кремлю и его телевидению. Явились тысячи людей, готовые бросить все и воевать на Украине за русское дело. Но это говорило и об отчаянии найти Россию в самой России. Утопию «русского мира» они искали далеко от Москвы. «Украина не Россия» – верно писал Кучма, но ведь и двух отдельных государств не сложилось. Не создавшие полноценных наций Украина и Россия искали кровавой легитимности в гибридной войне.
Для меня последнюю точку поставило летом 2014-го самоубийство одессита Миши Кордонского – старого друга, педагога и НКО’шника с советских лет, человека вне партий и политики. Его Одесса выгорела, лезть в окоп на воображаемой линии фронта он отказался. А затем в конце лета в Одессе умер папа. С того момента и одессит во мне умер. При похоронах отца в соседнем зале морга ждали прощания еще несколько тел – солдатских. Шли дни гадкой бойни под Мариуполем, Европа действительно стояла на грани большой войны. Одесса ждала наихудшего. Из окон богатых еврейских квартир свешивались флаги лояльности Украине, но я знал, что и российские флаги у них там припрятаны. Впрочем, ничто из этого теперь меня не касалось.
Глеб Павловский. Хождение за силой (послесловие)
Если б не Иван Крастев, я бы не стал писать о своей жизни. Я воображал свою vita activa одной цепью приключений с 1968-го по 2018-й, но вот неувязка: перечитав эту книгу, нахожу себя-соавтора в разладе с собой-читателем. Первому дорога биография, казавшаяся ему цельной, – читателю любопытен сочинитель власти, провалившийся в свой вымысел, как в яму.
Эта книга – о путешествии практикантом в историю аж на полвека. Его отправной точкой была вера в обыкновенность – я рос троечником и лентяем. Необычайно выглядел состав мира, но не мои свойства. Одесса пятидесятых была местом поражений, но как она пахла! Подобный пир запахов я встречу еще только раз, на волшебно вонючем Манхэттене. Анфилады города тушевались в сумраке советской власти – преступном, венецианском. Побитые стрельбой улицы рябые, как Сталин. Запустив пальцем в выбоину, я познавал истину в рыжих ребрах осколка. Улицу Маркса старики звали Екатерининской, когда-то здесь убивали. Убивали на Торговой, звавшейся Красной Гвардии, и на Комсомольской, где я родился, – ее звали Старопортофранковской, язык сломать. Счастливые дети в залитых солнцем развалинах с криком разбегались от инвалидов.
Над всеми властвовало поражение. Выжившие за домино перебрасывались именами не выживших: «А помнишь, Верочка так закашлялась и попросила малинки?» Со Второго Христианского кладбища, где лежали мои и Верочка, я глядел, как прямо напротив бульдозер сносит еврейское с мемориалом резни 1905 года. О как я ненавидел бульдозер. Фотографируя у оперного театра, папа-архитектор сообщил, что здание (любое!) опирается само на себя. Знаменитейший театр Одессы висит враскоряку над карстовыми пустотами. Любая гиперссылка вела в места поражений. Мантра МИРУ – МИР, белым кирпичом выложенная на всех путевых откосах, требовала разъяснений – их не было.
В книге-романсе Маши Степановой герою дано «рассказать хоть что-то об этих малозаметных людях, укрывшихся на теневой стороне истории, да так там и просидевших… Герой думает о себе как о продукте рода, его несовершенном результате – на самом деле, он хозяин положения». Все будто про меня и моих, но с точностью до противного: я не искал родовое. Я искал оторваться от корней навсегда. Родимое вещество жизни не извиняло мира, где я поселен был жить. Люди помалкивали. И я ушел искать себе родину в эксперименте.
Первомайская демонстрация 1956 года – вот опять папа снимает. Ах, как я ненавижу вечное в объектив гляди, улыбайся! Что же, фото испорчено: сын скосился на билборд, откуда красный мужик грозит кулаком миру. Не узнавая Маяковского, я пережил момент верности чему-то, про что не скажу отцу. Русская история позвала к себе, но мне все было лень. Я рос в царстве мягких игрушек СССР. Все детские лошадки здесь раскачивались на месте. Зато летом в Херсоне мы неслись по лодыжки в пыли! Ясновельможно тонкая, будто панбархат, пыль текла в колеях обожженной грязи по улице Жовтнево Революцi вдоль графского домика с куцым патио в курином помете и георгинах. Кто здесь кому проиграл? Пароход «Орион» чуть полз от Одессы в Херсон фарватером разминирования, нервно оглядываясь на полузатонувшие корабли слева и справа. Приехав, я летел с книгой в бабкин сад под графским орехом, с лично моей толстой ветвью-читальней. Я все это получил в наследство, но от кого? От дедовой сабли в чулане?
В 17 лет я решился на первый ход. В отчаянье от лени и подталкиваемый отцом на архитектурный, я вцепился в догадку: моя непобедимая лень – рефлекс советских поражений. Но раз было поражение, думал я, то и сила была: поражение на силу указывает. Поражение 1937-го постигло сильных людей 1917-го. Бабушка в белом платье высаживает георгины в садике убитой графини. Сам из уцелевших, я обязан всем, кто ими убит. Бояться своего поражения – значит бояться силы. Я сгнию, если не обопрусь на себя сам. И в январе 1968 года покинул империю легкой лени.
Стану машиной исторической необходимости, думал я, – стану танком! Смышленым танком – не жестоким, добрым. Услышав про такое дело, подружка уронила вязанье и сбежала в Дербент. Жаль, что на обысках пропало эссе 1968 года «Техника и этика работающего с историей» – не о науке, а о работе с ее расплавом, о ее силовой лепке. Там я ребячески отвел себе на эксперименты невообразимые 50 лет жизни – аж до столетия Октября. Похоже, эту программу я выполнил.
Я шагнул – и не стало скучных людей, ничтожного опыта. С тех пор по сей день для меня нет ничего ничтожного, не бывало и нет застоя. Гипсокартонная империя обернулась подмостками театра The Globe. Я бросил лениться – стал горяч, элегантен. И герлой на вписке история приласкала меня. Великий 1968-й достиг Одессы.
Прорыв фронтов вьетконговцами в феврале раздразнил повсеместную жажду чудес. Конец скуке мира! Пока на карте Индокитая я помечал флажками взятые северянами Гуэ и Дананг, ожили Варшава, Детройт и Прага, и пришлось докупать карту мира. Убили Кинга, в июне застрелили и Боба Кеннеди, «Черные пантеры» штурмовали центр Вашингтона. Расстреляли студентов на площади Трех Культур. В словацкой газете по-русски отец читал трактат Сахарова и «2000 слов». Неосторожным решением школьника занесло в историю. В день танковой атаки на Прагу я нашел себя в списках поступивших в Одесский универ.
История моего мира шла к концу, а моя едва началась. Я ступил в брежневское полуподполье мягко, будто в херсонскую пыль. Диссидентство сперва состояло в запойном чтении самиздата. Я бродил, нарываясь на стрессы – в книге описаны либо названы некоторые из тех экспериментов. Отправляясь на новый, я знал, что за углом всегда поострей. Ступал на запретки. Бездумно попирал линии, которых вообще незачем трогать – поражения разнообразили мой сюжет. Сюжет состоял в поиске места и времени для пробы сил.
Ранняя весна 1977-го. Давно скончалась одесская коммуна, рухнул мой первый брак, отняли сына. Я на стройке под Киржачом. Разгружаю трейлер с мерзлыми парусящими шестиметровыми досками – и вдруг леденею: удалось. Все, за чем уходил из дому, удалось мне: я в споре с советской властью, судим, плотник и давно не лентяй. Со мной Михаил Гефтер. В кармане ватника «Дуинские элегии» с повесткой от одесского КГБ вместо лютика. Пишу статьи в самиздат – меня ловят. Биография вне мейнстрима, Глебу везет! Но все надлежало проверить. Требую от себя немедленного испытания Одессой. Отпрашиваюсь со стройки, перекладными на юг, с вокзала в некий дружеский дом. Скрытно вскипятив ведро воды кипятильником, тонкою струйкой лью кипяток на ногу в тазу. Из восторга не чувствую боли. Фантазирую, что готов к пыткам в КГБ (где ничуть меня не заметили). Варить себя перестал, лишь завидев в дверях разъяренного друга. Назавтра меня позовут войти в редколлегию свободного московского журнала «Поиски». Годы поглощенности медийкой, журнализм бешеного альтернативщика, от «Поисков» и «Век ХХ и мир» до РЖ, «Пушкина», «Гефтер. ру».
Побывав одесситом, самиздатчиком, неудачником, любовником, плотником, зэком, отцом, хиппи, лидером неформалов, известным публицистом и директором информационного агентства, к своим сорока годам я не искал поражений. В 1989-м Адам Михник почти уверил меня в надежности параллельных структур, а Джордж Сорос в те же дни позвал к работе на открытое советское общество. Сочетание журналистики с неформалитетом и диссидентства с NGO виделось крепким рычагом альтернативной силы в СССР. Но тут 1991 год больно бьет меня по ладошке: нет! Так опять ничего не выйдет! Оправдав утопию диссидентства о реморализации власти, перестройка отмела иллюзию о нашей победе. 1968 год не годился в образцы для 1991-го, а Че Гевара – в советчики.
Всем знакома обида, что тебя не берут в игру, но обида 1991 года куда горчее. Я был силой на поле сил, но силы не стали играть. Бунт разносчиков пива в пивной – вот чем был 1991 год. Забыв себя сильных вчерашних, люди плутали, стулья падали, всех рвало. Что толку в игре, если твои подачи некому брать? Вот ужас беловежского момента. Я кинулся к Гефтеру – что с идеями? Ведь идеи сильны, они наши честь и родина. Они сильней слов, погубивших Союз. Res Publica amissa, Республика утрачена!
В книге Иван Крастев расспрашивает – и я рассказываю, что случилось, но обрывочно и неточно. Точность затруднительна, ведь главное было в капризах. В 1992-м слетал в Штаты побродить любимейшей Lexington, ароматной, как пекарни вдоль одесской улицы Артема, где хаживал из школы № 50. Заехал и в Вашингтон просто так, ни за чем. Но времена шли странные, и подруга потащила меня знакомить с вице-президентом США. Дэн Куэйл битый час внушал мне, бродяге: заставьте своего Ельцина продать японцам Курильские острова! Он знал, что мое агентство однажды помогло сорвать эту сделку, готовившуюся Горбачевым. Впрочем, все важное стряслось потом, после абсурдного разговора.
Уже выйдя от Куэйла, я рассмотрел, что старый офисный коридор здесь вымощен камнем. Серые плиты морщинисты, волнообразно истерты прибоем тысяч подошв. С любовью я всматривался в мегалит коридора власти, даже потрогал ладонью. Края плит круглились на ощупь, как галька: здесь исстари не было поражений. Сильное неясное впечатление хотел додумать, и, повалившийся на лужайке, я долго что-то марал перед Белым домом в блокнот. Твердыня американской республики возбудила жажду власти. Государство немедленно! – вот чего я желал для Москвы. Конечно, будущая стратегия еще потребует проработки, но прежде пусть выйдет неколебимая власть. Выстудит коридоры Кремля, твердыней ляжет нам под ноги. Главное, что я привез из Америки, – родину можно придумать заново!
После Вашингтона беловежская унылость прошла – новый Глеб знал, как действовать. Но умер Гефтер. Уйдя в политику с Армянского кладбища, я уже не был тем, кто бродяжничает наугад. Фонд эффективной политики строил не тот Павловский, что совсем недавно собирал митинги на Пушкинской и задумывал внепарламентское движение. Я был другой, опасный человек – и был искушен. Джордж Сорос где-то упрекнул меня, будто, «изучив технологии работы гражданского общества, Павловский создал то же для Путина». Вовсе нет, но странствия по альтернативам действительно приоткрывали их технологическую изнанку. И что мне Путин? Я сам себе стал Путиным. Я шел тяжеловооруженный с Гефтером наперевес. От него я знал, сколь непобедимо живуча русская власть, выкормленная глобальностью. Из чего она сделана? Из пожранных ею альтернатив.
Россия экспериментальна. Решение, опирающееся на себя, победит, положит основания государству и здравому смыслу. Restitutam rem publicam fore – Республика будет восстановлена. Таким был поспешный вывод техника из похождений шалопая. Боюсь, я забыл про многотомные отцовы СНИПы. Забы его ночное корпенье над ватманами – в чистоте чертеж постройки должен быть выверен, красив и хорош.
Прочее представлено в книге. Это рассказы о моей попытке обернуть поражение в силу. Каждый вправе создать собственное событие – я так верил, так верю. О, как я презирал стариков, ушедших от схватки. Но что знал о поражениях сам? Каково человеку справиться с силой, если та в нем действительно обнаружится?
Книга начата и кончается Одессой, куда я больше не ездок. Если она История Глеба, как друг Иван назвал предисловие, то история кончена и свернулась в кольцо.
Летний кинотеатр без крыши на Комсомольской, сбоку от моего роддома. Днем он открыт и пустой – жара, нигде никого. Смотритель позволяет полить клумбы внутри. Повезло же мне жить после смерти Сталина и после войны! Белыми петуниями садовник высаживает вдоль жаркой стены МИРУ – МИР, эхолалический отзвук Мира миров по Гефтеру. Неподъемные кольца черного шланга благоухают влажной силой и властью.
Мне всех жаль. Я пожалел обо всем. Я ни от чего не отказываюсь.
Июнь 2018
Книга задумана и составлена европейским ученым Иваном Крастевым (в России выходили его книги «Управление недоверием» (2014) и «После Европы» (2018)). Профессор Крастев в подробностях расспрашивал о моих поисках, приключениях и политических действиях начиная с 1968 года. В результате вышли главки из истории СССР и РФ за полвека глазами ее деятельного участника, очень пристрастного и субъективного.
Книга впервые вышла в сокращенной редакции на болгарском языке под названием «Время и место» (издательство «Труд», София, 2017). Для русского издания я ее расширил и переработал. Благодарю Константина Гаазе и Иру Варскую за советы по доработке российской версии книги. И, конечно, выражаю признательность венскому институту IWM (Institut fr die Wissenschaften vom Menschen), благодаря которому эти разговоры смогли состояться в 2012–2017 годах.
Читатель заметит, что я умолчал о сотнях людей, с которыми много и успешно работал в разные годы. Я остаюсь вам верен, друзья, и обязан решительно всем. Но мое положение таково, что не каждый обрадуется упоминанию в книге Павловского, а расспросить вас всех невозможно.
Незабвенный Александр Пятигорский при каждой встрече вымогал от меня обязательство написать современную историю России, но это свыше моих сил. Так прими эту книжицу в приношение, дорогая сутулая тень.