Парижские тайны Сю Эжен
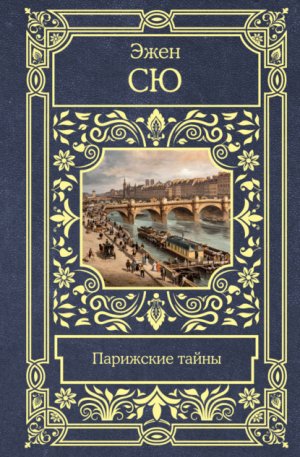
– Куда бы еще ни шло, будь этот Кабрион хорошим жильцом вроде господина Жермена, – заметил Родольф с невозмутимым хладнокровием.
– Даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, – величественно сказал человек в цилиндре, – это не в моих принципах, не в моих привычках; но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму.
– Это еще не все, – подхватила привратница. – Представьте себе, сударь, что с того самого дня, в любой час – утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прядь его волос для Кабриона!
– Вы, может быть, думаете, что я сдался? – возмущенно заявил г-н Пипле. – Как бы не так! Меня скорее бы отправили на эшафот! После трех-четырех месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей я восторжествовал благодаря энергии и выдержке над этими негодяями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю, и отказались от своих наглых выходок. Но все же, сударь, я получил удар вот сюда. – Альфред поднес руку к сердцу. – Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага; я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратницкой появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым, злоязычным, словно преступник… Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве из страха, что этот человек подослан Кабрионом; я потерял вкус ко всему на свете.
Тут г-жа Пипле поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула.
– В конце концов я замкнулся в себе, – продолжал Альфред все более жалобным тоном, – и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был не прав, говоря, что Кабрион, это исчадие ада, отравил мое существование?
И г-н Пипле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья.
– Понимаю теперь, почему вы не любите художников, – заметил Родольф, – но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом?
– О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали, он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его господь!
– Полно, успокойтесь, дорогой господин Пипле, не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь господин Жермен, этот перл всех жильцов?
– О господине Жермене нет ни слуху ни духу… Никто не знает, куда он переехал… Никто… За исключением мамзель Хохотушки.
– Хохотушки? Кто она такая? – спросил Родольф.
– Простая работница и тоже живет на пятом этаже, – подхватила г-жа Пипле. – Она настоящая жемчужина: за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая… ласковая, радостная, точно птичка божия. И прилежная, как Золушка; иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей приходится здорово гнуть спину.
– Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?
– Прежде чем выехать из нашего дома, – продолжала г-жа Пипле, – он сказал нам: «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?
– Да, насчет мамзель Хохотушки ничего дурного не скажешь, – сурово заметил привратник, – если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону.
– Что до этого, Альфред, – проговорила привратница, – Хохотушка тут ни при чем, все зависит от помещения. Ведь то же самое было с коммивояжером, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлеца Кабриона; ей-богу, иначе и быть не может, все зависит от воздуха этого этажа.
– Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель Хохотушкой?
– Да, сударь, и это нетрудно понять: обе комнаты находятся рядом; жилец оказывается соседом Хохотушки; знаете, как это бывает с молодежью… то надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды, ее всегда найдешь у Хохотушки, чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка: это ее роскошь, она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение. Потому-то у нее всегда так чисто!.. Впрочем, вы сами убедитесь в этом.
– Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом?
– Да, сударь, и надо сказать, что они прямо-таки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые; одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье, единственный свободный день этих бедных детей! Она принаряженная, в хорошеньком чепчике и хорошеньком платьице из ткани по двадцать пять су за локоть, в котором она выглядела королевой, он же одет как настоящий щеголь!
– И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома?
– Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни Хохотушке некогда думать о любовниках, ей-богу! Она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера; она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек, втроем они, право, не так много едят: на два су молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их одно удовольствие!.. Да и девушка она добрая, сострадательная; правда, деньгами она никому не может помочь; бедняжка работает иной раз по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами, но она недосыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них… Возьмем хотя бы несчастных людей, что ютятся на мансарде, как раз их-то господин Краснорукий и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня. Так вот мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми!
– Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья?
– Нуждающаяся, сударь? Бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать! Пятеро малолетних детей, тяжело больная мать и полоумная бабка; а кормит всю эту ораву единственный в семье мужчина, работяга, каких мало, но он даже хлеба не ест досыта, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят: «Хлеба, хлеба!» – больная жена стонет на своем соломенном тюфяке, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица… тоже, понятно, от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли.
– Какой ужас! – воскликнул Родольф. – И никто им не помогает?
– Как вам сказать, сударь, такие бедняки, как мы, выручаем друг друга по силе возможности. С тех пор как офицер платит мне двенадцать франков в месяц за уборку, я раз в неделю варю мясо и отношу этим горемыкам кастрюльку бульона. Мамзель Хохотушка недосыпает ночей и шьет из оставшихся лоскутов чепчики и распашонки для малышей, но, разумеется, в такие вечера ей приходится платить лишку за освещение… А бедный господин Жермен, который тоже не был богачом, притворялся, будто получает время от времени из деревни несколько бутылок хорошего вина, и тогда Морель (так зовут этого рабочего) выпивал стакан или два, что хоть ненадолго подбадривало его.
– А шарлатан не помогал этим бедным людям?
– Господин Брадаманти? – переспросил привратник. – Он вылечил меня от ревматизма, что правда, то правда, я уважаю его за это; но я тогда же сказал своей подруге: «Анастази, господин Брадаманти…» Гм, гм! Я ведь кое-что сказал тебе о нем, Анастази?
– Да, правда, но он любит пошутить! По крайней мере, на свой лад, почти не раскрывая рта.
– Но что он сделал для Морелей?
– Видите ли, сударь. Когда я заговорила с ним о бедственном положении Морелей, а заговорила я в ответ на его жалобу, что старуха выла всю ночь и не давала ему спать, он ответил: «Если они такие несчастные, я готов бесплатно вырвать у одного из них шестой зуб, если он у него испорчен, и уступить им за полцены бутылку моей целебной воды».
– Так вот, хоть он и вылечил меня от ревматизма, – воскликнул господин Пипле, – я утверждаю, что говорить так нехорошо, но он вечно такие шутки шутит. Будь они только непристойные!..
– Подумай, Альфред, ведь он итальянец, быть может, у них принято так шутить.
– Право, госпожа Пипле, – сказал Родольф, – у меня создалось дурное впечатление об этом человеке, и я не стану ни заходить к нему, ни, как вы говорите, водить с ним компанию… А женщина, что дает деньги под залог, оказалась более щедрой?
– Гм! Не больше, чем господин Брадаманти, – сказала привратница, – она дала Морелям денег под залог их тряпья… Все, что у них было, перекочевало к ней, вплоть до последнего тюфяка… Дело не затянулось, так как больше двух тюфяков у них никогда не было.
– А теперь она им не помогает?
– Мамаша Бюрет? Как бы не так: в своем роде она такая же сквалыга, как и ее любовник; можете мне поверить: господин Краснорукий и мамаша Бюрет… – заметила привратница, с необыкновенным лукавством сощурив глаза и покачав головой.
– Неужели? – спросил Родольф.
– Еще бы… любовь до гроба!.. Ничего не поделаешь! Ночи бабьего лета так же горячи, как и летние ночи, правда, старый дорогуша?
Вместо ответа г-н Пипле меланхолически покачал своим цилиндром.
– Чем занимается этот несчастный рабочий? Какое у него ремесло?
– Он гранильщик фальшивых камней; работает сдельно и так много сидит сгорбившись, что весь скособочился. Вы сами убедитесь в этом… Впрочем, выше головы не прыгнешь, а когда надо прокормить, кроме себя, ораву из семи человек, вот и приходится тянуть лямку! Хорошо еще, что старшая дочь помогает ему по силе возможности, да возможности-то у нее не больно велики.
– А сколько лет девочке?
– Семнадцать, и хороша при этом, как картинка; она работает служанкой у старого скряги и такого богача, что он мог бы скупить весь Париж; это нотариус по имени Жак Ферран.
– Жак Ферран! – воскликнул Родольф, удивленный этим новым совпадением, ибо у нотариуса Феррана или, по крайней мере, у его экономки он должен был получить сведения о Певунье. – Это тот самый Жак Ферран, что живет на Пешеходной улице?
– Правильно!.. Вы его знаете?
– Он нотариус того торгового дома, где я работаю.
– Значит, вам известно, что он скряга, каких мало; но, надо сказать, человек он честный и богомольный… По воскресеньям ходит к обедне и к вечерне, исповедуется и причащается на Страстной неделе; если он и устраивает застолье, то для одних только священников, пьет святую воду и ест благословленный хлеб… Принимает скудные сбережения от бедноты. Словом, он праведник! А вместе с тем скуп и безжалостен и к другим, и к себе. Уже полтора года, как несчастная Луиза, дочка Мореля, служит у него в прислугах. Девушка сущая овечка по характеру, а работает как лошадь и за какие-то жалкие восемнадцать франков в месяц делает всю работу по дому; шесть франков оставляет себе, а все остальное отдает родителям. Конечно, это подспорье в хозяйстве, но ведь в семье-то восемь ртов!..
– И все же отец что-то зарабатывает, если он трудолюбив.
– Такого работягу, как он, поискать! За всю жизнь даже не притронулся к спиртному. Человек он порядочный, добрый, как Иисус Христос. За свое усердие он готов просить у господа бога лишь одного: чтобы в сутках было сорок восемь часов. Тогда он заработал бы побольше денег для своей ребятни.
– Неужели у него такая невыгодная работа?
– Он три месяца проболел, и это выбило его из колеи; жена погубила свое здоровье, ухаживая за ним, и теперь сама дышит на ладан; последние три месяца им пришлось жить на двенадцать франков Луизы, на то, что они получали под залог у мамаши Бюрет, и на несколько экю, которые им ссудила посредница, доставляющая ему работу. Но подумать только, ведь их восемь человек. Они у меня из головы не выходят, а посмотрели бы вы на их трущобу!.. Но довольно говорить об этом: мой обед готов, а при мысли об их мансарде у меня тошнота подступает к горлу. К счастью, господин Краснорукий скоро выселит их из дома. Я говорю это не по злобе, поверьте, но если уж так повелось, что кто-то должен прозябать в нищете, как эти несчастные Морели, пусть лучше прозябают в другом месте, мы все равно не можем им помочь. Зато перед глазами у нас одной бедой будет меньше.
– Но если он выгонит их, куда же они пойдут?
– Почем я знаю.
– А сколько зарабатывает в день этот рабочий?
– Если бы ему не приходилось ухаживать за матерью, женой и детьми, он зарабатывал бы четыре-пять франков, уж больно он старательный, но три четверти времени бедняга занят хозяйством, а потому выгоняет не больше сорока су.
– Это не густо. Несчастные люди!
– Да уж, несчастнее быть некуда! Вы правильно сказали. Но на свете столько горемык, которым мы все равно не можем помочь, что приходится в чем-то искать утешение, не правда ли, Альфред? Кстати, мы совсем забыли про черносмородиновую наливку.
– По правде говоря, госпожа Пипле, то, что вы мне рассказали, расстроило меня – вы выпьете наливку за мое здоровье вместе с господином Пипле.
– Вы очень любезны, сударь, – проговорил привратник, – но скажите, вы по-прежнему хотите посмотреть комнату на пятом этаже?
– Охотно, и, если она мне подойдет, я тут же дам вам задаток.
Привратник вышел из своего логова. Родольф последовал за ним.
Глава XI. Четыре этажа
Темная сырая лестница казалась еще мрачнее в этот печальный зимний день.
Для человека наблюдательного каждая дверь, ведущая в одну из квартир дома, имела свой неповторимый вид.
Так, дверь в холостяцкую квартиру офицера была только что выкрашена в коричневый цвет с прожилками под стать палисандровому дереву; медная позолоченная ручка сверкала над замочной скважиной, а великолепный шнур звонка с красной шелковой кистью контрастировал с грязными облупленными стенами.
Дверь третьего этажа, занимаемого гадалкой, которая давала деньги под залог, являла еще более странное зрелище: чучело совы, птицы в высшей степени символической и загадочной, было прибито за крылья и лапки к дверной раме, а зарешеченное окошечко позволяло гадалке рассмотреть посетителя, прежде нежели впустить его.
Жилище итальянского шарлатана, подозреваемого в том, что он занимается недозволенным ремеслом, тоже выделялось своим необычным входом, ибо его фамилия была выведена из лошадиных зубов, вделанных в прибитую к двери черную деревянную доску.
Шнур от звонка не заканчивался, как обычно, лапкой зайца или копытцем косули, а мумифицированной рукой обезьяны.
Вид ссохшейся ручки с пятью маленькими пальчиками и ноготками был омерзителен.
Казалось, будто это ручка ребенка.
В ту минуту, когда Родольф проходил мимо этой показавшейся ему зловещей двери, за ней послышались сдерживаемые рыдания, затем тишину дома внезапно нарушил крик боли, крик судорожный, пугающий, словно исторгнутый из глубины человеческого сердца.
Родольф вздрогнул.
Чувство опередило сознание, он подбежал к двери и резко позвонил.
– Что с вами, сударь? – спросил удивленный привратник.
– Какой жуткий крик, – проговорил Родольф, – разве вы не слышали?
– Понятно, слышал. Кричал, верно, какой-нибудь пациент господина Сезара Брадаманти, которому он вырвал зуб или два.
Это объяснение было правдоподобно, но оно не удовлетворило Родольфа.
Только что раздавшийся крик показался ему не только воплем физической боли, но и, если можно так выразиться, боли душевной.
Звонок прозвучал очень громко.
Сперва никто на него не отозвался.
Послышалось хлопанье дверей; затем за стеклом небольшого оконца, пробитого возле двери, на которое машинально смотрел Родольф, появились смутные очертания изможденного синевато-бледного омерзительного лица с копной рыжих с проседью волос и длинной, такого же цвета бородой.
Лицо тут же исчезло.
Родольф был ошеломлен.
Промелькнувшая в оконце физиономия показалась ему знакомой.
Эти блестящие зеленые, как аквамарин, глаза под широкими бровями, рыжими и взъерошенными, эта мертвенная бледность, этот тонкий нос, похожий на орлиный клюв, с широкими ноздрями, позволяющими видеть часть носовой перегородки, – все это ясно напомнило ему некоего аббата Полидори, которого проклинали во время своей беседы Мэрф и барон фон Граун.
Хотя Родольф не видел аббата Полидори шестнадцать или семнадцать лет, у него было множество причин не забывать его; одно обстоятельство сбивало его с толку: священник, которого, как ему казалось, он узнал в облике рыжего шарлатана, был прежде жгучим брюнетом.
Родольфа не слишком бы удивило (при условии, что его подозрения были обоснованны), если бы человек, облеченный саном священника, человек, известный своими дарованиями, обширными познаниями и редким умом, пал столь низко, что покрыл себя позором, ибо эти выдающиеся способности, эти обширные познания и редкий ум сочетались у него с величайшей испорченностью, с разнузданным поведением, порочными наклонностями и, главное, с таким циничным бахвальством, с таким убийственным презрением к людям и вещам, что, впав в заслуженную нищету, он не только мог, но и должен был прибегнуть к самым недостойным ухищрениям и находить своего рода ироническое, кощунственное удовлетворение в том, что он, человек с поистине выдающимися дарованиями и умом, он, облеченный саном священника, играет в жизни роль бесстыдного фигляра.
Но, повторяем, хотя они расстались с аббатом Полидори, когда тот был в расцвете сил и теперь должен был сравняться по возрасту с шарлатаном, между этими двумя людьми были столь явные различия, что Родольф усомнился в своей догадке.
– Давно ли поселился у вас в доме господин Брадаманти? – спросил он г-на Пипле.
– Около года тому назад, сударь, и тут же уплатил мне за январь месяц. Жилец он аккуратный и, главное, вылечил меня от злейшего ревматизма… Но, как я уже говорил вам, у него есть один недостаток: уж слишком много он зубоскалит и ни к чему не имеет уважения.
– В каком смысле?
– Я не невинная девушка, сударь, награжденная за добродетель, – серьезно проговорил г-н Пипле, – но смеяться можно по-разному.
– Так, значит, он весельчак?
– Дело не в том, что он человек веселый, как раз наоборот; вид у него как у мертвеца, и он никогда по-настоящему не смеется… а только на словах; для него нет ничего святого – ни отца, ни матери, ни бога, ни дьявола, он над всем издевается, даже над своей водой, своей целебной водой, сударь! Не скрою от вас, иной раз его шутки так пугают меня, что я весь покрываюсь гусиной кожей. Если ему случается провести у нас четверть часа, он пускается в непристойные разговоры о полуголых женщинах, которых повидал в далеких странах… и когда после этого мы с Анастази остаемся с глазу на глаз… так вот, сударь, я, который за тридцать семь лет привык нежно любить жену и считаю такое отношение правильным… так вот, мне начинает казаться, что я меньше люблю ее… Вы будете смеяться надо мной… но господин Сезар рассказал нам как-то о пиршествах племенных вождей, на которых он присутствовал, чтобы проверить, достаточно ли прочны зубы, вставленные им этим царькам; так вот, после его ухода мне показалось, что пища горчит, и я потерял всякий аппетит. Наконец, я люблю свое дело, сударь, я горжусь им. Я мог бы шить новую обувь, как и многие сапожники-честолюбцы, но, по-моему, я приношу не меньше пользы, подбивая подметки к старым башмакам. Так вот, сударь, бывают дни, когда насмешки этого дьявола Брадаманти заставляют меня жалеть, что я не стал первоклассным сапожником, честное слово! А как он говорит о женщинах какого-нибудь дикого племени, которых близко знавал… Повторяю, сударь, я не девушка, награжденная за добродетель, но иной раз, черт возьми, я краснею до корней волос, – прибавил г-н Пипле с видом оскорбленной добродетели.
– И госпожа Пипле терпит такие разговоры?
– Анастази обожает умных людей, а, несмотря на свои вольные речи, господин Сезар очень умен; вот почему она все ему спускает.
– Она сказала мне также о некоторых чудовищных слухах…
– Сказала?
– Будьте покойны, я не болтлив.
– Так вот, сударь, я этим слухам не верю и никогда не поверю, и все же помимо моей воли они приходят мне на ум, а это еще увеличивает странное впечатление от шуток господина Брадаманти. Словом, сударь, скажу вам положа руку на сердце, что я ненавижу Кабриона и унесу эту ненависть с собой в могилу. Так вот, иной раз мне кажется, что я предпочел бы его бесстыдные проделки надо мной и нашими жильцами насмешкам, которыми сыплет с невозмутимым видом господин Сезар, неприятно морща губы, что напоминает мне агонию моего дядюшки Русело, который, хрипя перед смертью, морщил губы в точности как господин Брадаманти.
Несколько слов г-на Пипле о постоянной иронии, с которой шарлатан отзывается обо всех и обо всем и своими горькими шутками отравляет самые скромные радости, подтвердили первоначальные подозрения Родольфа; в самом деле, стоило аббату сбросить свойственную ему маску, как он неизменно проявлял самый наглый и возмутительный скептицизм.
Твердо решив выяснить свои сомнения, ибо присутствие аббата могло нарушить его планы, готовый придать зловещий смысл душераздирающему крику, поразившему его, Родольф последовал за привратником на следующий этаж, чтобы осмотреть сдаваемую внаем комнату.
Квартирку Хохотушки, находившуюся рядом с этой комнатой, легко было узнать по прелестному знаку внимания, оставленному ей художником, смертельным врагом г-на Пипле.
С полдюжины маленьких толстощеких амуров, весьма изящно и остроумно написанных в духе Ватто, окружали дверную табличку, держа в руках всякие подходящие к случаю предметы – кто наперсток, кто ножницы, кто утюг или зеркальце; на светло-голубом фоне таблички красовалась выведенная розовой краской надпись: «Мадемуазель Хохотушка, портниха». Вся композиция была обрамлена гирляндой цветов, выделяющейся на бледно-зеленом фоне двери.
Это очаровательное небольшое панно являло резкий контраст с безобразием стен и лестницы.
Рискуя растравить кровоточащую рану Альфреда, Родольф все же обратился к нему с вопросом:
– Скажите, это, очевидно, работа господина Кабриона?
– Да, сударь, он отважился испортить эту дверь непристойной мазней, изобразив на ней голых детей, которых зовут амурами. Без горячих просьб мамзель Хохотушки и попустительства господина Краснорукого я бы все это соскоблил, а также палитру, что изображена на двери вашей комнаты.
В самом деле, палитра с полным набором красок как бы висела на этой двери.
Родольф последовал за привратником в довольно обширную комнату, предшествуемую крохотной передней и освещенную двумя большими окнами, которые выходили на улицу Тампль; несколько фантастических набросков, изображенных на ее двери г-ном Кабрионом, были тщательно сохранены г-ном Жерменом.
У Родольфа было достаточно причин, чтобы снять эту комнату, и он вручил привратнику скромную сумму в сорок су.
– Комната мне вполне подходит, а вот и задаток; завтра я велю привезти сюда мебель. Как по-вашему, мне не надо обращаться к главному съемщику, господину Краснорукому? – спросил он у привратника.
– Нет, сударь, он лишь изредка наведывается к нам: приходит лишь по своим делишкам с мамашей Бюрет. Все жильцы обращаются непосредственно ко мне; я попрошу вас только назвать ваше имя.
– Родольф.
– Родольф, а дальше?..
– Просто Родольф, господин Пипле.
– Ваше дело, сударь; я спросил об этом не из любопытства: каждый волен назваться любым именем.
– Скажите, господин Пипле, не следует ли мне зайти завтра к Морелям и узнать в качестве их нового соседа, не могу ли я помочь им в чем-нибудь, ведь мой предшественник, господин Жермен, тоже по мере сил помогал им.
– Конечно, сударь; только ваш визит будет ни к чему, ведь их выселяют отсюда, но он им польстит.
Затем, словно осененный внезапной догадкой, г-н Пипле взглянул на своего жильца с гордым, самодовольным и лукавым видом.
– Понимаю, понимаю! – воскликнул он. – Это для начала, чтобы зайти потом по-соседски к молоденькой швее.
– Как раз на это я и рассчитываю.
– Тут нет ничего дурного, сударь: таков обычай; и, знаете, мамзель Хохотушка, верно, услыхала, что кто-то пришел осматривать комнату, и ждет не дождется, чтобы увидеть нового жильца. Я погромче поверну ключ в замке, а вы не спускайте глаз с ее двери.
В самом деле, Родольф заметил, что дверь, так любезно украшенная амурами в стиле Ватто, была приоткрыта, и смутно различил за ней вздернутый носик и большие черные глаза, блестящие и любопытные; но как только он замедлил шаг, дверь сразу захлопнулась.
– Я же говорил, что она поджидает вас! – заметил привратник и, помолчав, добавил: – Прошу прощения, сударь!.. Я загляну в свою обсерваторию.
– Какую обсерваторию?
– На самом верху этой приставной лестницы имеется площадка, куда выходит дверь мансарды Морелей, а за обшивкой их стены я обнаружил небольшое углубление, куда и складываю всякий хлам. В стене много трещин, вот почему из этого углубления я вижу и слышу Морелей так же ясно, как будто сижу у них в комнате. Я не шпионю за ними, помилуй бог! Я просто смотрю на их жизнь, как на мрачную мелодраму. Зато, вернувшись к себе в привратницкую, я чувствую себя так, словно попал во дворец. Вот что, сударь, если вам охота поглядеть на них, не то они скоро уедут… Зрелище это печальное, но любопытное, и, когда заходишь к ним, они ведут себя как дикари, стесняются, видите ли…
– Вы очень любезны, господин Пипле, как-нибудь в другой раз, может быть, завтра я воспользуюсь вашим предложением.
– Пожалуйста, сударь; но сейчас мне надо подняться в свою обсерваторию за куском сафьяна. Если вы желаете спуститься вниз, я вас догоню.
И г-н Пипле стал карабкаться по лестнице, ведущей на мансарду, – восхождение, довольно опасное в его возрасте.
Родольф бросил последний взгляд на дверь мамзель Хохотушки, думая о том, что эта девушка, бывшая приятельница бедной Певуньи, вероятно, знает, где нашел себе пристанище сын Грамотея, когда на этаже под ним кто-то вышел от шарлатана; он услышал легкую женскую поступь и шелест шелкового платья. Родольф задержался, чтобы не смущать посетительницу.
Когда звук ее шагов затих, он продолжил свой путь.
На последних ступеньках второго этажа он поднял носовой платок, видимо принадлежавший особе, побывавшей у шарлатана.
Родольф подошел к одному из узких окон, освещавших лестничную площадку, и рассмотрел платок, богато отделанный кружевами; на одном из его уголков были вышиты инициалы Л и Н, увенчанные герцогской короной.
Платок был буквально залит слезами.
Родольф хотел было ускорить шаг, чтобы отдать платок потерявшей его особе, но побоялся, что такая любезность может сойти за проявление непристойного любопытства; он оставил у себя платок, случайно напав на след какой-то таинственной и, очевидно, мрачной истории.
Войдя к привратнице, он спросил:
– Скажите, госпожа Пипле, вы не заметили спустившейся по лестнице женщины?
– Да, сударь. От господина Сезара только что вышла красивая, высокая, стройная женщина под черной вуалью. Мальчишка Хромуля сходил за извозчиком, на котором она и уехала. Меня удивило, что этот негодник уселся на задок экипажа, быть может, чтобы посмотреть, где живет эта дама, ведь он любопытен, как сорока, и проворен, как хорек, несмотря на свою хромую ногу.
Итак, подумал Родольф, шарлатан узнает адрес этой женщины. Уж не он ли приказал Хромуле последовать за незнакомкой?
– Так как же, сударь? Подошла вам комната или нет? – спросила привратница.
– Вполне подошла; я снял ее и завтра же пришлю свою мебель.
– Да благословит вас бог, сударь, за то, что вы зашли к нам. В нашем доме появится хотя бы один приятный жилец. У вас такой добросердечный вид, что вы сразу приглянулись Пипле. Вы будете смешить его, как смешил господин Жермен, у которого всегда находилась для него какая-нибудь шутка; а моему бедному дорогуше только бы посмеяться; мне кажется поэтому, что не пройдет и месяца, как вы с ним крепко сдружитесь.
– Полноте, вы льстите мне, госпожа Пипле.
– Нисколько; я говорю от чистого сердца. А если вы будете милы с Альфредом, я отблагодарю вас; увидите вашу маленькую квартирку: я как зверь воюю с пылью; а если пожелаете отобедать с нами в воскресенье, я вам приготовлю такое угощение, что вы пальчики оближете.
– Договорились, госпожа Пипле, вы будете убирать мою комнату; завтра вам привезут мебель, а я зайду, чтобы проследить за ее расстановкой.
Родольф вышел.
Результаты его посещения дома на улице Тампль были весьма плодотворны не только для раскрытия тайны, которую он хотел узнать, но и для благородных целей, побуждавших его делать добро и предотвращать зло.
А результаты эти были таковы.
Мадемуазель Хохотушка явно была осведомлена о новом пристанище Франсуа Жермена, сына Грамотея.
Молодая женщина, весьма напоминавшая, увы, маркизу д’Арвиль, назначила на следующий день свидание офицеру, которое могло навеки запятнать ее доброе имя.
А Родольф по многим причинам относился с глубоким участием к г-ну д’Арвилю, спокойствие и честь которого были поставлены под угрозу.
При посредстве Краснорукого честный и работящий ремесленник, впавший в безысходную нищету, должен был вскоре оказаться на улице вместе со своей семьей.
Кроме того, Сычиха, недавно вышедшая из больницы, куда она попала после происшествия на аллее Вдов, поддерживала подозрительные сношения с г-жой Бюрет, гадалкой, дававшей деньги под залог, которая жила на третьем этаже этого же дома.
Собрав все эти сведения, Родольф вернулся домой на улицу Плюме; посещение нотариуса Жака Феррана он решил отложить до следующего дня, ибо в тот вечер ему предстояло побывать на роскошном балу в посольстве ***.
Прежде нежели принять участие с нашим героем в этом празднестве, давайте бросим взгляд на Тома и Сару, важных действующих лиц этой истории.
Глава XII. Том и Сара
Саре Сейтон, вдове графа Мак-Грегора, было тогда тридцать семь – тридцать восемь лет; она принадлежала к знатному шотландскому роду и была дочерью баронета, проживавшего обычно в своей усадьбе. Оставшись круглой сиротой в возрасте семнадцати лет, красавица Сара покинула Шотландию вместе с братом Томом Сейтоном оф Холсбери.
Нелепые пророчества крестьянки, бывшей кормилицы Сары, непомерно раздули основные недостатки девушки – гордость и тщеславие, ибо старуха с глубоким убеждением и редкой настойчивостью предсказывала ей самый высокий удел… Скажем прямо: удел королевы.
Юная шотландка поверила этим словам кормилицы и в угоду своему славолюбию постоянно вспоминала, что некая гадалка тоже обещала корону красивой, очаровательной креолке, которая заняла впоследствии французский трон и была истинной королевой по обаянию и доброте, тогда как другие бывают королевами по величавости и благородству осанки.
Странное дело! Том Сейтон, такой же суеверный, как и его сестра, поощрял нелепые надежды Сары и решил посвятить свою жизнь осуществлению ее мечты, мечты столь же блестящей, сколь и безумной.
Однако брат с сестрой не были настолько слепы, чтобы твердо верить предсказаниям кормилицы, и вопреки своему горделивому презрению к второстепенным королевствам и княжествам готовы были пренебречь размерами этих владений, лишь бы корона увенчала взбалмошную головку Сары.
При помощи «Готского альманаха» на тысяча восемьсот девятнадцатый год от Рождества Христова Том Сейтон составил перед своим отъездом из Шотландии нечто вроде синоптической таблицы всех неженатых королей и принцев Европы с указанием возраста каждого из них.
Невзирая на всю их нелепость, честолюбивые мечты брата с сестрой были лишены неблаговидных расчетов. Том собирался помочь Саре плести брачные интриги ради заполучения любого венценосца и способствовать ей во всех поисках, которые могли бы привести их обоих к желаемому результату; но он скорее убил бы сестру, чем видеть ее любовницей какого-нибудь принца, даже если бы такая связь сулила ей законный брак.
Своеобразный брачный список, составленный Томом и Сарой по «Готскому альманаху», удовлетворил их обоих.
Особенно много наследных принцев оказалось в Германском союзе. Сара была протестанткой; Том знал, с какой легкостью в Германии заключаются морганатические браки, браки вполне законные, и в крайнем случае готов был дать согласие на такой брачный союз. Итак, брат и сестра решили отправиться прежде всего в Германию и именно там приступить к предполагаемой ловле женихов.
Если такой проект покажется читателю невероятным, а такие надежды безумными, мы ответим прежде всего, что безудержное честолюбие, к тому же раздутое суеверием, вряд ли может претендовать на благоразумие, ибо его привлекает лишь невозможное; стоит вспомнить, кроме того, некоторые современные факты, начиная с респектабельных морганатических браков между монархами и нетитулованными особами и кончая любовной одиссеей мисс Пенелопы и принца Капуанского[68], чтобы отказать бредням Тома и Сары в возможности счастливого исхода.
Добавим, что чарующая красота сочеталась у Сары с самыми разнообразными талантами и с силой обольщения, тем более опасной, что, несмотря на свою сухую, холодную душу, изворотливый и злой ум, глубокую скрытность и цельный, настойчивый характер, она производила впечатление женщины великодушной, пылкой и страстной.
При этом внешность ее была столь же обманчива, как и характер.
Большие темные глаза Сары под черными как смоль бровями, то искрометные, то томные, умели выражать весь пыл страсти, хотя жгучие порывы любви еще ни разу не заставили биться ее ледяное сердце, а чувственные или сердечные увлечения не могли нарушить безжалостных расчетов этой хитрой, эгоистичной и честолюбивой женщины.
Перебравшись на континент, Сара решила по совету брата повременить с «военными действиями» до посещения Парижа, дабы, вращаясь в обществе, прославленном приятностью общения, непринужденностью, изяществом и вкусом, придать лоск своему воспитанию и сгладить присущую ей британскую чопорность.
В высший парижский свет Сара получила доступ благодаря нескольким рекомендательным письмам и милостивому покровительству жены английского посла, а также престарелого маркиза д’Арвиля, знавшего некогда в Англии отца Тома и Сары.
Лживые, холодные, рассудочные люди усваивают с поразительной легкостью несвойственные им язык и манеры; у них все показное, внешнее, поверхностное, притворное, наигранное; стоит кому-нибудь разгадать натуру такого сорта людей, чтобы погубить их в общественном мнении; вот почему своеобразный инстинкт самосохранения помогает им как нельзя лучше маскировать свою внутреннюю сущность. Они гримируются и меняют манеры с быстротой и ловкостью заправского актера.
Короче говоря, после полугодового пребывания в Париже Сара могла состязаться с заправской парижанкой благодаря приобретенной ею пикантной живости разговора, заразительному веселью, простодушному кокетству, наивной игривости взгляда, одновременно целомудренного и страстного.
Найдя свою сестру достаточно хорошо подготовленной, Том отбыл с ней в Германию, снабженный превосходными рекомендательными письмами.
Первым государством Германского союза, находившимся на пути Тома и Сары, было великое герцогство Герольштейнское, обозначенное следующим образом в непогрешимом «Готском альманахе» за год 1819-й:
ГЕНЕАЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
МОНАРХОВ И ИХ СЕМЕЙ
ГЕРОЛЬШТЕЙН
Великий герцог Максимилиан-Родольф родился 20 декабря 1764 года и вступил на престол 21 апреля 1785 года после кончины своего отца Карла-Фредерика-Родольфа.
Сын герцога Максимилиана-Родольфа родился 17 апреля 1803 года.
Вдовствующая великая герцогиня Юдифь потеряла своего супруга великого герцога Карла-Фредерика-Родольфа 21 апреля 1785 года.
Как человек здравомыслящий, Том записал во главе своего списка наиболее молодых наследников престола, с которыми он хотел породниться, полагая, что юность гораздо легче поддается соблазну, нежели зрелый возраст. Кроме того, как мы уже говорили, Том и Сара получили самые горячие рекомендации к великому герцогу Герольштейнскому от престарелого маркиза д’Арвиля, очарованного, как и все, Сарой, красотой, изяществом и врожденным обаянием которой он не мог нахвалиться.
Согласно «Готскому альманаху», наследником престола великого герцогства Герольштейнского был Густав-Родольф; ему едва минуло 18 лет, когда Том и Сара были представлены его отцу.
Прибытие юной шотландки всколыхнуло этот небольшой немецкий двор, спокойный, простой, строгий, словом, патриархальный. Великий герцог, прекраснейший из людей, управлял своим государством с мудрой твердостью и отеческой добротой; трудно было бы найти государство, более процветающее и спокойное, чем это небольшое княжество, население которого, трудолюбивое, серьезное, воздержанное и благочестивое, являло собой идеальное воплощение германского характера.
Жители Герольштейна были так счастливы, так довольны своим положением, что просвещенному и заботливому великому герцогу не стоило труда предохранить их от мании конституционных нововведений.
Что же касается современных открытий и идей, могущих оказать глубокое воздействие на благосостояние и нравы народа, то великий герцог постоянно справлялся о них в различных европейских странах через своих представителей, у которых, в сущности, не было иной заботы, как держать его в курсе всевозможных научных открытий с точки зрения их общественной и практической пользы.
Мы уже говорили выше, что великий герцог испытывал чувства любви и признательности к престарелому маркизу д’Арвилю за огромные услуги, которые тот оказал ему в 1815 году; вот почему благодаря рекомендации этого последнего Том и Сара Сейтон оф Холсбери были приняты при Герольштейнском дворе с особым почетом и радушием.
Не прошло и двух недель после приезда брата с сестрой в Герольштейн, как Сара, наделенная острой наблюдательностью, без труда разгадала твердый, честный и открытый характер великого герцога; прежде нежели обольстить сына, что должно было неминуемо случиться, она задумала, и вполне разумно, удостовериться в намерениях отца. Великий герцог так безумно любил Родольфа, что сначала Сара поверила, будто он способен согласиться на мезальянс своего дорогого сына, лишь бы не видеть его несчастным. Но шотландка вскоре убедилась, что этот столь нежный отец никогда не отречется от иных принципов и идей, имеющих отношение к долгу и обязанностям коронованных особ.
Это было не гордыней с его стороны, а сознанием своего высокого положения, чувством чести и здравым смыслом.
Между тем человек столь энергичного склада, который бывает тем ласковее и добрее, чем он тверже и сильнее характером, никогда не уступит в том, что касается его положения, чести и здравого смысла.
Столкнувшись с таким препятствием, Сара уже была готова отказаться от своих замыслов, но, сообразив, что Родольф еще очень молод, что все хвалят его за мягкость, доброту, за нрав, одновременно застенчивый и мечтательный, она посчитала юного герцога человеком слабым, нерешительным и с прежним упорством продолжала добиваться осуществления своих проектов и надежд.
В этих сложных обстоятельствах Сара и ее брат проявили чудеса ловкости.
Молодая девушка сумела привлечь на свою сторону всех и, главное, тех женщин, которые могли приревновать ее или позавидовать ее преимуществам; скромностью и простотой она заставила их забыть о своих достоинствах и красоте. Вскоре она стала любимицей не только великого герцога, но и его матери, вдовствующей великой герцогини Юдифи, которая, вопреки или благодаря своему девяностолетнему возрасту, до безумия любила все юное и прелестное.
Том и Сара не раз заговаривали о своем отъезде. Герольштейнский монарх не желал и слышать о нем, и, чтобы окончательно привязать к своему двору брата с сестрой, он попросил баронета Тома Сейтона оф Холсбери принять в ту пору вакантную должность обершталмейстера и упросил Сару не покидать великой герцогини Юдифи, которая не могла обходиться без нее.
После долгих колебаний, которые наталкивались на настоятельные уговоры, Том и Сара приняли эти блестящие предложения и обосновались при Герольштейнском дворе, куда они прибыли всего два месяца тому назад.
Сара была превосходной певицей: зная вкус великой герцогини к композиторам прежнего времени и, в частности, к Глюку, она выписала произведения этого знаменитого композитора и обворожила престарелую герцогиню своей неисчерпаемой любезностью и тем выдающимся талантом, с которым исполняла его прекрасные старинные мелодии, такие простые и выразительные.
Том, со своей стороны, был весьма полезен великому герцогу в порученной ему должности. Шотландец превосходно знал лошадей, любил порядок и был человеком твердым; за короткое время он преобразовал дворцовые конюшни, огромный ущерб которым был нанесен небрежностью и рутиной.






