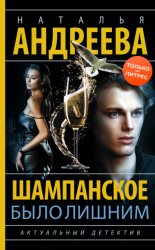Диктатор Снегов Сергей

А говорил он о том, что в Кортезии чистоган – мера всего. Любовь и еда, красота и власть, богатство и слава – все это разные понятия, но все они могут быть выражены в деньгах как универсальном мериле. Такой-то стоит миллион диданов – и это характеристика не только его богатства, но и силы его ума, его жизненной энергии. И хоть не говорят, что вот эта девушка любит своего парня с силой в сто тысяч диданов, но если бы кто и сказал так, то вряд ли это вызвало бы возмущение. Найти за крупную плату исполнителей приговоров Черного суда – задача нетрудная. Но как это человек сумеет доказать, что именно он, а не другой выполнил приговор, и как он получит награду?
– На это нам ответит министр разведки.
Прищепа доложил, что в Кортезии у него свои люди и что он организует туда тайную доставку золота.
– Два вопроса, Гамов, – сказал я. – Об ответе на первый уже догадываюсь. Из запрошенного золота вы выделите Черному суду половину. Стало быть, вторая половина – Белому суду?
– Да, именно так, – подтвердил Гамов. – Милосердие нуждается в финансовой поддержке еще больше, чем террор против преступников. Слова о справедливости останутся только словами, если будет пуста рука помощи, протянутая страдающим и униженным. Милосердие полновластней террора. Без милосердия сам террор превратится в организованное преступление. И когда возникнет борьба между карающей и милующей руками, предпочтение должна получить вторая.
Я не удержался от иронии:
– Недавно я сам разбирал спор между милосердием и террором – говорю о казни Карманюка. И решил его в пользу террора. Боюсь, это будет происходить чаще.
Гамов молча развел руками. Он мыслил широкими категориями – обыденщина не всегда подтверждала общие концепций, и тогда он на мгновение терялся.
– Второй вопрос. Какую дьявольщину, Гамов, вы вкладываете в понятие акционерности? Разве карать и миловать военных преступников мы будем на паях с кем-то? Да еще – на денежных?
– Справедливость – это понятие общечеловеческое, а не привилегия какого-либо одного государства, – ответил Гамов. – Нельзя исключить, что сегодняшние наши враги потребуют наказания военных преступников, которых найдут у нас. И вот для обеспечения равноправия мы и предложим единые органы кары и милосердия. Финансовую их базу равноправно обеспечат обе стороны. Мы свой вклад вносим.
– Фантастика! Неужели вы думаете, что кортезы пожертвуют свои деньги, чтобы судить своих же сограждан?
– И наших, Семипалов! Звучит пока маловероятно… Но уверен: потом ситуация переменится.
Обычно Гамов высказывал свои решения точно и недвусмысленно. Но идея превратить Черный и Белый суды в разновидность международных акционерных обществ была просто невероятна. Я мог бы многое возразить, но не стал. Будущее покажет, что и Гамов ошибается, сказал я себе.
Гамов попросил задержаться меня, Пеано, Вудворта и Прищепу, остальных отпустил.
– Вы хотели нам что-то сообщить? – обратился он к Прищепе.
– Скажите, вы хорошо знаете своих сотрудников? – спросил Прищепа Вудворта.
– Не всех. В министерстве внешних сношений сотрудников больше тысячи. Я не собираюсь каждого узнавать.
– Я спрашиваю о гласном эксперте по южным соседям Жане Войтюке.
– Войтюка знаю. Знаток своего дела.
– У меня подозрение, что он шпионит в пользу Кортезии.
– Подозрение или доказательства?
– Пока только подозрение.
Павел сказал, что Войтюк один из первых подал покаянный лист. Многие еще не решаются повиниться, и это задерживает конструирование нового государственного аппарата. Он же сразу признался во взятках и незаконном использовании служебного положения, даже в том, что обманом спихнул своего предшественника. Приличный набор грехов. Честное признание и высокая квалификация Войтюка позволили сохранить за ним должность. Но об одной своей вине Войтюк умолчал, хотя она на первый взгляд столь мала, что ее можно было и не таить. Войтюк близок с послом Кнурки Девятого Ширбаем Шаром.
– Я тоже знаком с Ширбаем Шаром, – сказал Пеано, ослепительно улыбаясь. – Очаровательный человек, хорошо образованный, умница. Эксперту по южным странам необходимо общаться с послами этих государств.
– Я еще не все сказал, Пеано. Ширбай Шар в своем королевстве – платный осведомитель Кортезии.
В улыбке Пеано появилось пренебрежение. Племянник многолетнего правителя страны полагал, что лучше разбирается в международных делах, чем недавно приступивший к этому делу Павел.
– А что он мог выдавать Кортезии? Количество базаров и цены на них? Все остальное в Торбаше малозначительно. Кнурку Девятого невозможно ни предать, ни продать. Считаю ваши подозрения недоказанными.
– Вы торопитесь, Пеано. Жена Войтюка, очень красивая женщина, часто надевала на придворных балах изумрудное колье. Вот снимок этого редкого произведения искусства. – Прищепа положил на стол Гамова цветную фотографию. – А теперь посмотрите каталог знаменитых украшений. Точно такое же колье, но на нем надпись «Реликвия семейства Шаров в Торбаше». Ширбай Шар подарил Войтюку семейную драгоценность – и, очевидно, в благодарность за большие услуги.
– А не подделка ли драгоценность Войтюка?
– Камни настоящие. Я постарался узнать, осталось ли такое колье в доме Шара. Сегодня мне доложили, что в коллекции Шаров его больше нет. Но Ширбай Шар о пропаже драгоценности полицию не извещал – значит, изъял колье сам.
Теперь в глазах Прищепы светилось не пренебрежение, а удивление. Я не стал рассматривать снимки. Меня никогда не интересовали драгоценности.
– Убедительно, – сказал Пеано. – Арестовать Войтюка! Нет, какой мерзавец! Усыпил нашу бдительность покаянным листом – и думает, что отделался!
– Не согласен, – сказал Гамов. – Угаданного шпиона нужно не арестовывать, а культивировать. Его можно использовать для дезинформации противника. Вы молчите, Семипалов?
– Я не убежден, что Войтюк шпион. Может быть, колье подарено за интимные, а не политические услуги? Наши южные соседи ценят женскую красоту. Не откупился ли неудачливый дипломат семейной реликвией от мести мужа? В этом случае вносить появление драгоценности в покаянный лист необязательно.
– Итак, есть подозрение, что Войтюк шпион, а доказательств нет, – сказал Гамов. – Предлагаю подкинуть Войтюку секретную информацию и проверить, дойдут ли она до противника. Пеано, нет ли у вас тайн, которыми вы могли бы пожертвовать без большого ущерба для нас?
Пеано задумался.
– Мы готовим большое наступление на южном участке Западного фронта. Оно должно вывести нас в потерянные районы Ламарии и Патины. Но почему не замаскировать удар на севере? Если Войтюк шпион, он передаст этот важный секрет врагу – и кортезы с родерами поспешат оказать противодействие северному натиску. Сразу две выгоды: ослабим противодействие врага на юге, где развернется наше наступление, и установим, что Войтюк точно шпион и это можно использовать в дальнейшем.
– Ваше мнение, Семипалов?
Я помедлил с ответом. Пеано был хорошим стратегом, но разрабатывал свои планы за столом, вел солдат в сражение не он. Войтюк не стоил того, чтобы ради раскрытия его тайной роли, если она и была, подвергать северную армию большой опасности.
– Я против. И вот почему. Если враг испугается отвлекающего удара с севера и подготовит мощный отпор, он сможет сам перейти в наступление. Что мы противопоставим ему тогда? Под угрозу попадет Забон.
Пеано заколебался.
Он до сих пор разрабатывал свои оперативные планы по моим указаниям и еще не чувствовал полной самостоятельности. Но Гамов заупрямился. Прищепа уверяет, что заблаговременно узнает, готовится ли противник к большому отпору на севере, и тогда мы дополнительно укрепим оборону Забона. Но у меня на душе скребли кошки. И родеры, и кортезы были слишком умными противниками, чтобы легко поддаться на такой примитивный обман.
– Дело за вами, Вудворт, – подвел Гамов итоги спора. – Соблаговолите как-нибудь проинформировать Войтюка, что мы готовим большое наступление на севере.
– Сделаю, – сказал Вудворт.
Гамов предложил мне остаться, остальных отпустил.
– Семипалов, – сказал Гамов, когда все ушли, – у меня к вам личная просьба – обещайте не отказывать.
– Сначала узнаю, что вы просите.
– Хочу, чтобы ваша жена вошла в правительство.
– Елена фармацевт. Разве фармацевтика – разновидность политики?
– У нас в правительстве нет женщин. Она могла бы стать заместителем Бара. У него хватает забот с мужчинами, а женщин в тылу все же две трети населения.
– Гамов, не виляйте! Вы еще до захвата власти спрашивали меня, не ревнив ли я. И помните, что я ответил.
– А я сказал, что ваша ревность меня устраивает. Так выполните мою просьбу?
– Карты на стол, Гамов! Вы недоговариваете.
– Я раскрою все свои карты, когда докажут, что Войтюк шпион. Даже малейших секретов между нами не будет. И у вас не будет причин злиться на меня, обещаю. Но Елена должна появиться на заседаниях правительства еще до разоблачения Войтюка.
Я понимал: дело было не в Войтюке – я помнил прежние разговоры, уже тогда показавшиеся мне странными. Гамов давно задумал какой-то план, Войтюк был лишь поводом больше не откладывать его осуществления.
Я сказал:
– Буду ждать разоблачения Войтюка и последующего разъяснения. Елена завтра же появится в роли заместителя Готлиба Бара.
4
Появление первых номеров двух газет: «Вестника Террора» и «Трибуны» – стало сенсацией. И крысолицый максималист Пимен Георгиу, и монументальный оптимат Константин Фагуста с аистиным гнездом на голове – оба показали, что заняли свои редакторские кресла по призванию, а не по номенклатурной росписи. «Вестник» устрашал – истинный глашатай Террора. «Трибуна» требовала свободомыслия и критиковала правительство. И обе газеты печатались в одной и той же типографии!
Я растерялся, когда на мой стол положили оба листка. Если бы «Трибуна» тайком ввозилась из какой-нибудь вражеской страны, ее появление было бы понятней. Но она печаталась по указанию Гамова, он объявил, что договорился с Фагустой – мне подобное согласие показалось чудовищным.
– Вы читали «Трибуну»? – позвонил я Гамову.
– Обе газеты читал. Великолепно, правда?
– Не великолепно, а безобразно. Говорю о «Трибуне».
– Статья Фагусты – квинтэссенция программы нашей оппозиции! Перечитайте ее внимательно.
Я не понял восторгов Гамова. Мне было неясно, как совмещать террор с официальной оппозицией правительству. Была прямая несовместимость в понятиях «террор» и «свободомыслие».
Первую полосу «Вестника» отвели рассказу о создании акционерных компаний Черного и Белого суда, призванных: первая – жестоко расправляться с каждым виновным в организации и пропаганде войны, а вторая – проявлять к ним милосердие и защищать безвинных. Латания вносит в каждую компанию по пять миллиардов латов в золоте и призывает все страны, в том числе и те, с которыми воюет, стать пайщиками обеих компаний.
Вторая полоса открывалась большой статьей председателя компании Черного суда Аркадия Гонсалеса под названием «Высшую справедливость оснастить чугунными кулаками». Гонсалес повторял идеи Гамова. Этот херувимообразный красавец, Аркадий Гонсалес, не был способен изобретать новые методы и открывать неизвестные истины. Он был превосходным исполнителем – грозным исполнителем, как вскоре выяснилось – государственных концепций Гамова, но не более того.
Статья складывалась из трех разделов: «Вызовы на Черный суд», «Предупреждения Черного суда», «Приговоры Черного суда».
Вызывались на Черный суд руководители всех стран, с которыми мы воевали: список в сто фамилий. И начинал его, естественно, Амин Аментола, президент Кортезии, а завершал Эдуард Конвейзер, богатейший банкир мира, заправила военной корпорации. После таких знаменитых имен уже не удивляло, что в списке – первом списке, деловито уточняла газета – значатся министры Кортезии и Родера, командующие их армиями, владельцы военных заводов. Вызываемых ставили в известность, что заседания Черного суда происходят в Адане, столице Латании, и что никакие причины неявки, кроме смерти вызванного, в оправдание не принимаются.
Я не смеялся, конечно, но не был уверен, что другие читатели не хохочут. Требование, чтобы обвиняемые добровольно явились на суд в нашу столицу, было фантастически невероятным.
В разделе «Предупреждения Черного суда» было немного имен реальных людей и много рассуждений. Журналистам и священнослужителям напоминали об их великой ответственности перед человечеством. И всем им грозили великими карами, если они не поймут ее, лежащей на их плечах. Лишь десяток фамилий оживляли этот в общем-то мало конкретный раздел: четверо журналистов, особо ратовавших за войну, два епископа, произносивших воинственные проповеди, и несколько промышленников.
Зато невыразительность второго раздела многократно перекрывалась «Приговорами Черного суда». Восемьдесят четыре военных преступника заочно приговаривались к смертной казни: тридцать восемь летчиков, сбросивших бомбы на мирные города, с десяток офицеров-карателей, три священника, благословляющих авиабомбы, комендант и солдаты лагеря военнопленных, лично расстреливавшие тех, кто им не нравился. Можно было поражаться, как Гонсалес за короткий срок сумел обнаружить столько военных преступников. Я догадывался, что тут не обошлось без помощи моего друга Павла Прищепы, недавно скромного инженера в моей лаборатории, а ныне энергичного организатора государственной разведки.
Нового в перечислении фамилий военных преступников, конечно, не было. Все воюющие страны составляют такие списки. Новое было в том, что Гонсалес предлагал любому человеку выполнить смертные приговоры и получить за это плату в золоте, латах или диданах. Размер гонорара ошеломлял. Самую маленькую награду, сто тысяч латов – сумму, которую средний рабочий мог заработать лишь за сотню лет, – министр Террора обещал за казнь незначительных преступников, вроде полицейских и карателей. Смерть летчика оценивалась в триста тысяч лат, а за коменданта лагеря Гонсалес назначил полмиллиона – состояние даже в такой богатой стране, как Кортезия. Одновременно Гонсалес предупреждал, что только казнь приговоренных Черным судом оплачивается, ибо только она одна – законна. Любое убийство любого человека, пока на то нет приговора, – бандитизм, а не Священный Террор.
А после извещений Черного суда «Вестник» публиковал обращение Белого суда ко всем народам мира, подписанное Николаем Пустовойтом. Наш министр Милосердия извещал, что его ведомство принимает апелляции на любые приговоры Черного суда и обладает правом приостанавливать их исполнение. Правда, на очень короткий срок, многомесячные затяжки обычного судопроизводства заранее отвергаются. Пословица «Бог правду видит, но нескоро скажет» для нас неприемлема, мы за скорую справедливость. Обращайтесь немедленно к нам, если считаете приговор Черного суда несправедливым. Еще Пустовойт сообщал, что при Белом суде создана коллегия адвокатов, оценивающая справедливость любого решения суда Черного – никто не останется без защиты. А если подсудимый – гражданин той страны, которая стала акционером Белого суда, то этот человек может выставить и своего адвоката для апелляции в Белый суд. Вот такой был первый номер «Вестника Террора и Милосердия» – террора, во всяком случае, в нем было больше, чем милосердия.
«Трибуну» открывал материал Константина Фагусты «На службе высшей справедливости – палачи!» Много мне приходилось читать статей – спокойных и патетических, гневных и ликующих, обвиняющих и восславляющих, но такой я еще не видел. О Фагусте знали, что он талантливый журналист, что перо его ядовито, недаром Артур Маруцзян не только ненавидел его, но и побаивался. «Неистовый Константин!» – называли его друзья, как, впрочем, и враги, опасавшиеся его едких оценок. Со всей силой своего писательского дара Фагуста бросился воплощать в жизнь угрозу: «Вы раскаетесь, что разрешили мне печатать газету!»
Он начинал с того, что обрадовался свержению своего старого врага Артура Маруцзяна.
Любое другое руководство будет лучше этих бездарей, так он твердо считал. Он слышал о военных талантах нового главы правительства, и, хоть его смущала реклама самому себе в каждой передаче по стерео полковника Гамова, все же, думал он, во время войны лучше талантливый солдафон, чем маршал Комлин, солдафон бесталанный. И поэтому он искренно принял странное правительство Гамова. Странное – потому, что возникло оно неожиданно и повело себя непохоже на то, как должны себя вести нормальные правительства. Поживем – увидим, уговаривал он себя – и был лоялен к новой власти.
Теперь он будет говорить как человек поживший и увидевший. Гамов провозгласил, что правление его будет неклассическим – по-видимому, его любимое определение. И начал с того, что назвал себя вполне классическим диктатором, то есть властелином выше закона. И замахнулся на тысячелетние обычаи: ввел денежные награды за военные успехи солдат и офицеров. Он оплачивал случайно доставшимися ему деньгами не только захват чужого оружия, но и убийство врага, и полученные в бою раны, даже – страшно сказать – тебе платили за твою собственную гибель, не тебе самому, разумеется, а тем, кого ты назвал своими наследниками. А сейчас этот необычный способ Гамов превращает в военную каждодневность. За любой «акт героизма» солдатам и офицерам будут выплачивать крупную сумму – и не в старой малоценной валюте, а в золоте. Вдумайтесь, я требую, в чудовищную аморальность решений нового правительства! Ведь оно превращает войну из арены, где испытывается верность солдата отчизне, его мужество, его готовность грудью защищать своих детей и близких, в какое-то доходное частное предприятие! Война – великое преступление перед человечеством, а теперь из этого преступления каждый в нем участвующий сможет извлекать личную наживу. Убил врага – получай монету! Тебя ранили – тоже неплохо, распишись в деньгах за рану. А убили тебя – твоя семья порадуется: неплохой профит! Смерть солдата всегда приносила горе, это было благородное чувство – скорбь от потери родного человека. А теперь к горю от гибели примешивается и радость от награды за смерть. Какое кощунство! Какое немыслимое кощунство!
Но и такого нарушения священных обычаев войны новому правительству мало. Оно изобретает еще один неклассический метод борьбы. Оно заочно, из своего дворца в столице, будет судить тех, кого объявит военными преступниками. Нет, мы не за то, чтобы преступники избежали наказания. Кто совершил преступление, тот должен понести кару. Такова высшая справедливость! Но можно ли точно определить вину человека, не спросив его самого, почему он делал то, что сделал? Черный суд вызывает обвиняемых к себе, но ведь это смехотворно! Ни один человек не отправится в страну, с которой воюет его государство, только для того, чтобы его там казнили. А если, спятив, и решится на такое гибельное путешествие, то как он сможет его совершить? Тайком проберется через линию фронта?
Но и это не все! Кому поручается выполнение приговоров? Любому, вдумайтесь в это! Диктатор приглашает весь народ попрактиковаться в палачестве, вот его замысел. Он заражает бациллами бандитизма общество – пусть даже воюющее сегодня с нами, но все же человеческое! Он превращает целые народы в тесто, вспухающее на дрожжах ненависти и взаимного истребления. И после этого говорить о высшей справедливости! Но где гарантии, что в волчьей охоте за обвиненным погибнет только он сам, что одновременно с ним не умрут защитники, посторонние люди, случайно оказавшиеся рядом? Да, господин Гонсалес предупреждает, что не оплатит убийство лиц, предварительно не осужденных Черным судом. Но разве такое предупреждение предохранит от случайных и попутных убийств? Какое же лицемерие – приводить в исполнение свои приговоры, подвергая смертельной опасности тысячи невиновных! Использовать для этого кровавые руки профессиональных бандитов! Ведь на призыв обогатиться ценой выстрела в спину «осужденного» прежде всего, охотней всего, усердней всего откликнутся преступники. Они и раньше не гнушались убийствами, но какие это были убийства? Очистить карманы, снять кольца и часы – добыча не оправдывала удара ножом, а ведь удары наносились. А теперь за тот же удар ножом – состояние! Голова кружится – так выгодна стала охота на человека… Профессиональные бандиты – служители высшей справедливости!
Такова международная правда диктатора, негодовал Константин Фагуста. А какова правда внутренняя? Да не лучше! Можно еще допустить, что злодеи, нападающие ночами на стариков и женщин, заслуживают кар и потяжелее, чем заключение в тюрьмах, где их содержат в тепле и спокойствии. И даже унизительное утопление их главарей живыми в нечистотах можно принять – как меру, отвечающую суровым условиям войны. Но карать родителей преступников, наказывать их близких! На днях министерство Террора ликвидировало банду на окраине Адана. Главарь банды, в дневное время грузчик продовольственного магазина, за убийство женщины, ее мужа и двух детей приговорен к позорному утоплению. Стерео показало нам эту омерзительную сцену. Что ж, жестоко, но известная справедливость в неклассической казни была: диктатор недаром объявил, что будет властью не просто жестокой, но свирепой – свирепым защитником справедливости, так его следовало понимать. Но какая же справедливость в том, что на месте казни стоял понурый отец, а мать рвала на себе седые волосы, а потом упала без чувств, когда сын утонул в отвратительной помойке? Или в том, что обоих стариков сразу после казни увезли на далекий север – на холод, на муки, на нищенское полуумирание? При казни присутствовала подруга бандита, молоденькая девушка, они встречались всего неделю, она и не подозревала, что он угощает ее на преступные деньги. И ее заставили смотреть на казнь, а после выслали тем же поездом на тот же север. «Я же только хотела потанцевать, я не знала, кто он! Я не брала у него денег!» – так она кричала. И я спрашиваю: неужели была самая маленькая справедливость в свирепом наказании, которому подвергли девушку за желание потанцевать, вкусно поесть, сладко попить? А если это и вправду справедливость, то что же тогда называть ужасом и преступлением, издевательством и беспощадностью?
Фагуста заканчивал гневную статью грозным предупреждением:
«Мы живем в ужасное время, когда мир распался надвое и одна половина пошла на другую. На полях сражений гибнут тысячи людей. С первым выстрелом из электроорудия обрушились вековые принципы справедливости. Но она существует, человеческая справедливость, даже временно отстраненная. Она возродится и объявит миру: казнями не породить добра, бесчестьем – благородства. И смертью смерть не попрать! И тогда мы призовем к ответу всех, кто творит сегодня во имя справедливости великую несправедливость. И они закроют лицо руками, ибо не найдут для себя оправдания. Верую, люди, верую!»
Я отложил «Трибуну» и позвонил Гамову.
– Прошу немедленно принять меня.
– По телефону нельзя, Семипалов?
– По телефону нельзя.
– Тогда проходите в маленький кабинет.
Я положил обе газеты на стол Гамову.
– Итак, вы перечитали их внимательно? – спросил Гамов.
– Перечитал – и очень внимательно.
– И ваше мнение сильно изменилось?
– Изменилось, Гамов!
– Вы хотите сказать…
– Да, именно это! Сгоряча я назвал «Трибуну» безобразием. Сейчас я считаю появление этой газеты вражеской диверсией. Я требую ареста Фагусты, пока он не подготовил второго номера.
– Не поняли. Ни вы не поняли, ни Гонсалес.
– Я не знаю мнения Гонсалеса.
– Такое же. Немедленный арест Фагусты – и предание его Черному суду. Семипалов, вы так поднялись на Фагусту потому, что он лжет? Придумывает факты, которых не было?
– Да нет же, нет! Он опытный софист, этот ваш новый любимец Фагуста. Фактами он оперирует реальными. Толкование фактов – вот что возмущает. Самый злейший наш враг не обрушивает на нас такую критику, как он, кому вы разрешили свободомыслие.
– Вы против свободомыслия, Семипалов?
– Гамов, разве я давал повод считать меня глупцом? Я за то свободомыслие, которое идет на пользу нашему с вами делу, а не за то, которое подрывает его основы. Террор и хаотическое свободомыслие – болтай-де чего влезет – абсолютно несовместимы.
Он на несколько секунд задумался.
– Семипалов, поставьте перед собой такой вопрос: в чем смысл террора? В том, чтобы жестоко наказывать преступников? Считать так могут одни дураки, а мы с вами умные люди, так вы сами сказали. Террор должен не только карать преступления, но и предотвращать их – с помощью страха перед ужасающей карой. Террор – в порождаемом ужасе перед преступлением, а не в количестве проливаемой крови. А ужас создается гласностью. Вспомните тюрьмы Маруцзяна. Там бандитов и вешали, и расстреливали. Но их не убавлялось. Почему? Известия о расстрелах не публиковались, чтобы не расстраивать народ, – и они теряли свое устрашающее значение. И мы согласились с вами, что смерть гораздо меньше пугает людей, чем позор перед смертью. Все мы сойдем в могилу, а вот захлебываться в нечистотах, да еще публично!.. Как только мы приступили к такому террору, как резко снизились грабежи и убийства, разве не так?
– Но мы надеялись, что бандиты начнут приходить с повинной, а пока этого нет.
– Время не подошло. Зимой в стране не останется ни одной банды, уверен в этом. Но вернемся к Фагусте. Вам не нравится, что он расписывает ужасы террора. Но ведь это как раз то, в чем мы нуждаемся. Фагуста возбуждает в людях ужас, живописуя казни. И делает это с таким искусством, с такой моральной силой, что поражаешься… Если бы Константина Фагусты не существовало, его следовало бы выдумать. Но он уже существует, и это большая наша удача.
Я задал последний вопрос:
– Гамов, Фагуста показывал вам статью перед тем, как послать ее в печать?
Гамов ответил подчеркнуто спокойно:
– Нет, Фагуста не показывал мне этой статьи перед тем, как послал ее в печать.
Намеренное повторение моих слов было неслучайно. Но тогда я этого не понял.
5
В Адан съезжались главы правительств наших союзников.
Конференции союзников происходили и раньше. Артур Маруцзян обожал торжественные совещания, велеречивые доклады и длинные, как простыни, газетные отчеты. Союзники, в свою очередь, с трибун грозно кляли Кортезию, обещали нам всемерную поддержку в борьбе с заокеанскими грабителями, получали займы и подачки и разъезжались – удовлетворенные и собственными речами, и публичными обедами.
Гамов решил разделаться с этой практикой.
Первым в Адан прилетел король Торбаша Кнурка Девятый. Его встречали Гамов, Вудворт и я.
Огромная машина – водолет на пятнадцать пассажиров и двух пилотов – тяжко опускалась на землю. Струи охлажденного пара перестали бить из задних патрубков, из днища еще вырывались тормозные потоки, преодолевавшие земное притяжение. Водолет сел в ледяном пару, как в облаке. Из открывшейся дверки проворно выбежал его величество Кнурка Девятый.
Он именно выбежал, а не выбрался – маленький, вертлявый, тонконогий и тонкорукий, с лицом так густо заросшим бурой щетиной, что издали выглядел обезьянкой, а не человеком. Впрочем, и вблизи его можно было спутать с обезьяной средней миловидности. Зато из волосатых щелей, именовавшихся глазами, в собеседника вонзались такие острые зрачки, два таких потока умного света, что невольно становилось не по себе. Его величество Кнурка Девятый, так разительно похожий на обезьяну, не смотрел, а освещал людей своими фонариками-глазками – высвечивал, даже просвечивал насквозь. И среди важных вельмож, собравшихся в Адане, он единственный (вскоре это стало ясно) не ошибся в характере Гамова, хотя в политических его целях и не разобрался.
– Здравствуйте! Очень, очень здравствуйте! – заверещал его величество Кнурка Девятый, поочередно протягивая каждому из нас троих волосатую ручку.
Позади короля вышагивала свита, а центром в их вельможной стайке был могучий верзила с толстощеким лицом – кровь с коньяком в каждой щеке – и выпяченными губами выпивохи и бабника.
– Ширбай Шар, – сказал мне Вудворт. – Посол Кнурки для особых поручений.
Гамов шагал впереди с его величеством обезьянкой, мы компактно следовали сзади. У самой роскошной нашей гостиницы «Поднебесная» – ее всю отвели прилетевшим гостям – я осторожно улизнул. Только Вудворт удивленно посмотрел на меня, когда я пробирался мимо, да Ширбай скосил на меня глаза. Как ни странно, но этот его быстрый взгляд сыграл некоторую роль в событиях, разыгравшихся впоследствии.
Первая дипломатическая встреча показалась мне такой скучной, что я отказался впредь в них участвовать. Но Вудворт упросил меня встретить еще одного союзника: мое отсутствие, объяснил он, может осложнить дипломатические переговоры, союзник – любитель этикета. К тому же обидчив. Он говорил о Лоне Чудине, президенте Великого Лепиня.
Впрочем, я не раскаялся, что пошел. Выход Лона Чудина на землю Латании напоминал спектакль. Водолет приземлился мягко, ледяной пар начал медленно рассеивался. Дежурные покатили трап, но никто не вышел, пока не осталось и легкой дымки от посадочного тумана. А затем вдруг из водолета грянула музыка. Машина загремела как оглашенная, а когда грохот умолк, из нее выбрались музыканты, выстроились по обе стороны трапа, взметнули трубы, ударили в барабаны, забили в тарелки – повторный шум был еще громче. И на трапе возник Лон Чудин. Он именно возник, а не просто показался. Он красовался над нами, неподвижный, как бронзовая статуя самого себя. Я не удержался от улыбки. Лону Чудину было рискованно возвышаться над зрителями, ибо при этом отчетливей видны несообразности фигуры, а их было чрезмерно много: бедра шире плеч, ноги короче рук, а две массивные щеки чуть ли не ложились на плечи. Между этими мешками прятался крохотный носик, топорщливая кнопочка с ноздрями вперед. Впрочем, чудовищное безобразие президента Великого Лепиня не отвращало, а скорей пугало. И он – умный все же человек – и не скрывал уродства, а выпячивал его. Я вспомнил стихи знакомого поэта – тот, кстати, был скорей красивым, чем уродливым:
- И верю я, что уж никто другой
- Не затемнит моей звериной рожи.
- Как хорошо, что я один такой,
- Ни на кого на свете не похожий.
- Дон Чудин был похож только на себя.
Он стоял, пока музыка не исчерпалась в последнем диком аккорде, потом стал величаво спускать себя по трапу. Я не преувеличиваю – он не спускался, а спускал свое тело, как статую. И единственным отличием от монумента было лишь то, что у скульптуры и ноги неподвижны, а у Лона Чудина они двигались, перемещая негнущееся туловище со ступеньки на ступеньку.
Гамов обменялся с ним рукопожатием. Вудворт поклонился Чудину, тот небрежно кивнул. Чтобы не нарваться на такой же оскорбительный кивок, я не двинулся с места, но Лон Чудин сам подал руку. Пальцы мои сжали мешочек теста – так мягка была рука властителя Великого Лепиня. Я шепнул Вудворту, когда Гамов увел гостя:
– Почему мне такое предпочтение перед вами, Вудворт?
– Вы заместитель Гамова, Лон остро ощущает различие рангов. Но сейчас я его так побешу, что он пожалеет о своей надменности.
И Вудворт приветливо улыбнулся одному вельможе из свиты Лона Чудина. Я говорил, что на худом лице Вудворта все настроения выпечатывались с особой резкостью. Он обрадовался Киру Кируну – так звали вельможу, брата Лона Чудина – во всяком случае, захотел, чтобы другие оценили их встречу как радость. Лон Чудин обернулся, маленькие глаза его сузились, когда он увидел, что Вудворт чрезмерно долго трясет руку брата.
Я догнал Гамова и бесцеремонно прервал его разговор с Лоном Чудином:
– Я могу считать свою дипломатическую миссию выполненной? Тогда разрешите отбыть.
Гамов быстро преобразовал мой некорректный поступок в государственную операцию.
– Разрешаю. Разрабатывайте дальше наши военные планы. Потом доложите решения. Нашего друга президента Великого Лепиня интересует все, что вы делаете.
– Да, очень интересует, – подтвердил Лон Чудин. У него и голос соответствовал внешности: не звучный, не хриплый, не низкий, не высокий, а рыхлый и жирный – таким он мне послышался.
Больше на встречи союзников я не ходил. Предстояли важные операции на фронте: я подготавливал отвоевание потерянных областей. Резервные склады в тылу опустошались, боевой потенциал армий быстро рос. И были отменены никого не обманывающие обманные названия «добровольных» полков и дивизий. Армия стала профессиональной и по названию.
Вудворт настоял, чтобы перед открытием конференции устроили торжественный ужин и бал в классических традициях дипломатии. Я пробовал возражать, но Гамов поддержал Вудворта. По-моему, он просто хотел разок посмотреть, что это за штука – торжественные ужины с вином и речами, а после них – танцы. Единственным членом правительства, кому понравились и речи, и последующее топтание ногами под громкую музыку, была Елена. Она впервые показалась на людях как заместитель министра – единственная в правительстве женщина. Гамов попросил ее произнести речь, она пожаловась, что война штука вредная: в госпиталях множатся раненые и больные – и Вудворт совершил открытие:
– Семипалов, ваша жена не только красивая, но и умная женщина. Мне кажется, она вполне на своем месте.
– Очень рад, что вам так кажется, Вудворт, – поблагодарил я. – Мне тоже иногда кажется, что она не только красивая, но и умная. Умней, чем требуется от хорошей жены.
Вряд ли до такого сухаря, как Вудворт, дошла ирония. Он вдумчиво выслушал мое признание и одобрил его серьезным кивком.
Перед открытием конференции Гамов созвал Ядро.
– Докладываю о работе промышленности, – сказал Готлиб Бар – Гамов дал ему слово первому. – И хочу порадовать: дела прекрасны.
В промышленности перевыполнялись твердо зафиксированные нормы выработки. Все так хотели новой валюты, что добровольно оставались на сверхурочные работы. Бар выпустил первую партию золотых монет – они, естественно, сразу выпали из обращения, но банкнот люди не прятали: дорогие товары из госрезерва раскупались быстро. Гамов обещал, что повысит выработку в промышленности процентов на двадцать, Бар с торжеством извещал, что уже подошло к тридцати.
Единственное слабое место – производство сгущенной воды. До ввода новых заводов заявки армии и метеорологов полностью не удовлетворить.
Казимира Штупу тревожила осень. Летние циклоны удалось отразить, небо над столицей безоблачно. И урожай хороший. Но метеогенераторы используют резервные запасы сгущенной воды, запасов осталось мало. Если промышленность не удвоит поставку энерговоды, противник осенью зальет нас дождями, зимой завалит снегом.
– Об удвоении не может быть и речи! – воскликнул Бар. – Выше собственной головы еще никто не прыгал.
Гамов подвел итоги. Надо прыгнуть выше собственной головы. Строительству заводов энерговоды присваивается высший приоритет. Рабочим на них – повышенную плату, и только в валюте. Эффект это даст.
– Теперь вы, Вудворт. Чего требуют наши дорогие союзники?
На союзников произвели нехорошее впечатление наши военные неудачи, доложил Вудворт. Если недавно они так и рвались в бой (во всяком случае – в речах и газетах), то теперь и слова осторожней, и статьи прохладней. Они требуют оружия, продовольствия и денег, да еще кортезских диданов или нашей новой золотой валюты. Кир Кирун пожаловался, что последнюю выдачу наш банк произвел в юланях. «Зачем нам юлани? – возмущался он. – Мы и без вас можем их напечатать сколько угодно». Вот такие претензии у союзников. А его величество Кнурка Девятый, кроме снаряжения, продовольствия и денег, просит еще и солдат: он согласен воевать с кортезами, но нашими солдатами, своих у него очень мало. Список товаров и денег, затребованных союзниками, я передал в министерство организации, закончил Вудворт.
– Ваше мнение о списке? – обратился Гамов к Бару.
– Отлично составлен! Многообразие требований восхищает. Когда я работал на заводе, ко мне однажды поступило требование на спирт для промывки оптических осей в биноклях и фотоаппаратах. О спирте союзники промолчали, но Великий Лепинь среди прочего запросил две тысячи шерстяных ковров высшего качества для казарм. Чем не спирт для промывки оптических осей?
– Отказать всем и во всем! – сказал Пеано и так заулыбался, словно предлагал облагодетельствовать союзников.
– И выгнать всех из Адана! – добавил Гонсалес. Он теперь во всех спорных случаях выносил только суровые приговоры.
Гамов посмотрел на меня. Я знал, что он уже имеет твердое решение, и он знал, что я это знаю. Я заранее соглашался с еще не высказанным мнением Гамова.
– Артур Маруцзян щедро оплачивал велеречивые обещания союзников, – сказал я. – Но мы будем оплачивать только дела, а не слова. А поскольку дел пока нет, то и выдач не будет.
– Вы отдаете себе отчет, Семипалов, что при таком поведении наш союз скоро распадется? – сказал Вудворт.
– Пока я не вижу реального союза, стало быть, и распадаться нечему.
Вудворт инициировал правительственный переворот, но переворота в мировой политике не желал. Он проводил линию на связь с союзниками. Упорядочить беспорядочное, выправить искривления – дальше этого его мысль не шла.
– Вы совершаете непростительную ошибку, Семипалов. Политик должен видеть будущее. Вы хотите отделаться от неэффективных союзников, потому что от них нет толку. Но мир разделен на два враждебных лагеря. Если вы не в одном, значит, в другом. Вы превратите союзников во врагов. И врагами они будут более эффективными, чем друзьями. Вспомните, в какое бедственное положение поставила дивизию, где вы воевали, измена Патины. Измена Лепиня, Собраны, Торбаша и Нордага поставит на край гибели всю страну. Семипалов, вы этого хотите?
– Я именно этого хочу, Вудворт, – сказал Гамов вместо меня.
– Хотите, чтобы наши союзники стали нашими врагами? – Вудворт не просто спросил, а выкрикнул – редчайший случай у этого человека.
– Да! Хочу, чтобы наши союзники стали врагами.
– Вы хотите нашего поражения?
– А вот это – нет! Хочу победы. И мы добьемся победы тем, что превратим союзников во врагов.
– Удивительно неклассическая стратегия! – Пеано радостно улыбнулся. – Боюсь, что следующей нетрадиционной операцией будет директива нашим армии сдаваться, чтобы расходы на содержание пленных латанов разорили наших врагов и вынудили их прекратить войну?
Гамов ответил улыбкой на насмешку Пеано. Племянник свергнутого правителя Латании уже разбирался в секретах стратегии Гамова. И заранее готовился выполнять самые парадоксальные приказы. Он, как и Гонсалес, был прекрасным исполнителем, но не творцом новых концепций – как раз то, что требовалось Гамову.
Жалею, что его речь не была записана на пленку: стенографистов он не терпел, а записывающие аппараты в тот день почему-то не задействовали. Союз с соседями нам невыгоден, говорил Гамов. Союзники слишком много требуют и слишком мало дают. Такие союзы – гиря на наших ногах. Но все изменится, когда они станут нашими врагами. Никто из них не нападет на нас, пока Кортезия не окажет им помощи. Но, как ни богата Кортезия, и ее ресурсы ограниченны. Она лишит свои армии всего того, что предоставит союзникам. Она сможет усилить наших соседей лишь ценой собственного ослабления. Итак, превращение союзников во врагов какое-то время нам на руку.
– Очень короткое время, Гамов. Но потом война, пылающая на Западе, охватит нас пламенем со всех сторон!
– Любому военному удару наших теперешних союзников мы противопоставим убийственное оружие.
– Гамов, я хотел бы услышать название этого неизвестного мне сверхсекретного оружия.
– Ничего секретного. Это оружие называется Аркадием Гонсалесом.
Все мы, конечно, удивились. Сам Гонсалес так вытаращил глаза, что из писаного красавца на секунду превратился в урода. Впрочем, он быстро успокоился и даже закивал, словно подтверждая, что именно он, Аркадий Гонсалес, министр Террора и председатель международной акционерной компании Черного суда, является тем единственным оружием, которое способно привести забунтовавших союзников к смирению. А Гамов развивал свою новую идею:
– В тот день, когда союзники объявят нам войну, мы провозгласим их военными преступниками. Черный суд вынесет заочно смертные приговоры за расширение войны их министрам, генералам, военным промышленникам, воинственным журналистам… И за исполнение приговоров назначим такую цену, что она захватит воображение и оправдает любой риск. Мы разожжем в каждой стране пламя внутреннего истребления, пропитаем всех ужасом собственной гибели за любое пособничество войне. У нас ведь много сторонников.
– И бандитов, которые первые воспользуются заманчивыми наградами Черного суда? – иронически спросил Вудворт. – Разве не об этом недавно писал в своей газете Фагуста?
– Мы разжигаем внутри страны частную войну против отдельных преступников, а не против самого государства, – резко отпарировал Гамов. – Для войны против государства нужны армии, для частной войны достаточно палачей. Не возражаю, чтобы палачи вербовались из бандитов.
Он помолчал и закончил:
– Последние дни я детально знакомился с нашими союзниками. Середнячки, отравленные манией величия. Для них главное в мире – они сами. Гибель их армий значит для них куда меньше, чем угроза собственному благополучию. Они предадут своих солдат, чтобы усилить личную защиту. И высосут из Кортезии в десятки раз больше соков, чем высасывают из нас.
Вудворт посмотрел на меня – он надеялся на поддержку. А добряк Пустовойт изобразил на мясистом некрасивом лице такое страдание, словно он сам был объектом возвещенной Гамовым безжалостной личной охоты.
– Если будет голосование, я – за, – сказал я.
– Перейдем к военным делам, – предложил Гамов. – Попрошу остаться Семипалова, Пеано, Прищепу, а также Вудворта.
Министр информации Омар Исиро перед уходом поинтересовался, какая мера откровенности может быть допустима для прессы и стерео.
– Никакой откровенности, – сказал Гамов. – Глухая информация: что-то обсуждали… Пусть фантазируют – под свою ответственность.
Омар Исиро наклонил голову. Чувствую, что в моем повествовании о Гамове имеется важное упущение: я ничего не говорил о министре информации. Но Омар Исиро был незаметен. Невысок, молчалив, скромен, исполнителен – сколько ни пытаюсь вспомнить что-либо яркое, не вспоминается. Не знаю, за какие заслуги Гамов ввел его в Ядро, но на своем месте Омар Исиро был не хуже любого другого.
– Вудворт, вы говорили с Жаном Войтюком? – спросил Гамов, когда мы остались впятером.
– Говорил.
– О чем?
– О разных служебных неотложностях. И о том, что Семипалов и Пеано разработали план большого наступления от Забона на запад вдоль побережья. И что направление удара меня беспокоит. Наши войска пройдут так близко от пока нейтральной Корины, что она может всполошиться. Узкий пролив, отделяющий северный Родер от Корины, – слишком ненадежная защита в случае осложнений. И что я уговаривал диктатора повременить с ударом, но он отказался. В общем, как мы с вами договорились, Гамов.
– Когда был разговор?
– Неделю назад.
Докладывайте новости, – сказал Гамов Павлу Прищепе.
– За последнюю неделю Войтюк встречался с двумя посторонними людьми. Первая встреча – с продавцом магазина, тот доставил провизию. Вторая – с Ширбаем Шаром сразу после его приезда. Встречи проходили на людях, разговоров наедине не было.
– Стало быть, прямых свидетельств, что Войтюк передает секретные данные, нет?
– Прямых нет. Косвенные абсолютны. На Западный фронт прилетел Фердинанд Ваксель, четырехзвездный генерал, заместитель главнокомандующего, то есть самого Амина Аментолы. И созвал командующих армиями и корпусами. О чем совещались, пока не знаю, но практические результаты уже известны. Кортезы поспешно усиливают свой северный фронт. Войска пришли в движение, дороги заполнены колоннами машин и людей. Видимо, кортезам стало известно о готовящемся здесь наступлении, и они срочно организуют защиту.
– Если так, то подозрения против Войтюка обоснованы, – задумчиво произнес Гамов. – Семипалов, у вас такой вид, словно вы встревожены или недовольны.
Я ответил намеренно резко:
– Вы правы, Гамов: я встревожен и недоволен. Встревожен тем, что кортезы усиливают свой северный фронт. И недоволен, что мы спровоцировали их на это.
– Но надо же было разгадать тайную роль Войтюка, – возразил Прищепа. – И вы сами согласились на передачу обманных сведений.
Прищепа не видел, что мы ошиблись, а я это уже понимал. И даже подобие улыбки сползло со всегда улыбчивого лица Пеано: он тоже уловил опасность. Но Гамов был еще далек от правильного видения. Такие промахи с ним бывали редко, но все же бывали. Я постарался объяснить ему ситуацию. Вокруг Забона оборона сильная, но не маневренная: крепости, мелкие узлы сопротивления. Натиск трех-четырех дивизий она выдержит. Но если враг бросит несколько корпусов? Он, конечно, скоро узнает, что испугавшая его информация лжива и наступления на севере мы не планируем. Но не захочется ли ему тогда превратить свою ошибку в успех? Не ринется ли он всей своей массой на нашу оборону? Потерять второй центр страны – не слишком ли дорогая цена за разоблачение шпиона?
– Семипалов, мы ведь тоже планируем наступление, – возразил Гамов. – И если противник перебросит часть своих войск на север, то этим ослабит оборону в центре. Наши шансы на победу здесь возрастают.
Все это было верно, конечно. Крупное наступление в центре должно было отбросить противника в глубь Ламарии, вернуть нам потерянные области и – главное – ликвидировать тяжкие последствия измены Патины. Но каков бы ни был этот успех, он не мог компенсировать потери Забона, а такую грозную возможность я не мог исключить.
Даже враги не отрицали, что Гамов – выдающийся военный талант. Но сейчас он трагически ошибся. Я видел просчеты Гамова – и не мог его переубедить.
6