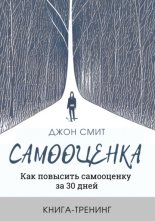Уничтожить Уэльбек Мишель
Дебора не пошла учиться, сообщила ему сестра. То есть вся в мать и тоже не интеллектуалка, по любимому выражению Сесиль; она кое-как перебивалась, обычно подрабатывала официанткой, на данный момент – в пиццерии. И пусть это были временные договоры, она не жаловалась, клиенты ценили ее за улыбчивость и расторопность, да и работодатели тоже, так что ей не составляло труда найти очередное место.
А вот Анн-Лиз – совсем другой коленкор, она писала в Сорбонне докторскую о французских писателях-декадентах, в частности об Элемире Бурже и Юге Ребелле. Сесиль сообщила об этом со странной гордостью, хотя явно ничего не знала об упомянутых авторах, удивительно все же, что родители испытывают гордость при мысли о том, что их дети получают образование, даже если – особенно если – ничего не смыслят в предмете их штудий, какое прекрасное человеческое чувство, подумал Поль. Кроме того, Анн-Лиз училась в Сорбонне – Париж IV, на самом престижном филологическом факультете. Это Сесиль усвоила. Анн-Лиз ни о чем их не просила, отказалась от финансовой помощи, а между тем аренда жилья в Париже обходилась дорого, но она нашла работу в каком-то издательстве и обрела финансовую независимость.
Его племянница уже шесть лет живет в Париже, а они так ни разу и не увиделись, вдруг отчетливо осознал Поль. Это была его вина, полностью его вина, он сам должен был связаться с ней, вне всяких сомнений. С другой стороны, где им встречаться? Дома, учитывая состояние его отношений с Прюданс, не очень удобно – таковы нежелательные последствия супружеских передряг, обоим супругам слишком стыдно выставлять напоказ жалкое и банальное зрелище семейного разлада, поэтому постепенно у них пропадает всякое желание приглашать гостей, и все социальные связи рано или поздно сходят на нет. У каждого из них теперь своя спальня и ванная комната. Гостиная, общесемейное пространство, с широким панорамным окном, выходящим на парк, понемногу превратилась в no man’s land, нейтральную полосу, куда не ступает нога человека. Единственным местом общего пользования была кухня; последним совместным предметом обстановки – холодильник. И как прикажете объяснять все это Анн-Лиз?
Его малосольную норвежскую треску еще не убрали, а официант уже принес десерт – пустяковый недочет в безупречном до сих пор обслуживании. Но Поль не пожелал спустить его на тормозах; на извинения официанта он ответил полуснисходительной улыбкой богатого человека – богатого человека, который готов простить, но простить в первый и последний раз.
Как Поль и надеялся, вопрос о дочках Сесиль мгновенно разрядил атмосферу, ведь, в сущности, у молодежи не бывает настоящих проблем, проблем нешуточных, считается, что уж у молодежи-то все устаканится. Что же касается безработного пятидесятилетнего мужчины, то никто не верит, что ему удастся найти работу. Впрочем, все делают вид, что верят, и консультанты в Центре занятости умудряются блестяще изобразить оптимизм, им за это деньги платят, наверняка они посещают даже театральные курсы, а то и мастерские клоунады, в последние годы наметился значительный прогресс в оказании психологической помощи безработным. А вот уровень безработицы, напротив, не снизился, что было одной из редких неудач Брюно на посту министра; ему удалось его стабилизировать, не более того. Французская экономика снова стала мощной и экспортной, а уровень производительности труда взмыл до умопомрачительных показателей, неквалифицированные рабочие места почти полностью исчезли.
– Хочешь поехать со мной в Сен-Жозеф? – спросила Сесиль, прервав его размышления в пользу бедных, все равно он никак не мог повлиять на безработицу во Франции, как и на будущее своей семейной жизни, да и на кому отца тоже. “Что я могу сделать?” Вроде бы Кант где-то задавал этот вопрос. Нет, скорее “Что я должен делать?”, он не помнил точно. Собственно, чем эти вопросы отличаются, может, и ничем. Сен-Жозеф-ан-Божоле был настоящим домом его детства, отец приезжал туда каждые выходные, они проводили там все каникулы.
– Ехать туда без папы я как-то пока не готов, – ответил он, ну вот, пожалуйста, он тоже теперь говорит “папа”, наверное потому, что так приятно впадать в детство, не исключено, что все на самом деле только этого и хотят. Сесиль кивнула, сказала, что понимает. Если честно, она не совсем понимала, дело в том, что в данный момент он не смог бы вынести общество Мадлен, от нее исходила волна жгучей, невыносимой боли, нужен хоть какой-нибудь бог, чтобы принять такие муки. Он, правда, сомневался, что Мадлен верит в Бога в католическом смысле слова, видимо, она верила в некую организующую силу, способную направить или сломать человеческую жизнь, короче, в нечто, в принципе не слишком обнадеживающее, скорее сродни греческой трагедии, чем евангельскому посланию. Но она верила в Сесиль, ей чудилось, что Сесиль с Богом накоротке и силой молитвы способна склонить божество на нужную сторону. Да он и сам, как ни удивительно, начинал воспринимать свою сестру приблизительно так же.
Интересно, о чем мог думать в эти минуты его отец, лежащий на больничной койке в нескольких сотнях метров отсюда, на другом берегу реки? Пациенты в коме лишены цикла бодрствование-сон, но непонятно, видят ли они сны. Никто этого толком не знает, и все врачи, с которыми его сведет судьба, подтвердят, что в данном случае мы имеем дело с недоступным ментальным континентом.
Сесиль снова прервала ход его мыслей, которые все больше затуманивались.
– Я уеду завтра поездом в семнадцать двенадцать. У меня будет три четверти часа, чтобы добраться до Северного вокзала. Хочешь, поедем вместе?
Вот вопрос. Даже два вопроса. Да, за сорок пять минут она спокойно доберется от Лионского вокзала до Северного. Да, он поедет с ней. До пяти побродит по Лиону. Он смутно помнил, что по Лиону можно побродить, по набережным Соны или еще где-нибудь.
8
Вопреки ожиданиям, прогулка по Лиону оказалась почти приятной. На набережных Соны, гораздо менее оживленных, чем набережные Роны, машин практически не было. На противоположном берегу возвышались лесистые холмы, среди них тут и там виднелись старые постройки, относящиеся, вероятно, к началу двадцатого века, в том числе коттеджи и даже несколько особняков. Они выглядели довольно гармонично, и, главное, от них веяло покоем. К сожалению, нельзя не отметить, что в наши дни приятен только пейзаж, который не подвергался вмешательству человека на протяжении по крайней мере столетия. Тут, по-видимому, имело бы смысл сделать выводы политического характера – но, учитывая занимаемую им должность в самом сердце госаппарата, ему предпочтительнее от них воздержаться.
Похоже, ему вообще предпочтительнее воздерживаться от размышлений. Смерть матери, восемь лет назад, стала для него очень жестоким и странным событием в жизни. Сюзанна упала со строительных лесов во время реставрации ангелов, украшающих башню амьенского собора. Она забыла затянуть монтажный пояс; ей оставалось полгода до выхода на пенсию. Ужас и внезапность этого удара словно заморозили его, он не припоминал, чтобы сильно горевал тогда, скорее впал в ступор. Но сейчас по отношению к отцу он испытывал совсем другие эмоции: шагая по набережным Соны, которые постепенно окутывала легкая дымка, он чувствовал, как в нем растет спокойное, безграничное отчаяние при мысли о том, что на сей раз он и правда вступает в последний период своей жизни, в ее заключительную фазу, и что в следующий раз придет его черед или черед Сесиль, но, надо полагать, все-таки его.
Тут он сообразил, что они ни словом не обмолвились об Орельене вчера вечером, даже имени его не произнесли. Ему вообще сказали, что случилось? Судя по всему, нет, Мадлен никогда с ним толком не общалась. Ну и кто возьмет это на себя? Разумеется, Сесиль; когда предстояло справиться с какой-нибудь душевно сложной задачей, ее автоматически взваливали на Сесиль. “Как на католичку…” – лениво подумал он, садясь на скамейку, и это была его последняя связная мысль, за ней наступил довольно долгий перерыв. От реки поднялся туман и сгустился вокруг него, он ничего не видел на расстоянии нескольких метров.
Роскошный комфортабельный автобус мчится по шоссе сквозь пустынный пейзаж с плоскими белыми скалами, редкими зарослями колючих кустарников и суккулентов, наверняка это какой-нибудь штат американского Запада, вроде Аризоны или, возможно, Невады, да и автобус, похоже, “Грейхаунд”. В середине салона сидит высокий суровый брюнет с каким-то сатанинским лицом. Он сидит рядом с другим пассажиром, они, вероятно, знакомы, хотя как знать; в любом случае этот другой пассажир все равно не вмешается, поскольку брюнет олицетворяет Зло и все попутчики знают (и Поль тоже знает, как и они), что в любой момент брюнет может встать и ни с того ни с сего прикончить одного из них; они также знают, что никому из них не удастся оказать ему сопротивление, да у них и мысли такой даже не возникнет.
И вот брюнет встает, направляется к старику, сидящему в передней части автобуса, недалеко от водителя. Старик дрожит, его ужас очевиден, но ему и в голову не приходит сопротивляться. Брюнет встает, силой тащит старика к двери, приводит в действие открывающий механизм и выталкивает его в пустоту. Потом он на мгновение пригибается, чтобы понаблюдать за процессом раздавливания и обезображивания тела, а также за причудливыми формами, образованными брызгами крови на иссохшей земле. После чего возвращается на свое место, и они продолжают путешествие. Поль понимает тогда, что оно не прервется до самого конца, как и внезапные повторяющиеся действия высокого брюнета.
И сразу после этого, прямо перед тем как проснуться на скамейке, он понимает также, что брюнет олицетворяет еще и Бога, в силу чего его решения правильны и обжалованию не подлежат. Вечерело, воздух стал прохладнее, это его, вероятно, и разбудило; вот спасибо, а то уже полпятого, самое время ехать на вокзал. Сесиль не стала долго ломаться и согласилась, чтобы он поменял ей билет на первый класс, а что касается Орельена, то она сама о нем первая заговорила. Орельен никогда не был близок с отцом, а с матерью да, даже чересчур близок, и, глядя на нее, он и выучился на реставратора произведений искусства, глядя на нее, окончил Школу Конде с дипломом “реставратора и хранителя культурных ценностей”, более того, оба они выбрали один и тот же исторический период, конец Средневековья – начало Возрождения, с той лишь разницей, что их мать специализировалась на скульптуре, а он – на гобеленах. Пойдя по стопам матери, выбрав почти такую же профессию, как она, Орельен с завидным постоянством отторгал, пусть вяло, неявно – а иногда и явно – карьеру отца, построенную на служении государству и безоговорочной, по-военному четкой приверженности изменчивым и порой невнятным интересам французской разведки.
Отец ведь, в сущности, никогда не хотел третьего ребенка, этого третьего, родившегося через несколько лет после первых двух, ему в некотором роде навязали, он никогда не входил в его планы, а отец, надо заметить, всегда любил придерживаться намеченного плана. Супружеская пара чаще всего формируется вокруг некоего проекта, за исключением случаев, когда они просто безумно влюблены и их единственный план – вечное созерцание друг друга и взаимное одаривание нежными знаками внимания, пока смерть не разлучит их, есть такие люди, Поль о них слышал, но его родители не принадлежали к их числу, так что, скорее всего, им пришлось совместно выработать некий план, двое детей – это классика жанра, прямо архетип классики жанра, будь у них с Прюданс дети, они бы не дошли до такого, хотя вообще-то дошли бы, как раз напротив, они, возможно, давно бы уже расстались, сейчас детей недостаточно, чтобы спасти брак, они, пожалуй, только ускоряют его распад, к тому же, когда их отношения стали ухудшаться, они еще даже не успели задуматься о детях. Что касается его родителей, то у них был еще один дополнительный план – дом в Сен-Жозефе. Отец хорошо знал эти места, в детстве он проводил там идиллические каникулы у дяди-винодела. Он приобрел еще в 1976 году, вскоре после свадьбы, несколько заброшенных строений неподалеку от Сен-Жозеф-ан-Божоле, в коммуне Вилье-Моргон.
Там стояли рядом три дома разных размеров, принадлежавшие трем братьям, и еще конюшня и большой амбар. Все вместе взятое отец купил по смешной цене; стены и крыша были в порядке, все остальное пришлось перестраивать. Он посвящал этому свои выходные и отпуск в течение десяти следующих лет, сам чертил планы, не имея никакого архитектурного образования, и выполнял своими руками значительную часть плотницких и столярных работ. Именно он придумал зимний сад – застекленную галерею, ведущую из главного дома в их детский домик. Мать тоже увлеклась этим проектом, в силу своей профессии она знала лучших мастеров всех художественных ремесел, и этот дом постепенно занял очень важное место в их существовании, став самым осязаемым и, вероятно, самым долговечным проявлением жизнеспособности их супружества. Результат превзошел все ожидания: в этом доме они с Сесиль прожили несколько лет нереального и острого детского счастья. Окно его комнаты выходило на северо-запад, на холмы, луга, леса и виноградники, осенью пылавшие пурпуром и золотом до зеленеющих отвесных склонов Авенаса.
То время для него безвозвратно закончилось, он больше никогда не испытает такого счастья, оно просто не входит в перечень оставшихся возможностей. А вот Сесиль случалось переживать – и не исключено, что до сих пор случается – подобные мгновения счастья, у нее есть дети, она сама стала ребенком, предав душу в руки Божии, как принято выражаться у католиков. Ему нужно, совершенно необходимо было верить, что она счастлива.
Он смотрел на нее, такую спокойную, тихую, она же не отрывала глаз от пейзажа, мелькавшего за окном поезда в последних проблесках дневного света. Электронное информационное табло сообщило, что в данный момент они едут со скоростью 313 км/ч, на нем также указывалось их географическое положение, и он вдруг с нервной дрожью осознал, что в эту самую минуту, когда он все это вспоминал, они находились чуть южнее Макона, в нескольких километрах от дома в Сен-Жозефе.
Спустя долгое, очень долгое время Сесиль перевела взгляд на него – поезд приближался к станции Ларош-Мижен, двигаясь со скоростью 327 км/ч.
– Я не спросила, как у тебя дела с Прюданс… – осторожно сказала она.
– И правильно сделала. Правильно сделала, что не спросила.
– Так я и думала. Мне жаль, Поль. Ты заслуживаешь счастья.
Откуда она все это знала, откуда она знала жизнь, она, вечная однолюбка, с чудесной прозорливостью выбравшая в мужья образчик неподкупности, верности и добродетели? Возможно, подумал Поль, жизнь на самом деле совсем несложная штука, тут и знать-то особо ничего не надо, а просто плыть по воле волн.
Они почти не разговаривали до самого Парижа. Ход событий теперь предопределен. Максимум через неделю Сесиль вернется с Эрве, и они поселятся в Сен-Жозефе. Им, прежде всего, придется успокоить Мадлен, попытаться наполнить смыслом ее жизнь, чтобы она не путалась весь день под ногами санитарок в больнице Сен-Люк. А потом им останется только ждать, ждать и молиться. Может ли молитва стать совместным ритуалом супругов? Или она в обязательном порядке предполагает личное общение с Богом, один на один?
© Louis Paillard
Они наспех, но крепко обнялись, и Сесиль спустилась в метро, ей надо будет пересесть на Бастилии и доехать потом по прямой до Северного вокзала.
9
Открыв дверь в квартиру, он с изумлением услышал пение китов, доносящееся из общесемейного пространства, и понял, что Прюданс наверняка уже вернулась и в эту самую минуту находится дома, у нее все по расписанию. А вот он свое расписание нарушил; с тех пор как он начал работать в аппарате министра, у него появилась привычка вставать поздно; около полудня он отправлялся на службу, пересекая прогулочным шагом парк Берси – в конечном итоге он чуть ли не полюбил этот парк с его дурацкими овощными уголками, – а потом сад имени Ицхака Рабина. Дойдя до места, он обычно съедал на обед тарелку копченой рыбы – у них своя собственная кухня, не общеминистерская, и превосходный шеф, но днем Поль предпочитал ограничиваться копченой рыбой. И только потом уже встречался с Брюно, впервые за день.
Тот появлялся в офисе очень рано, в семь утра, и с тех пор, как переехал в служебную квартиру, засиживался там до глубокой ночи – зато никогда не назначал встреч до полудня, посвящая это время текущей работе. Должно быть, завидев у себя на столе груду папок, его дневной рацион, он потирал руки от удовольствия по примеру своего далекого предшественника Кольбера – так гласит легенда, во всяком случае. Они обедали с Полем вдвоем – Брюно был большой любитель пиццы, – обсуждая встречи, назначенные на вторую половину дня и вечер, равно как и возможные загвоздки.
Поль, как правило, приходил домой под утро, между часом и тремя, Прюданс поднималась к себе задолго до его возвращения. Иногда он смотрел перед сном документальные фильмы о животных; мастурбировать он совсем перестал. Вообще-то прошло уже несколько месяцев – да нет, почти год, с ужасом подумал он, – как он даже не пересекался с женой, впрочем, все последние годы, если они и пересекались, то редко и ненадолго. Будучи представителями класса привилегированных специалистов с очень высокими доходами, они и не помышляли о нарушении общепринятых правил, им было крайне важно, чтобы их союз шел ко дну цивилизованно, в оптимальных условиях. Тем не менее, заслышав пение китов, он чуть было не ретировался, не сбежал в отель на одну ночь. Но усталость взяла свое, и он распахнул дверь в гостиную.
Прюданс вздрогнула, увидев его, у нее тоже явно нервы сдали. Так, теперь главное – не мешкать и с ходу разрядить обстановку, поэтому он поспешил сказать, что у отца инсульт, он лежит в коме в лионской больнице, чем и объясняется его появление в столь неурочный час, но уже с завтрашнего дня все войдет в колею, такое больше не повторится. Она даже не отреагировала на его заверения; как ни странно, ему показалось, что она пожалела его, лицо ее сморщилось под воздействием чего-то похожего на печаль или, по крайней мере, на озабоченность. Ну и само собой, это что-то испарилось в мгновение ока, но все же оно совершенно точно промелькнуло. Затем она произнесла какие-то более банальные слова, что он должен располагать собой, как ему удобнее, не обращать на нее внимания и т. д. Кстати, ей тоже уже под пятьдесят, интересно, а у нее что с родителями? Классические буржуазные старики-леваки, всю жизнь проработавшие в госсекторе – в сфере высшего образования, в судебном ведомстве, – и наверняка любители утренних пробежек, они, скорее всего, пребывали в отличной форме. Он всегда недолюбливал родителей Прюданс, ну, отец еще куда ни шло, а вот мать – чистый ужас. Есть ведь какая-то старая поговорка, народная мудрость, что-то вроде: “Хочешь выбрать жену – посмотри на тещу”; но дело в том, что в нужный момент он отважно не внял предупреждению. Прюданс, судя по всему, – кто бы мог подумать – обеспокоилась судьбой Эдуара, притом что восемь лет назад довольно безразлично отнеслась к смерти Сюзанны. “В сущности, ты весь в отца”, – сказала она ему однажды. Связаны ли как-то эти два обстоятельства между собой? Может ли тот факт, что она встревожилась, узнав об отце, означать, что она все еще испытывает что-то к нему самому? От таких мыслей голова шла кругом; да и без того, уезжая из Лиона вчера вечером, он чувствовал, что вступил в полосу полнейшей неопределенности. Неужели только вчера? Ему казалось, что все началось гораздо раньше и было куда серьезнее, он не просто попал в некую неопределенную, но строго ограниченную полосу своей жизни, а решительно все в его жизни стало неопределенным, начиная с него самого, как будто его постепенно вытеснял некий непонятный двойник, который тайно сопровождал его уже многие годы, а может быть, и всегда.
Так или иначе, он счел, что разумнее пока на этом с Прюданс остановиться, и объявил, сославшись на усталость, вполне объяснимую совершенным путешествием и переживаниями, что идет к себе. Прюданс улыбнулась, она отнеслась к его уходу с надлежащими спокойствием и благодушием, хотя все же ее замешательство выдавали машинальные движения руки, описывавшей в воздухе мелкие окружности, словно ей хотелось, закрутив в эфире картезианские вихри, создать между ними поле притяжения, аналогичное, возможно, полю гравитации. Однако уже давно было доказано, что эфира и картезианских вихрей не существует, это больше не вызывает ни малейших сомнений у научного сообщества, несмотря на отчаянную попытку Фонтенеля, опубликовавшего в 1752 году “Теорию картезианских вихрей и размышления о притяжении”, но этот труд не вызвал никакого отклика.
Уж лучше бы она ему задницу показала, ну сиськи на худой конец, ошибочно полагать, что откровенный сексуальный запрос оскверняет чистоту горя, часто случается как раз обратное, происходит физическая реакция организма, изнуренного горем, напуганного перспективой стать окончательно непригодным для выполнения простейших биологических функций, так что он, напротив, жаждет воссоединиться хоть с какой-нибудь формой жизни, и чем она проще, тем лучше. Но все это, наверное, не про Прюданс, ее воспитание пошло иным путем, что весьма прискорбно, поскольку им-то надо бы как раз ловить момент.
10
Когда на следующее утро он появился в офисе, Брюно не стал ходить вокруг да около и прямо спросил, каковы шансы его отца на выживание; Поль объяснил ситуацию, как мог. Потом Брюно спросил, есть ли кому с ним сидеть, тогда он рассказал ему про Мадлен, Брюно впал в задумчивость, взгляд его затуманился и, казалось, блуждал в каком-то неясном пространстве; Поль начал привыкать к этой способности Брюно углубляться внезапно в размышления общего характера, в эти мгновения его привычный способ рассуждения, отличавшийся точностью и прагматичностью, уступал место теоретическим умозаключениям.
– Ты говорил, твой отец родился в 1952 году, да? – наконец спросил Брюно. Поль кивнул. – То есть он типичный беби-бумер… И правда, создается впечатление, – продолжал он, – что люди этого поколения не только энергичнее, активнее, креативнее нас и вообще талантливее во всех отношениях, но и приспосабливаются к жизни получше, чем мы, со всех точек зрения, матримониальной в том числе. Даже разведясь – а они, конечно, уже тогда разводились, гораздо реже, чем мы, но все-таки разводились – и будучи даже в преклонном возрасте на момент развода, они умудряются снова себе кого-нибудь найти. У нас, я думаю, будет все сложнее. А уж у следующего поколения и подавно. Вот взять, например, моих сыновей, один из них гомосексуал – ну… гомосексуал в теории, на практике, мне кажется, у него никого нет, ни постоянного партнера, ни проходного, он скорее асексуал с гомосексуальным уклоном. Что касается второго, то я не знаю, по-моему, он вообще ни то ни се и никогда ничем не был, я просто забываю порой о его существовании. Мы хотя бы пытались жить семейной жизнью; довольно часто у нас ничего не получалось, но мы пытались.
Поскольку Брюно, не особо даже скрывая, наняли именно для того, чтобы Франция вновь вступила в Славное тридцатилетие, не было ничего удивительного в том, что его буквально завораживала психология бумеров, отличавшаяся от психологии его сверстников оптимизмом и дерзостью, отличавшаяся так сильно, что с трудом верилось, что их разделяет всего одно поколение. Отец Брюно, насколько знал Поль, был чиновником чуть выше среднего уровня и в этом смысле нетипичным бумером. Классические бумеры, бумеры хрестоматийные, создатели и магнаты промышленности, чьему возрождению во Франции он надеялся поспособствовать, ему никогда не попадались, да и вообще они почти все уже поумирали; поумирали и легендарные бляди семидесятых с волосатыми лобками, сойдя в могилу вслед за ними, образно говоря. В матримониальном плане Полю уж точно нечего было противопоставить нарисованной им унылой картине; он взял еще один кусок копченого угря, и остаток дня прошел относительно спокойно. Важнейшим пунктом в завтрашней повестке был обед с профсоюзными активистами. Идея ежемесячных обедов в Берси с основными профсоюзными лидерами Франции принадлежала ему; такие “неформальные” встречи не предполагали никакой конкретной программы, но позволяли им “измерить среднюю температуру по стране”. Попытка купить благосклонность синдикалистов при помощи “зайца по-королевски” и “жареных голубей конфи” и подходящих к ним породистых вин может показаться примитивной затеей, даже тупой, но факт остается фактом: пятилетний срок президента прошел в атмосфере небывалого социального согласия, а число забастовочных дней не падало до такой низкой отметки с первых дней Пятой республики, притом что количество служащих, занятых в государственном секторе, медленно, но верно сокращалось до такой степени, что некоторые сельские районы с точки зрения коммунального и медицинского обслуживания скатились до уровня какой-нибудь африканской страны.
Новость грянула в начале седьмого, в 18.25 Поль получил мейл от пресс-секретарши министра. В сети только что появилось новое сообщение; оно начиналось, как обычно, с композиции схематично начерченных пятиугольников и кругов, но композиция всякий раз была другой, варьировалось, в частности, число кругов. Ее сопровождал текст, состоящий из уже привычных символов, но на сей раз он оказался значительно длиннее – предыдущие послания состояли из четырех-пяти строк, в этом было около двадцати.
Кликнув в любом месте открывшегося окна, пользователь запускал видео. Бурный серый океан. Камера медленно наезжает на корабль, гигантский контейнеровоз, стремительно и с невероятной легкостью рассекающий волны. На палубе пусто, экипаж словно испарился. Внезапно, без видимых причин, огромное судно поднимается над поверхностью океана и ухает вниз, расколовшись пополам. И минуты не прошло, как обе половины полностью затонули.
Сделано, как всегда, безупречно, подумал Поль, в реальность происходящего нельзя не поверить. Через пару минут он позвонил Дутремону. Тот, само собой, уже занимался этим, но пока ничего не мог сказать; он обещал перезвонить, как только что-нибудь узнает, пусть даже в ночи.
Он позвонил в восемь утра, Поль прослушал сообщение, когда проснулся. Дутремон предпочел особо не распространяться по телефону и предложил встретиться в министерстве во второй половине дня; он придет с одним из своих начальников из ГУВБ.
Он пришел ровно в два в сопровождении комиссара Мартена-Рено; это был человек лет пятидесяти с коротким седым ежиком и, похоже, военной выправкой – он чем-то напомнил Полю отца.
– Вы шеф IT-подразделения?
– Не совсем, я руковожу ГУВБ. Дело в том, что много лет назад мне довелось работать с вашим отцом. Я узнал, что с ним случилось, и очень ему сочувствую, отчасти этим и объясняется мое присутствие здесь, но сначала давайте поговорим о сегодняшних новостях. – Он повернулся к Дутремону.
– Некоторые характеристики нового сообщения, – сказал Дутремон, – отличают его от предыдущих. Во-первых, это касается способа распространения: на сей раз его выложили почти на сотне ресурсов, по всему миру – в том числе в Китае, чего раньше никогда не случалось. Но главное, предыдущие видео построены на спецэффектах – пусть и блестяще сделанных, но спецэффектах. На этот раз у нас возникли серьезные сомнения.
– Вы имеете в виду, что корабль действительно потопили?
– Его регистрационный номер прекрасно виден в кадре, нам не составило труда его идентифицировать. Это контейнеровоз последнего поколения, построенный на шанхайских верфях. Судно длиной чуть более четырехсот метров способно перевозить до двадцати трех тысяч стандартных контейнеров, то есть около двухсот двадцати тысяч тонн груза. Оно ходило по маршруту Шанхай – Роттердам и было зафрахтовано CGA-CGM, четвертой в мире по величине судоходной компанией по перевозке грузов, это французский оператор. Естественно, мы попросили их сообщить нам, не приключилось ли чего с каким-нибудь из их кораблей. Они обязаны нам ответить; пока что не ответили. Мы предполагаем, что они захотят избежать огласки и потребуют от нас соответствующих гарантий.
– Мы отнюдь не уверены, что сможем выполнить их просьбу, – вмешался Мартен-Рено. – Они, судя по всему, считают, что мы в любой ситуации контролируем прессу и решаем, что публиковать, а что нет; это далеко не так. Утечки могут произойти самыми разными способами, и мы их никак не контролируем, тем более что в этом ролике есть один любопытный момент: на борту никого не видно, ни одного члена экипажа – все выглядит так, будто их предупредили о теракте и они успели покинуть корабль. Если это так, то рано или поздно они неизбежно появятся – и их не удастся заткнуть.
– Полагаю, судно такого размера нелегко потопить. Для этого ведь понадобились бы военные ресурсы?
– В определенной степени. Пусковую торпедную установку трудно найти на рынке, зато ее можно смонтировать на обычном корабле. Здесь используется метод дислокации: прямого контакта между торпедой и кораблем не происходит, она взрывается на глубине нескольких метров. Восходящий столб воды, врываясь в газовый пузырь, образовавшийся в результате взрыва, разрезает корабль пополам; тут даже нет необходимости в сверхмощной торпеде. Так что нет, значительные средства задействовать им не пришлось; с другой стороны, наведение и оценка времени должны быть сверхточными, что требует серьезных навыков в расчетах балистики.
– Кто мог это сделать? – Он задал этот вопрос спонтанно, почти непроизвольно; на этот раз Мартен-Рено откровенно усмехнулся.
– Нам самим не терпится это узнать, понятное дело. – Он переглянулся с Дутремоном. – Никто из известных нашим службам людей, во всяком случае. С самых первых сообщений мы пребываем в полной неизвестности. А на этот раз последствия могут быть весьма серьезными. Китайскому руководству не составит труда обезопасить перевозки товаров, производимых его предприятиями, но если к каждому контейнеровозу понадобится приставить эсминец, никаких средств не хватит. Кроме того, морская страховка взвинтит цены.
– То есть это нанесет ущерб мировой торговле? – Этот вопрос задал Дутремон; Полю ответ был очевиден, и глава ГУВБ сформулировал его предельно просто:
– Если кто-то захочет навредить мировой торговле, то лучше способа не найти.
Сама собой напрашивалась мысль об определенных группах активистов, скорее крайне левых, но крайне левые активисты, хоть и доказали свое умение испоганить любую протестную акцию, пока еще все-таки не продемонстрировали никаких военных навыков, да и с финансами у них не очень, а торпедная установка – дорогое удовольствие, независимо от того, как бы они взялись ее добывать.
Мартен-Рено помолчал.
– Я хотел увидеться с вами еще по одному делу… – сказал он наконец. – У вашего отца остались кое-какие важные документы.
Поль удивился: документы? Но ведь он же на пенсии.
– Да, конечно, но когда занимаешь такой пост, на пенсию окончательно уйти нельзя, – заметил Мартен-Рено. – Документы эти не то чтоб прямо документы, ну, трудно объяснить. Можете почитать их, – продолжал он, – но вы мало что поймете. Да-да, можете, никакого грифа секретности на них нет, – прибавил он, – именно поэтому, собственно, мы не принимаем никаких мер предосторожности, чтобы их не украли: вряд ли кому-нибудь удастся почерпнуть из них какую-то информацию.
В общем, он имеет в виду не столько некие досье, сколько подборку странных фактов и сведений, связь между которыми установил только отец Поля; при этом они не дают никаких серьезных оснований, чтобы начать расследование или установить наблюдение. Это, скажем так, что-то вроде головоломок, над которыми он иногда бился годами, угадывая в них угрозу безопасности государства, но не умел при этом определить ее характер.
– У него в кабинете в Сен-Жозефе, я там однажды побывал, – сказал он, – хранится несколько картонных папок. Вот мы и хотели бы, на случай, если произойдет несчастье, ну, на случай неблагоприятного исхода, попросить вас передать нам эти папки.
Сначала Поль подумал, что Мартен-Рено намеренно избегает слова “смерть”, чтобы не сделать ему больно, но, взглянув на комиссара, понял, что тот правда растерян и встревожен.
– Я очень любил вашего отца, – подтвердил он. – Не скажу, что он был моим наставником, хотя он работал со многими другими начинающими агентами моего поколения, но я многому у него научился.
Поль никогда ничего толком не понимал в профессиональной деятельности отца; помнил только, что время от времени ему звонили на защищенный смартфон “Теорем” – иногда посреди обеда или ужина, – и он немедленно выходил из комнаты, прежде чем ответить. Он никогда не рассказывал им потом, о чем шла речь, но явно был чем-то озабочен, и, как правило, его не отпускало до конца дня. Озабочен и молчалив. Да, профессиональная деятельность этого человека неизбежно ассоциировалась со словом озабоченность, это все, что он мог сказать по его поводу.
Естественно, он согласился.
– У меня тоже будет к вам одна просьба… – добавил он. – Люди, ответственные за кибератаки – и теперь за теракт, – располагают, очевидно, значительными ресурсами, но все-таки эти ресурсы не безграничны.
Он знает, что в прошлом предпринимались попытки удалить эти сообщения, но они вскоре появлялись на других ресурсах, а иногда и на том же самом. Теперь, когда накопилось много сообщений, они, возможно, будут уделять меньше внимания самым первым. Видео с отрубанием головы глубоко задело министра. Он по-прежнему из-за него переживает; нельзя ли как-то подумать о том, чтобы его истребить раз и навсегда?
Мартен-Рено с готовностью кивнул:
– Мне кажется, ваши соображения вполне обоснованны… Да, мы займемся этим сразу по возвращении.
К тому моменту, когда встреча закончилась, уже смеркалось; какая жуть этот декабрьский сумеречный свет, подумал Поль; вот уж правда, идеальное время для смерти.
11
На следующий день объявился экипаж. Судно потопили в районе Ла-Коруньи, у самой границы испанских территориальных вод; Поль с удивлением узнал, что этими гигантскими кораблями управляет экипаж человек из десяти. Их допрос мало что дал властям: кто-то связался с ними по радио и, разумеется, не представился. Они выпустили первую торпеду, задев корму, просто показали, что не шутят, а затем дали им десять минут, чтобы покинуть корабль.
Поначалу журналисты с предельным вниманием отнеслись к этому событию – теракт такого типа совершался впервые, – но потом, поскольку никаких новых сведений не поступало, интерес быстро иссяк. О встрече с Мартеном-Рено Поль вкратце рассказал Брюно и изумился, как невозмутимо тот воспринял происходящее. Его и раньше озадачивало относительное безразличие, с которым Брюно отнесся к первым кибератакам, за исключением той, что касалась его непосредственно. Притом что последствия для финансовых операций оказались довольно разрушительными – всеобщая неуверенность в безопасности интернета затронула биржи, и они вернулись в эпоху телефона и факса, скакнув лет на сорок назад; но Брюно всегда испытывал некоторое презрение к финансовому капитализму. На самом деле нельзя выдумать деньги из ничего, считал он, в один прекрасный день разница станет очевидной, без обращения к производству реальных товаров в конечном итоге будет не обойтись, и фактически система материального производства продолжает работать более или менее неизменно, даже когда замедляется финансовый оборот. На этот раз, однако, пострадала реальная экономика; но, по правде говоря, пусть этот аргумент и нельзя озвучить публично, ограничения, наложенные на китайскую внешнюю торговлю, оказались для Франции не такой уж плохой новостью. С самого начала Брюно не играл в эти игры; он вел свою игру.
И еще Поль чувствовал, что Брюно переполняют тревоги иного рода, непосредственно связанные с политикой. Ситуация, в общем-то, не прояснилась: Брюно не только не объявил о выдвижении своей кандидатуры, но и отказался делать какие-либо заявления по этому поводу, повторяя всякий раз, что “еще не время”. У него не было ни одного серьезного конкурента в партии президента: гипотеза о кандидатуре нынешнего премьер-министра иногда мелькала в прессе, но ее тут же отметали: получив этот пост в самом начале пятилетнего мандата президента, он всегда был лишь марионеткой в его руках. С самого начала и до конца президент прислушивался только к Брюно, он один в окружении главы государства имел достаточный авторитет, чтобы влиять на политику страны.
Недавно, откуда ни возьмись, появился новый соперник. Бенжамен Сарфати, он же Бен, а то и Биг Бен, пришел с самого дна телевизионного энтертейнмента. Он сделал карьеру на TF1, начав с ведущего программы для подростков, явно вдохновленной телесериалом “Чудаки”, с той только разницей, что предлагаемые испытания были больше связаны с унижением участников, чем с опасностью для их жизни: спустить штаны, блевать и пердеть – вот из чего складывалась его программа, благодаря которой впервые в истории канал TF1 возглавил рейтинги в подростковом и молодежном сегменте.
Продвигаясь по служебной лестнице, он свято хранил верность каналу и не избежал всеобщей дрюкеризации – телевизионного эквивалента джентрификации городских кварталов, – кульминацией чего явилось приглашение на прощальную передачу Мишеля Дрюкера[12] в день его восьмидесятилетия, ставшую одним из самых знаменательных событий на телевидении двадцатых годов этого века. Через еженедельные, а затем и ежедневные ток-шоу Сарфати прошли ведущие политики и лучшие умы страны – труднее всего оказалось уговорить Стефана Берна[13], он боялся, что пенсионеры, из которых состоит его аудитория, будут обескуражены; но он тоже в конце концов сдался, и это был звездный час в карьере Сарфати, к тому же ему подфартило – практически одновременно сошел с дистанции Сирил Хануна[14]. У Поля вылетело из головы, обвиняли ли последнего в эксгибиционизме, сексуальном домогательстве или даже в изнасиловании, так или иначе, он был уже сбитым летчиком, он-то считал, что у него есть надежная поддержка в профессиональной среде, но увы, в итоге он исчез с экрана и из умов еще быстрее, чем появился, никто и не вспоминал уже, что когда-то работал или вообще пересекался с ним. “Буиг отомстил Боллоре”[15], – скупо прокомментировал Брюно это событие.
Никогда слишком явно не подыгрывая партии президента – что несовместимо с этикой ведущего, – Бенжамен Сарфати исподволь сообщал о своих политических симпатиях хотя бы тем, что выбирал самых невзрачных оппонентов – а в них не было недостатка, – когда надо было столкнуть с кем-то в эфире важного члена правительства. Таким образом, он постепенно начал сближаться с самыми доверенными кругами внутри власти. Ему предстояло сделать еще очень многое, прежде чем его можно будет рассматривать как кандидата на пост президента, но он работал над этим, никто уже этого не оспаривал. Решающим моментом стала, безусловно, его встреча с Солен Синьяль, президентом политтехнологической фирмы “Слияния”, которая с тех пор занималась его пиаром.
В отличие от большинства своих конкурентов, Солен сомневалась в необходимости получить важную площадку в интернете. Интернет, любила она повторять, имеет только два назначения: скачивать порно и безнаказанно оскорблять ближнего; в сущности, в сети самовыражаются лишь немногочисленные, особо злобные и вульгарные граждане. Но все же интернет считается своего рода обязательным элементом с точки зрения построения легенды, необходимым компонентом сторис, но, по ее мнению, достаточно, и даже предпочтительно, просто создать ощущение, что человек популярен в сети, даже если это часто не имеет никакого отношения к действительности. Ведь можно, ничем не рискуя, похвастаться сотнями тысяч, если не миллионами просмотров, проверить это все равно не получится.
Настоящим прорывом Солен стал второй этап, следующий обычно сразу же за работой в интернете и постепенно ставший под ее влиянием обязательным в создании современных сторис для всех пиар-агентств, а именно этап селебов-посредников (перспективных актрис, многообещающих певцов). Их функция в средствах массовой информации, к которым они имели доступ – как правило хайповым, но иногда и к тяжелой артиллерии, – заключалась в том, чтобы неустанно транслировать один и тот же месседж по поводу кандидата: о его человечности, его близости к народу и эмпатии – а еще о его патриотичности, основательности, приверженности республиканским ценностям. Этот этап, самый важный, по ее словам, оказался и самым долгим и, безусловно, гораздо более затратным с точки зрения времени и личного участия, ведь с селебами-посредниками надо встречаться, говорить с ними, потакать их эго, столь же раздутому, сколь и жалкому. В этом отношении Бенжамен был в шоколаде – благодаря своей телевизионной раскрученности и немыслимому рейтингу его программы, он стал незаменимым собеседником селебов. Они могли позволить себе максимум легкие разногласия с ним, а вот ссориться с Бенжаменом – нет, для селебов это не вариант.
На третьем этапе, на третьей ступени ракеты, Солен не привнесла никаких новшеств, ее контакты были точно такими же, что и у всех ее конкурентов. Она знала тех же сенаторов, тех же начальников аппарата, тех же журналистов из ведущих ежедневных изданий; она рассчитывала увеличить разрыв как раз на втором этапе (а некоторое время назад Бенжамен Сарфати явно перешел на третий); Солен, конечно, влетала в копеечку, но ее компания была еще молода, и она не могла позволить себе совсем уж завысить цены.
Несмотря на то что Сарфати становился все более серьезным кандидатом, он тоже пока еще не заявил о себе; после праздников все так или иначе определится.
После той случайной встречи Поль и Прюданс взяли в привычку видеться раз в неделю – обычно в воскресенье после обеда. Общение по-прежнему давалось им нелегко и в основном оставалось вербальным, ничего больше дружеского поцелуя они ни разу себе не позволили, но и просто поболтать – это уже неслыханное достижение, отметил про себя Поль, они и думать о таком забыли. Прюданс говорила почти исключительно о своей работе – она, как и прежде, служила в Казначейском управлении. Прошел месяц, а Поль так толком не узнал, с кем она дружит и чем занимается в свободное время. В ней вроде бы появилось что-то новое – какое-то смирение, печаль, что ли, теперь она говорила тягучим, чуть ли не старушечьим голосом; зато физически почти не изменилась.
Еще она регулярно справлялась о его отце – в конце концов, именно это их и сблизило. Поль пытался держать ее в курсе дела – правда, с тех пор он в Лион не возвращался, но часто звонил Сесиль, которая переехала в Сен-Жозеф. Пока что отец из комы не вышел, ситуация была стабильной. Сесиль, однако, вовсе не отчаивалась – и, судя по всему, безгранично верила в силу молитвы.
Однажды в субботу, в середине декабря, Поль отправился в церковь Рождества Богоматери в Берси, на площадь Лашамбоди, в пяти минутах ходьбы от дома. Эта крохотная церквушка, построенная, вероятно, в девятнадцатом веке, несуразно смотрится в их модернистском, а то и постмодернистском квартале. В нескольких метрах от нее проходит Юго-Восточная железная дорога, тут проезжают высокоскоростные поезда на Макон и Лион, и он наверняка уже сто раз проезжал мимо этой церкви, даже не подозревая о ее существовании. Из обнаруженного у входа проспекта он узнал чуть больше: церковь Нотр-Дам-де-Бон-Секур была построена в 1677 году, разрушена в 1821-м и лежала практически в руинах, пока в 1823-м ее не начали восстанавливать. Во время Парижской коммуны ее снова разрушили, потом, чуть позже, построили точно такую же. Затем ее затопило во время разлива Сены в 1910 году, в апреле 1944-го она пострадала от бомбардировок железнодорожных путей и была частично уничтожена пожаром в 1982 году. Короче говоря, эта церковь настрадалась на своем веку, да и сейчас не то чтобы процветала, в этот субботний день тут не было ни души, и возникало ощущение, что это ее обычное состояние. Чтобы наглядно представить себе злоключения христианства в Западной Европе, лучшей иллюстрации, чем церковь Рождества Богоматери в Берси, и не придумаешь.
12
Двадцать пятое декабря пришлось на пятницу, поэтому Поль мог провести в Сен-Жозефе целых три дня. Прюданс уехала в прошлую субботу, он не знал, куда именно, вероятно, в Бретань, в загородный дом родителей, который, если ему не изменяла память, из загородного уже превратился в основной, они перебрались туда окончательно несколько лет назад, когда ее отец вышел на пенсию. Проходя через общесемейное пространство – теперь, надо заметить, оно вполне заслуживало своего названия, поскольку тут, собственно, и имели место их воскресные послеобеденные беседы, – он увидел на буфете разноцветный красочный листок и вспомнил, что буфет Людовика XVI в свое время приобрела Прюданс, она души в нем не чаяла, он достался ей “даром”, считала она, эта женщина была способна приходить в восторг в определенные моменты по определенному поводу. Листок оказался приглашением на саббат Йоль в Гретц-Арменвилье 21 декабря. Его украшала фотография юных девушек, облаченных в длинные белые платья, с венками из живых цветов на голове, они резвились на залитом солнцем лугу, принимая прерафаэлитские позы. Чем-то это напоминало мягкое порно семидесятых; что за бред? Во что еще ввязалась Прюданс?
Впрочем, последовательность эзотерических символов чуть ниже гарантировала, видимо, серьезность мероприятия. A краткое пояснение, предназначенное, похоже, для нерадивых адептов, напоминало, что саббат Йоль традиционно ассоциируется с надеждой и возрождением после смерти прошлого. Если уж на то пошло, это вполне соответствовало их семейной ситуации. Во всяком случае, вряд ли это уж прямо жесткая секта, скорее какие-то женские штучки с экстрактом эфирных масел. Он успокоился, положил приглашение обратно на буфет и отправился на вокзал.
Он провел беспокойную ночь и поэтому заснул через несколько секунд после того, как занял свое место в вагоне первого класса – подголовник на кресле пришелся очень кстати, да и пассажиров почти не было. Он стоял посреди зеленого луга – трава выглядела так, будто ее подстригли ножницами, и ослепительно зеленела в лучах солнца под идеальным голубым небом, оттененным парой облаков, облаков не страшных, облаков декоративных, которые ни разу за все время своего облачного существования даже не собирались пролиться дождем. Интуитивно он понимал, что находится в Южной Баварии, неподалеку от австрийской границы – горы, запирающие горизонт, были, несомненно, Альпы. Вокруг него стояло человек десять пожилых мужчин, они производили впечатление мудрецов. При этом они были одеты в классические костюмы – костюмы офисных работников, – но их офисная работа, он мгновенно понял это, всего лишь прикрытие, на самом деле они носители высшего знания. Все единодушно признали, что Поль Резон подготовку прошел и к полету готов. Тогда он побежал вниз по склону, не отрывая взгляда от горных хребтов, обозначавших горизонт на юге, но это продолжалось всего несколько секунд или несколько десятков секунд, уж точно меньше минуты, и вдруг, совершенно не собираясь ничего такого делать и вовсе не ожидая этого, он очутился в воздухе, метрах в двадцати над землей. Затем он медленно замахал руками, чтобы удержать равновесие, и завис. Эти якобы офисные работники, а на самом деле мэтры, преподававшие ему искусство полета, собрались внизу, прямо под ним, и комментировали его первый взлет, на их взгляд похвальный во всех отношениях. Успокоившись, Поль предпринял первую попытку переместиться в воздухе – то есть просто произвел несколько гребков брассом, меняя направление поворотом рук, как будто и правда плыл, хотя и, естественно, в менее плотной среде. Он потренировался пару минут и смог сделать несколько кувырков и даже робких петель, а потом поднялся еще немного, набрав как нечего делать стометровую высоту. Двигаясь вперед плавным брассом, Поль направился к горной гряде; никогда он не был так счастлив.
Когда он очнулся, поезд проезжал Шалон-сюр-Сон; он мчался со скоростью 321 км/ч. Его телефон издавал слабое, но настойчивое гнусавое жужжание: девятнадцать пропущенных звонков. Он попытался прослушать сообщения, но не было сети. Плакатики на стене настойчиво рекомендовали ему звонить в тамбуре “из уважения к другим пассажирам”. Он вышел в тамбур, но там сети тоже не было. Пройдя через два таких же пустых вагона, он оказался в буфетном отсеке. Он позаботился о том, чтобы в салонах подвижного состава иметь при себе проездной документ, а бонусной карты у него отродясь не было; работник буфетного отсека по имени Джордан выдал ему креативный бургер от Поля Констана, салат из киноа и полбы и 175-граммовую бутылочку кот-дю-рон “Традисьон”. На случай необходимости в его распоряжении тут имелся дефибриллятор, но сети все равно не было; поезд прибывал на вокзал Макон-Лоше через двадцать три минуты.
Несет ли он ответственность за этот мир? В определенной степени да, ведь он служит в госаппарате, однако этот мир ему не нравился. Он не сомневался, что и Брюно стало бы не по себе от этих креативных бургеров, дзен-кабин, где во время пути можно заказать массаж шейно-воротниковой зоны под щебет птиц, от причудливых багажных наклеек “для контроля безопасности”, короче, от общего направления, которое принял ход вещей, от этой натужно-развлекательной атмосферы, а в действительности чуть ли не фашистской стандартизации жизни, постепенно отравившей каждый закуток повседневного существования. Но при этом Брюно все же нес ответственность за миропорядок, и в гораздо большей степени, чем он сам. Фраза Раймона Арона о том, что люди “не знают той истории, которую творят”, всегда казалась ему бессодержательным бонмо, если это все, что Арон имел сказать, то лучше бы уж он молчал. Во всем этом чувствовалось нечто гораздо более мрачное, а очевидное расхождение между намерениями политиков и реальными последствиями их действий представлялось ему нездоровым и даже зловредным, общество не может и впредь функционировать на этой основе, думал Поль.
Незадолго до прибытия в Макон туман рассеялся, и великолепное солнце осветило окрестный пейзаж, луга, леса и виноградники, припорошенные инеем. Выйдя из вагона, он тут же увидел Сесиль, она пробежала несколько разделявших их метров и со слезами на глазах бросилась ему в объятия. В жизни человека есть много причин для слез, и ей потребовалась почти минута, чтобы выговорить наконец:
– Папа проснулся! Сегодня утром папа вышел из комы!.. – И она снова разрыдалась.
Два
1
Эрве курил, поджидая их у машины. Он долго жал Полю руку и, судя по всему, был рад встрече. Люди меня любят, с удивлением подумал Поль; вернее, ценят, не стоит преувеличивать. Эрве любил его сестру и старался как мог ценить и, да, в некотором смысле даже любить шурина, назначенного ему судьбой; и он в этом преуспел, подумал Поль, обнаружив в нем некие свойства, достойные уважения и даже любви. Что не соответствует никакой объективной реальности, подумал следом Поль, и является лишь результатом стороннего взгляда, а точнее, доброты Эрве, позволяющей ему замечать вокруг себя, куда ни глянь, сплошь достойных уважения личностей и полагать, что люди в большинстве своем хорошие люди.
За то время, что они не виделись, он сильно сдал: живот вырос, волос поубавилось, вот оно, классическое старение, но безработица вроде не слишком на нем отразилась, мелькнула у Поля дурацкая мысль. А чего он, собственно, ожидал? Что у него рожки вырастут? Он отнюдь не производил впечатление человека, коротающего ночи в тревожных раздумьях о бесплодных поисках работы; безработица, считал он, широко распространенное, естественное состояние человека уже на протяжении многих поколений, в некотором роде смирившихся с ним как с приговором судьбы. Благодаря многотрудной учебе ему удалось избежать этого на некоторое время, но потом судьба настигла его.
А главное, он был женат.
– Поехали, дусик? – спросила Сесиль, открывая правую переднюю дверцу.
Дусик?.. Неужели правда, что в любящих глазах человек не меняется, даже физически, что любящие глаза способны свести на нет обычные законы восприятия? Неужели правда, что первый образ человека, запечатлевшийся в любящих глазах, будет вечно накладываться на то, во что он превратится со временем? Когда они въезжали на трассу А6, Поль вспомнил, как ходил на церемонию приведения к присяге Эрве лет двадцать тому назад. Там собралось полтора десятка кандидатов в диковинных костюмах восемнадцатого века – черные кюлоты, белые чулки, что-то типа редингота и бикорн. Церемония проходила в бывшем Дворце правосудия в Париже и прекрасно вписывалась в декорации. Судья говорил, что им надлежит честно исполнять свои обязанности, “в соответствии с законом и совестью”, что-то в этом роде. Эрве, услышав свою фамилию, торжественно произнес “клянусь”, волнующее было зрелище. После чего он получил личную печать и вместе с ней – право заверять нотариальные акты; как тут не испытать определенную гордость, особенно сыну рабочего.
Все-таки ему необходимо найти работу, подумал Поль, они просто обязаны в конце концов найти работу, либо он, либо Сесиль. Похоже, Эрве не позволял себе неоправданных трат – его “дачия-дастер” в хорошем состоянии, но это всего-навсего “дачия-дастер”. Зимнее солнце сияло все ярче, потоки света заливали салон автомобиля; плавно повернув, они въехали на пологий склон холма, и Полю почудилось, что он окунулся в сноп света. Он сидел сзади, рядом с Мадлен. Сначала они расцеловались два раза, такая у них сложилась привычка, они уже приноровились. Затем на протяжении километров десяти – примерно до Сен-Семфориен-д’Ансель – он соображал, о чем бы таком с ней поговорить, но вскоре пришел к заключению, что, вероятно, ему лучше помолчать, что Мадлен любит тишину, что в данный момент она очень счастлива и любые слова только приглушат ее безграничную радость. Тут он представил себе более отчетливо, хоть и мимолетно, каковы были отношения Мадлен с его отцом, чем для отца стало это мирное, почти животное присутствие Мадлен подле него, – и в тот же миг осознал, что все еще не может думать о нем иначе как в прошедшем времени.
Словно уловив мгновенно его мрачные мысли, Сесиль поспешила нарушить молчание и принялась рассказывать, как провела этот богатый событиями день. Приехав в Париж из Арраса, она как раз перебиралась с вокзала на вокзал, чтобы пересесть на лионский поезд, когда раздался звонок из больницы – это произошло на станции метро “Жак Бонсержан”, уточнила она. Отец вышел из комы, это единственное, что ей удалось понять. Она все утро пыталась дозвониться до больницы, но ей не везло, сеть то и дело пропадала, и разговоры обрывались до обидного быстро, к тому же она практически ничего не слышала и, только добравшись до Лиона, смогла наконец разобраться, что к чему. Выход из комы – событие непредсказуемое и внезапное и к тому же принимает самые разные формы. Иногда человек просто умирает. А бывает и так, что он полностью восстанавливается и возвращается к нормальной жизни, так что его выписывают чуть ли не на следующий день. Существуют и промежуточные варианты, как, например, в случае с отцом Поля, когда восстанавливаются лишь некоторые функции организма, и число их невелико. Отец открыл глаза, что считается главным критерием выхода из комы; он также в состоянии нормально дышать; но его парализовало, он не может ни говорить, ни контролировать отправление естественных надобностей. Такое состояние врачи называли раньше “вегетативным”, но большинство из них теперь отвергают этот термин, опасаясь, что он ассоциируется с распространенной метафорой, уподобляющей пациента овощу, и что это просто семантическая уловка, заранее оправдывающая эвтаназию; они предпочитают использовать понятие “пробуждения при отсутствии реактивности и осознания”, кстати, более точное: у пациента восстанавливается функция восприятия окружающего мира, но не взаимодействия с ним.
Они уже проезжали пригороды Лиона; пробки на дорогах грозили затянуться до бесконечности. Эрве вел машину спокойно, казалось, в это утро ничто не способно вывести его из себя. На небе не было ни облачка, даже туман рассеялся.
Когда они припарковались на больничной стоянке, Мадлен повернулась к нему.
– Вам лучше побыть с ним наедине, – сказала она.
Старший сын – это важно, считала она, этим нельзя пренебрегать, она, вероятно, уже никогда не сможет относиться к нему иначе как с робким уважением.
– Сесиль, пошли со мной! – позвал Поль сестру неожиданно для самого себя отчаянным, почти умоляющим тоном. Только теперь он понял, что боится.
2
Отца успели уже перевести в другую палату, более того, на другой этаж, это первое, что узнал Поль, зайдя на рецепцию больничного комплекса.
– Обычное дело, ему же теперь не нужна реанимация, – сказала Сесиль. – Я говорила утром с главврачом. Ее сейчас нет, ей пришлось уйти сегодня пораньше, но она примет нас в понедельник, у нее не будет отпуска между Рождеством и Новым годом. Сможешь приехать в понедельник?
Поль понятия не имел, разберемся, ответил он, сейчас это не самое главное. Скорее всего да, тут же подумал он: с понедельника 28-го по четверг 31-е продлится очередная четырехдневная рабочая неделя, так называемое перемирие кондитеров[16]. Брюно, несомненно, засядет в офисе, он не припоминал, чтобы Брюно вообще когда-либо брал отпуск, но никаких встреч у него не назначено, так что Поль ему не понадобится, он предпочтет в одиночестве корпеть над бумагами, и будет ему счастье. Работа отвлекает, подумал Поль. Медсестра, за которой они шли по коридору, шагала быстро, не пройдет и минуты, как он снова увидится с отцом, его сердце билось все сильнее, волна ужаса накрыла его, и уже у самых дверей палаты у него чуть ноги не подкосились.
Он поразился произошедшим переменам: Эдуар полусидел в постели, опираясь на две подушки. Из его горла уже не торчала трубка, убрали и шумный аппарат. Не было больше ни капельницы, ни электродов, прикрепленных к черепу. Перед ним снова был его отец, с серьезным, даже строгим лицом, а главное, широко открыв глаза, он пристально смотрел прямо перед собой неподвижным немигающим взглядом.
– Естественная вентиляция легких возобновилась, он уже не нуждается в ИВЛ. Именно этот аппарат обычно так впечатляет родственников, – заметила медсестра.
Застыв на месте, Поль вглядывался в глаза отца.
– Он видит? – спросил он наконец. – Слышит и видит?
– Да, но не может ни двигаться, ни говорить, он полностью парализован, восстановились только его зрительные и слуховые функции. Однако нельзя с уверенностью сказать, способен ли он интерпретировать то, что слышит и видит, и соотносить это с чем-то ему известным, будь то понятия или воспоминания.
– Ну нас-то он помнит, разумеется! – категорически перебила ее Сесиль.
– Как правило, пациенты в вегетативном состоянии больше реагируют на знакомые голоса, чем на лица, – не моргнув глазом продолжала медсестра. – Поэтому с ним надо разговаривать, не стесняйтесь с ним разговаривать.
– Здравствуй, папа, – сказал Поль, а Сесиль как ни в чем не бывало погладила отца по руке. Поль задумался на мгновение и спросил: – Долго он будет в таком состоянии?
– Чего не знаем, того не знаем, – ответила медсестра с каким-то даже удовлетворением, она давно ждала этого вопроса, обычно родственники задают его сразу, и тот факт, что Сесиль так и не затронула эту тему, тревожил ее. – Мы провели все необходимые обследования: КТ, МРТ, ПЭТ-сканирование и, разумеется, сделали электроэнцефалограмму, и это еще не конец, но в настоящее время не существует метода, который позволяет с уверенностью предсказать эволюцию пациента в вегетативном состоянии. Он через несколько дней может прийти в нормальное сознание или остаться таким до конца жизни.
– Конечно, он к нам вернется, но это займет больше чем несколько дней, – вмешалась Сесиль. Она говорила с невероятным апломбом, как будто получала информацию прямиком от сверхъестественных сил; мистические закидоны его сестры определенно приобрели иной размах, подумал Поль. Он покосился на медсестру, но она, судя по ее виду, даже не рассердилась, только рот открыла от изумления.
Отца, по крайней мере, вся эта суета вокруг явно не занимала. Его взгляд, устремленный в неопределенную точку пространства, и глаза, которые видели, но не могли ничего выразить, производили бесконечно тревожное впечатление, казалось, он впал в состояние чистого восприятия, отключился от лабиринта эмоций, но Поль подумал, что это, конечно, не так, отец наверняка сохранил способность испытывать эмоции, даже если лишился возможности их выразить, но все же трудно представить себе боль или радость, которые нельзя проявить мимикой, стоном, улыбкой или жалобами. Медсестра, преисполнившись самых добрых намерений, жаждала, похоже, сообщить все имеющиеся в ее распоряжении медицинские сведения. Она несколько раз предусмотрительно напомнила, что правильнее им будет обратиться за подтверждением к главврачу, но она и сама явно была в теме. Да, у его отца определенно присутствует мозговая деятельность, сказала она Полю. На электроэнцефалограмме отчетливо заметны дельта-волны, типичные для сна без сновидений или глубокой медитации, а также тета-волны, указывающие скорее на сомнолентность, дважды возникли даже альфа-волны, что очень обнадеживает. То есть налицо чередование сна и бодрствования, хотя смена этих состояний происходит гораздо быстрее, чем у здорового человека, и не следует обычному никтемеральному ритму; неизвестно, видит ли он сны.
В этот самый момент отец закрыл глаза.
– Вот, пожалуйста… – удовлетворенно сказала медсестра, как будто он прекрасно справлялся с ролью пациента. – Он заснул, и это продлится несколько минут, максимум час. Возможно, ваше присутствие, встреча с вами утомили его.
– Так вы считаете, он узнал меня?
– Ну конечно узнал, тебе ж сказали! – нетерпеливо встряла Сесиль. – И правда, пусть передохнет сегодня. Кроме того, мне надо домой, готовить ужин.
– Уже?
– Сегодня сочельник. Ты забыл?
3
Да, он совсем забыл, что сегодня сочельник. Технические термины, которыми сыпала медсестра, взгляд отца, мгновенно вызвавший у него ассоциацию со взглядом призрака, как он себе его представлял – взгляд, вобравший в себя жизнь и смерть, земной и потусторонний одновременно, невозможность понять что-либо наверняка про его психическое состояние, – все это повергло его в невообразимое смятение, ему казалось, что он попал в какой-то телесериал о паранормальных явлениях. До Вилье-Моргона, сверкавшего праздничной иллюминацией, они добрались уже затемно и свернули на D18 в направлении перевала Фю-д’Авенас.
Эрве припарковался у главного дома. Под звездным небом он выглядел еще массивнее и внушительнее, чем в его воспоминаниях.
– Я забыла тебе сказать… – начала Сесиль, выходя из машины. – Ну, если, конечно, ты сможешь побыть тут до конца той недели. Мы ждем в гости Орельена, он должен приехать тридцать первого.
– С женой?
– Да, с Инди. И с их сыном. – Она запнулась на последнем слове, ей явно никак не удавалось смириться с его существованием. – Думаю поселить его в детской Орельена, – продолжала она. – Тогда тебе достанется синяя комната для друзей, а я в зеленой. Разве что ты предпочтешь ночевать в маленьком домике.
– Да, предпочту.
– Так я и знала. Вообще-то я уже тебе там постелила и включила отопление.
Интересно, что она так и знала, хотя он сам совершенно об этом не думал. За последние годы он несколько раз навещал отца, но предпочитал спать в гостевой комнате; он даже не заглядывал в комнату, в которой жил сначала ребенком, потом подростком, последние двадцать пять лет нога его туда не ступала. И вот теперь ему захотелось вернуться во времена своего детства, наверное, это плохой знак, наверное, так бывает с теми, кто начинает подозревать, что жизнь не удалась.
– Хочешь прямо сейчас туда пойти? – спросила Сесиль. – Я займусь готовкой, потом мы пойдем к мессе и поедим, уже когда вернемся. У тебя есть целых два часа на отдых, а то и больше, если захочешь.
– Нет, я лучше посижу в гостиной.
На самом деле ему надо было выпить, и не один стакан. Бар был все на том же месте, там стояли “Гленморанджи”, “Талискер” и “Лагавулин”, то есть и качество бара не снизилось. После третьего “Талискера” Поль решил, что для полуночной службы он слишком пьян; с другой стороны, оно и лучше. Сесиль уже целый час торчала на кухне, и гостиную постепенно наполняли разнообразные приятные ароматы; он узнал запах лаврового листа и лука-шалота.
Может, стоит разжечь огонь, он счел, что это уместная идея для рождественского вечера, у камина лежали поленья и хворост. Пока он озадаченно изучал поле битвы, пытаясь оживить воспоминания о том, как когда-то при нем разжигали огонь, в комнату вошел Эрве, и очень кстати. После стакана “Гленморанджи”, предложенного Полем, он, как и следовало ожидать, весьма умело и споро взялся за решение проблемы, так что через несколько минут в камине взмыло вверх яркое пламя.
– А, вы развели огонь, прекрасно, – сказала Сесиль, входя в гостиную. – Нам пора.
– Уже?
– Да, я ошиблась, в этом году все начнется на полчаса раньше, в десять.
Надевая пальто, Поль задумался на мгновение, где может быть сейчас Прюданс; саббат Йоль уже наверняка закончился. Сесиль не задала ему ни единого вопроса о его семейной жизни, да и Эрве не задаст; Брюно так и останется единственным человеком, обсуждавшим с ним эту тему. Супружеские пары, у которых все хорошо, не склонны обычно интересоваться участью пар, у которых все плохо, они, видимо, чего-то опасаются, словно супружеские разногласия заразны, и при мысли, что каждая супружеская пара в наши дни неминуемо пребывает на грани развода, впадают в ступор. Этот инстинктивный животный страх, трогательная попытка не сглазить, откреститься от расставания и одинокой смерти сопровождаются парализующим чувством неловкости; так здоровым людям всегда сложно говорить с раковыми больными, сложно найти верный тон.
Его отец был вполне включен в жизнь деревни, он понял это, когда они вошли в церковь, ощутив, как вокруг них воцаряется всеобщее смущение, правда благожелательное, человек двадцать прихожан сдержанно поприветствовали их. Он вдруг вспомнил, что отцовский дом “обезличен”: ГУВБ оплачивало все счета и муниципальные налоги отца, чтобы скрыть его местонахождение. Эта защита полагалась ему и после выхода на пенсию, фактически до самой смерти. Он объяснил это Полю за несколько месяцев до его школьных выпускных экзаменов, предприняв первую и единственную попытку поговорить с сыном о его профессиональном будущем в тщетной надежде, что он пойдет по его стопам. Эта защита показалась ему в церкви Вилье-Моргона, где священник уже вышел на сцену для проведения церемонии – это формулировка невольно промелькнула у него голове, и он тут же пожалел о ней, но ничего не поделаешь, – ужасно нелепой: ведь все жители деревни знали отца и наверняка были в курсе его работы “в спецслужбах”, это добавляло романтики их существованию, но, разумеется, ничего сверх того они не знали, да и он сам, в сущности, знал немногим больше, но ведь при желании достаточно просто порасспросить соседей, чтобы узнать, где он живет. В то же время, возможно, не так уж это и нелепо: опрос соседей – недешевое удовольствие, пришлось бы посылать агентов на место, что, понятное дело, обошлось бы куда дороже услуг хакера средней руки, который взломал бы несколько плохо защищенных аккаунтов, чтобы получить информацию о его счетах за электричество или декларациях муниципальных налогов.
Рождественские ясли удались, деревенские дети потрудились на славу, да и сама церемония, насколько он мог судить, прошла хорошо. В мир Спаситель рожден, Поль был в курсе и – спасибо “Талискеру” – даже умудрялся иногда, особенно слушая песнопения, убедить себя, что это благая весть. Он понимал, какое важное значение Сесиль придает тому факту, что их отец вышел из комы на Рождество, он невольно иронизировал, но на самом деле не имел никакого желания иронизировать. Можно подумать, саббат Йоль, который праздновала Прюданс, несет в себе больше смысла. Пожалуй, даже меньше. Это, наверное, что-то относительно языческое, а то и пантеистическое или политеистическое, он путал эти понятия, короче, нечто муторное, в стиле Спинозы. Ему и одного-то бога трудновато было примирить со своим жизненным опытом, а несколько богов – увольте, не смешно, а уж от идеи обожествления природы его и подавно блевать тянуло. Что касается Мадлен, то она полностью перекинулась на сторону Сесиль; ей хотелось вернуть себе любимого человека и зажить с ним прежней жизнью, ее запросы этим ограничивались; бог Сесиль казался ей всесильным, он уже добился первого результата, так что она безоговорочно встала на сторону бога Сесиль и пламенно причастилась.
Сам он воздержался от причастия, которое, на его взгляд, являло собой оргастический момент хорошо продуманной службы, если он вообще что-то смыслил в их религии и опять же если ему не изменяла память об оргазме. Воздержался он из уважения к вере Сесиль, во всяком случае, он попытался убедить себя в этом.
Ступайте, месса окончена, сказано – сделано, и вскоре все послушно разошлись по домам, радоваться в кругу семьи кто во что горазд.
Выйдя из церкви, он с особой остротой понял, какой его отец пользовался (он непроизвольно подумал о нем в прошедшем времени, “пользовался”, а следовало бы в настоящем, “пользуется”, да уж, с надеждой у него явно проблемы), – какой его отец пользуется популярностью в деревне. Практически все прихожане, присутствовавшие на мессе, подошли к ним, обращаясь в основном к Мадлен, но и к Сесиль тоже, они, судя по всему, хорошо ее знали, очевидно, она навещала отца почаще, чем он. Оказалось, тут всем известно про его инсульт и кому; Сесиль еще утром сообщила им, что он очнулся. Это благая весть, и для многих из них рождественский ужин станет теперь еще радостнее, Поль сразу это понял. Ведь всегда неприятно, когда кто-то умирает, посетила его дурацкая мысль, нет, ему определенно не удавалось выйти из состояния полного отупения, не отпускавшего его после посещения больницы.
– Они тут все ужасно милые, – простодушно заметил Эрве, садясь в машину.
– Да, правда, это хороший регион, – задумчиво отозвалась Сесиль. – У нас на Севере люди тоже, в принципе, гостеприимны, но там они так бедны, что рано или поздно отношения портятся.
Разговор за столом неизбежно перекинется на политику, и Поль покорно готовился к этому, он, собственно, и не собирался от него уклоняться, политические дискуссии – неотъемлемая часть семейных трапез с тех пор, как существует политика, да и семья тоже, – словом, довольно давно. Он сам, честно говоря, в детстве не сильно от этой темы страдал, служба в ГУВБ, казалось, выработала у отца устойчивый иммунитет к разговорам о политике, как будто они обязывали его демонстрировать беспрекословную преданность правительству. Отнюдь, он вправе голосовать “как любой другой гражданин”, раздраженно возражал он иногда, и кстати, Поль помнил, что он отпускал весьма резкие замечания в адрес Жискара, Миттерана, а затем и Ширака, покрывших, как ни крути, тридцать с лишним лет политической жизни. Теперь это тогдашнее его осуждение казалось Полю таким яростным, что ему трудно было представить, чтобы отец мог отдать за них свой голос. Интересно, за кого же он голосовал? Очередная загадка, с ним связанная.
Сесиль с мужем голосовали, само собой, за Марин, и уже довольно давно, с тех пор, как она сменила своего отца во главе движения. Сесиль предполагала, что Поль, учитывая, какую должность он занимает, голосует за действующего президента, – и ее предположение, между прочим, было верным, он голосовал за партию президента или за самого президента на всех выборах, ему это виделось “единственным разумным вариантом”, как теперь принято выражаться. Поэтому, чтобы не обидеть его, Сесиль не позволит политической дискуссии зайти слишком далеко, она, как пить дать, уже прочла нотацию Эрве по этому поводу – а Поль знал, что Эрве в молодости участвовал в довольно радикальных движениях типа “Блока идентичности”[17]. На самом деле Поль был вовсе не в претензии – живи он в Аррасе, он бы тоже, скорее всего, голосовал за Марин. За пределами Парижа он хорошо знал только Божоле, процветающий регион, – виноделы, вероятно, единственные из французских аграриев, не считая некоторых производителей зерна, умудрялись не просто не балансировать постоянно на грани банкротства, но даже получать некоторую прибыль. Кроме того, по всей долине Соны располагались многочисленные заводы точной механики, а также автосборочные предприятия, у которых дела шли, пожалуй, неплохо, и они с честью противостояли немецким конкурентам – особенно с приходом Брюно в Министерство экономики. Брюно, совершенно не стесняясь, плевал на свободу конкуренции внутри Европы, шла ли речь о правилах госзакупок или о тарифно-таможенной политике, когда его это устраивало, и в отношении товаров, которые его устраивали, и тут он старался, как и во всем остальном, с самого начала держать себя чистым прагматиком, предоставив президенту расчищать путь и подтверждать при каждом удобном случае свою приверженность интересам Европы, вытягивая губы трубочкой в направлении всех щек всех немецких канцлерш, которые судьба подставляла ему для поцелуя. Все-таки Францию и Германию связывало что-то сексуальное, что-то до странности сексуальное, и уже довольно долгое время.
Сесиль приготовила медальоны из омара, жаркое из кабанятины и испекла яблочный пирог. Все было восхитительно вкусно, она действительно потрясающе готовила, пирог у нее получился вообще улетный – тонкое тесто, хрустящее и в то же время нежное, с точно отмеренным сочетанием вкусов растопленного масла и яблок, где только она всему этому научилась? Сердце разрывалось при мысли, что ей, конечно же, придется скоро посвятить себя совсем другим обязанностям, обидно так растрачивать талант, это настоящая драма на всех уровнях – культурном, экономическом, личном. Эрве, похоже, разделял его диагноз; доев яблочный пирог, он принялся мрачно кивать – ему, разумеется, суждено пасть первой жертвой. Однако он тоже не отказался от рюмки “Гран Марнье”, который Мадлен с радостью налила ему, – интересно, куда делась Сесиль? Она исчезла в самый разгар яблочного пирога. “Гран Марнье” – исключительный ликер, незаслуженно забытый; Поль тем не менее удивился такому выбору: если ему не изменяла память, Эрве всегда был поклонником более терпких вкусов, которые дают арманьяк, кальвадос и другие резкие и невразумительные напитки разных регионов. Наверное, Эрве с возрастом приобрел более женственные вкусы, что показалось ему, в общем, хорошей новостью.
Тут появилась Сесиль с пакетиком, перевязанным ленточкой, и положила его перед ним с застенчивой улыбкой:
– Вот тебе рождественский подарок…
Ну естественно, рождественский подарок, все дарят друг другу подарки на Рождество, как он мог забыть? Он, конечно, полный ноль в семейных отношениях и вообще в отношениях с людьми – да и с животными он тоже не очень ладит. Он развязал ленточку и обнаружил очень красивый металлический футляр, сверкавший неброским серебристым блеском; в нем лежала перьевая ручка Montblanc – Meisterstck 149, отделанная каким-то особым материалом, вероятно, с напылением розового золота, так это называется.
– Ну что ты… это уж чересчур.
– Это от нас с Мадлен, мы с ней скинулись, так что ее тоже поблагодари.
Он расцеловал их обеих, охваченный странным чувством; какой прекрасный подарок, подарок непостижимый.
– Я просто вспомнила, – сказала Сесиль, – что когда-то ты переписывал в тетрадь разные фразы, полюбившиеся тебе изречения известных писателей и время от времени зачитывал их мне вслух.
Внезапно и он вспомнил: да, действительно, было дело. Лет с тринадцати и до последнего класса школы он прилежно выводил каллиграфическим почерком эти фразы, часами корпел над ними, тренируясь на отдельных листочках, прежде чем переписать их в специальную тетрадь. Он как сейчас видел ту тетрадь в твердой обложке с арабской мозаикой. Что с ней сталось, вот вопрос. Может, она так и валяется в его детской, только он начисто забыл, что именно тогда записывал. И тут что-то промелькнуло у него в голове, но не совсем фраза, скорее стихотворная строфа, одна-единственная, внезапно всплывшая из глубин памяти:
- Что от королевства ныне
- Остается при дофине,
- Что пока еще при нем?/li>
- Орлеан, Божанси,
- Нотр-Дам де Клери,
- И Вандом,
- И Вандом[18].
Он тут же сообразил, что Дэвид Кросби вставил эти слова в свою песню – впрочем, это даже не вполне песня, а странное сочетание вокальных гармоний без ярко выраженной мелодии, а иногда и без слов, Кросби сочинял их в конце своей карьеры.
Поужинав, они быстро разошлись; Брюно он так и не позвонил. Ладно, теперь уже утром; Поль понятия не имел, что Брюно делает на Рождество. Может, и ничего, Рождество ему наверняка поперек горла. Хотя кто знает, вдруг как раз наоборот, он проводит время с детьми и собирается предпринять самую распоследнюю попытку помириться с женой, так что лучше подождать до двадцать шестого. Ну, он скажет ему, что хочет пробыть в Сен-Жозефе всю неделю.
В легком приятном опьянении он бездумно шагал по застекленному коридору к своей комнате. Первое, что бросилось ему в глаза, когда он вошел, был постер с изображением Киану Ривза в образе ослепленного Нео из “Матрицы: Революция” с окровавленной повязкой поперек лица, бредущего в каком-то апокалиптическом пейзаже. Поль, что в некотором роде симптоматично, выбрал тогда именно этот его образ, а не один из многочисленных плакатов, на которых он предстает в позе лихого мастера боевых искусств. Он плюхнулся на маленькую, ужасно узкую кровать, а ведь он же спал на ней с разными девицами, ну ладно, с двумя. “Матрица” вышла на экраны за несколько дней до его восемнадцатилетия и сразу привела его в восторг. Должно быть, те же чувства испытала Сесиль два года спустя, посмотрев первую часть “Властелина колец”. Впоследствии многие склонялись к мысли, что первый фильм трилогии “Матрица” – единственный по-настоящему интересный, благодаря новаторскому визуальному решению, потом это уже превратилось в повторение пройденного. Поль не разделял такую точку зрения, не учитывавшую, на его взгляд, сценарную конструкцию. В большинстве трилогий, будь то “Матрица” или “Властелин колец”, вторая часть провисает, а вот в третьей возрастает драматический накал и доходит просто до апофеоза в “Возвращении короля”; в “Матрице: Революция” роман Тринити и Нео, поначалу немного неуместный в фильме для нердов, в конечном счете начинает волновать по-настоящему, в основном благодаря игре актеров, по крайней мере, так он думал в то время, и так же он думал, проснувшись утром 25 декабря, почти двадцать пять лет спустя. Над покрытыми инеем лугами уже занимался рассвет, он пошел в гостиную сделать себе кофе. Его немного мутило, но голова совсем не болела, даже странно, учитывая, сколько он выпил накануне. Сесиль собиралась заехать к отцу после полудня; других планов на сегодня у нее не было. Сделав первый глоток, он снова вспомнил “Матрицу”, и вдруг у него перехватило дыхание, и он застыл на месте, настолько это показалось ему очевидным: Прюданс невероятно похожа на актрису Керри-Энн Мосс, сыгравшую Тринити. Он бросился обратно в комнату и быстро отыскал альбом, в котором хранил фотографии из фильма: ну конечно, это очевидно, с ума сойти, как же он раньше не догадался? Поль был ошеломлен, вот бы никогда не подумал, он же не такой, напротив, он всегда считал себя человеком довольно холодным, рациональным. В комнате становилось светлее, он мог теперь рассмотреть все детали своего юношеского жилища, начиная с огромного постера “Нирваны”, еще старше “Матрицы”, Поль, наверное, приобрел его совсем еще подростком. “Матрицу” он, кстати, с удовольствием пересмотрел бы; с “Нирваной” – все сложнее, тем более он теперь почти не слушал музыку, разве что григорианское пение, да и то если выдавался тяжелый рабочий день, что-нибудь типа Christus Factus Est и Alma Redemptoris Mater, ничего общего с Куртом Кобейном, в чем-то человек меняется, а в чем-то – нет, только на такое немудрящее умозаключение его и хватило в то рождественское утро. А вот Керри-Энн Мосс нравилась ему по-прежнему, и даже сильнее, чем когда-либо, и, просматривая сейчас эти фотографии, он испытывал те же, не утратившие остроты, чувства, что и когда-то давно, молодым человеком, но ему никак не удавалось понять, следует ли этому радоваться. Он сделал себе вторую чашку кофе, и тут ему пришла в голову идея откопать тетрадку, о которой говорила вчера Сесиль, ту самую, куда он записывал любимые изречения. После четверти часа бесплодных поисков он вспомнил, что выбросил ее вскоре после того, как решил готовиться к вступительным экзаменам в ЭНА, наутро после катастрофической ночи, ход которой ему не удавалось восстановить полностью, но у него стоял перед глазами мусорный бак на улице Сен-Гийом, в который он эту тетрадку и швырнул. А жаль, он мог бы узнать побольше о себе, наверняка же были, подумал он, какие-то ранние предзнаменования, упреждающие знаки судьбы, и, как знать, вдруг он сумел бы их расшифровать сейчас в подтексте выбранных им высказываний; правда, те немногие из них, что ему удалось выудить из памяти, не слишком обнадеживали, речь шла все же о несчастном короле, короле, разбитом и униженном англичанами, потерявшем почти все свое королевство. Да и судьбе Нео тоже не особо позавидуешь, не говоря уж о Курте Кобейне.
За окном совсем рассвело, наступал новый прекрасный зимний день, ясный и лучезарный. От потоков прошлого, медленно захлестывавших его по мере того, как он заново открывал для себя окружающие предметы, ему стало дурно, и он вышел на воздух. Дом великолепно смотрелся в утреннем свете, стены из золотистого известняка сверкали на ярком зимнем солнце, но все-таки было очень холодно. Ему не хотелось возвращаться к себе, не так сразу, и он направился в комнату Сесиль, там хоть будет не так тяжело. Он знал, что она не рассердится, ей никогда и скрывать-то было особенно нечего, это вообще ей несвойственно.
У нее вместо “Нирваны” был Radiohead; вместо “Матрицы” – “Властелин колец”. Она старше его всего на два года, но этим вполне объясняется разница вкусов, тогда все еще менялось достаточно стремительно, не так стремительно, конечно, как в шестидесятые годы или даже в семидесятые, замедление и обездвижение Запада, прелюдия к его уничтожению, развивались постепенно. Он больше не слушал “Нирвану”, но подозревал, что Сесиль все еще, время от времени, слушает старые композиции Radiohead, и тут он внезапно вспомнил Эрве в возрасте двадцати лет, в тот момент, когда они с Сесиль познакомились. Он тоже был фанатом “Властелина колец”, даже упертым фанатом, и знал некоторые фрагменты фильмов наизусть, в частности тот, где открываются Черные врата, прямо перед финальной битвой. И еще он вспомнил, как Эрве, став перед ними столбом, шпарил наизусть речь Арагорна, сына Араторна. Начал он с того, как Арагорн, подойдя к вратам в сопровождении Гэндальфа, Леголаса и Гимли, своих верных соратников, громким голосом бросает последний, благородный рыцарский вызов:
- Пусть силы Черной Страны выходят на бой,
- Да свершится над ними справедливый суд[19].
Врата действительно открылись, исторгнув в долину несметные полчища темных сил – они значительно превосходили их по численности, и ужас обуял войска Гондора. Арагорн и его спутники отступили, а затем он обратился к своим солдатам, и это воззвание Арагорна, безусловно, один из самых прекрасных моментов фильма:
Сыны Гондора, Рохана, мои братья!
Я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит род людей и мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы.
Но только не сегодня!
Эрве повторял последнюю фразу по-английски, иначе никак нельзя передать интонацию Вигго Мортенсена, осознавшего, что битва хоть и обречена, но необходима, его отчаянное упорство, его мужество: BUT IT IS NOT THIS DAY!
Почему Поль так хорошо запомнил эту сцену, притом что к нему лично это не имело никакого отношения? Наверняка потому, что именно в ту минуту он понял, что его младшая сестра на глазах влюбляется в Эрве. Сам он еще никогда не влюблялся, хотя и переспал к тому моменту с полудюжиной девиц, они были ему симпатичны, не более того, но тут он увидел, какая откровенная, мощная сила бьется во взглядах, которые его сестра бросает на Эрве, неведомая ему сила.
Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат Эпохи Людей. Но только не сегодня! BUT IT IS NOT THIS DAY!
Сегодня мы сразимся! За все, что вы любите на этой славной земле.
И снова Эрве продекламировал оригинальную версию, перевод был неплохой, но все-таки в подметки не годился английскому тексту By all that you hold dear on this good earth. И наконец, прозвучали последние слова, призыв к оружию:
Зову вас на бой, люди Запада!
Эрве, разумеется, состоял в “Блоке идентичности” в то время и считал, что силы Мордора вполне олицетворяют мусульман, Реконкиста в Европе еще не началась, но своим фильмом уже обзавелась, наверняка именно такой и была его картина мира. Интересно, участвовал ли он в откровенно незаконных или насильственных действиях. Поль так не думал, ну, то есть сомневался, Сесиль, вероятно, все знала, но он не стал задавать ей вопросов. В любом случае нотариальные штудии слегка охладили его пыл. Ну, может, не совсем, в Эрве все еще ощущалось какое-то странное бунтарство, что-то не до конца прирученное, трудно поддающееся определению. Отец всегда его любил, зять его не разочаровал, и свадьбу отпраздновали пышно, с повозками, катящими по холмам Божоле и прочими подобными затеями, совершенно несоразмерными его жалованью. Отец всегда предпочитал Сесиль, вот в чем дело, Сесиль с детства была его любимицей, и, в сущности, Поль ничего не мог на это возразить: Сесиль и впрямь достойна предпочтения просто потому, что является человеческим существом лучшего качества[20].
Теперь ситуация внезапно перевернулась, отец очутился в положении ребенка, а то и младенца, но Сесиль справится с этой ситуацией, она же в самом расцвете сил, и ее с толку не собьешь, Поль был уверен, что отец никогда не окажется в ситуации бедных старушек, которые часами плавают в собственной моче и дерьме, дожидаясь, пока медсестра или санитарка подобрее прочих зайдет поменять им подгузник. При мысли о том, какая участь ожидала бы отца, не будь рядом Сесиль и Мадлен, Поль впал в некоторое уныние и решил прогуляться по виноградникам. Виноградники в это время года вообще-то не бог весть что: жалкие, скрученные, почерневшие штуковины, довольно уродливые, пытающиеся пережить зиму, сохранив свое нутро; сейчас ну никак нельзя было вообразить, что из этих мерзких загогулин впоследствии родится вино, все-таки странно устроен мир, думал Поль, петляя между лозами. Если Сесиль права и Бог действительно есть, то он мог бы поделиться своими планами, Бог – скверный пиарщик, такое дилетантство неприемлемо в профессиональной среде.
4
На Рождество в больнице было полно народу, что неудивительно, для большинства посетителей это ежегодный праздник человеколюбия, правда, их ненадолго хватит, максимум до завтра, а скорее всего, просто до вечера. Медсестра, та же, что и накануне (может, она дежурит все праздники?), выглядела усталой, но компетентность и доброжелательность ей не изменили. Дверь в палату была закрыта.
– Санитарки его моют, – сказала она, – это займет минут пятнадцать.
Мадлен принесла отцу в подарок коробку сигар “Золотая медаль № 1”. Поль помнил эти длинные, довольно тонкие сигары, panatelas, отец всегда с трудом доставал их, они производились на небольшой малоизвестной фабрике “Ла Глория Кубана”, он считал их лучшими сигарами в мире, гораздо лучше, чем “Кохиба” и “Партагас”.
– Я, разумеется, просто ему их покажу и дам понюхать, не оставлять же их в больнице, – сказала Мадлен; очевидно, она не слишком доверяла здешнему персоналу.
В этом удивительном подарке был свой смысл, потому что сенсорные способности отца, включая обоняние, полностью восстановились. По крайней мере, он мог видеть, медсестра авторитетно это заявила, и узнавать то, что видит. Он также понимал обращенные к нему слова, Сесиль, во всяком случае, ничуть в этом не сомневалась и пустилась в долгое повествование о том, как они провели сочельник, как вся деревня справлялась о его здоровье, она описала рождественское меню и подарок, который они преподнесли Полю; она рассказала и об Эрве, не уточнив, правда, что он сидит без работы. Поль слушал сестру вполуха и внезапно решился.
– Можешь оставить нас? – попросил он. – Можешь оставить нас на минутку?
Она ответила, что да, конечно, и сразу же вышла вместе с Мадлен. Он сделал глубокий вдох, посмотрел отцу прямо в глаза и заговорил. Он ничего специально не планировал, ничего особенного, ему казалось, что он несется вниз по склону, и все так же, не отрываясь, смотрел на отца, глаза в глаза. Прежде всего, он завел речь о Брюно, ему это было важно. Он говорил о нем долго, упомянул предстоящие президентские выборы, а также странные сообщения, заполонившие интернет-сайты по всему миру, полагая, что отец, будучи в прошлом агентом ГУВБ, может этим заинтересоваться. Он говорил о Прюданс, что, как выяснилось, сложнее всего, отец всегда недолюбливал Прюданс, Поль это знал, пусть даже он почти никогда не высказывался по этому поводу. Только однажды, всего один раз, поздно ночью (почему вдруг они оба бодрствовали в три часа ночи? всего не упомнишь), он вдруг выдал: “Я не уверен, что эта женщина тебе подходит. – И тут же прибавил: – Впрочем, я не уверен и в том, что тебе подходит ЭНА. В данный момент я не вполне понимаю, какое направление ты собираешься задать своей жизни. Но это, конечно же, твоя жизнь”.
Ну и под конец Поль сказал, что сожалеет, что у него нет детей, и испытал настоящий шок, услышав эти слова из своих уст, потому что он никогда себе в этом не признавался, более того, это у него вырвалось совершенно случайно, он-то всегда был убежден в обратном. Он никогда не разговаривал с отцом по душам, когда тот был в здравом уме и твердой памяти, и ему этого очень не хватало на разных этапах его жизни. Он пытался, и не раз, но у него ничего не получалось. Сейчас отец сидел с благоговейно застывшим выражением лица, устремив взгляд на неопределенную точку в пространстве, он витал в иных пределах, в нем явно появилось что-то от призрака, да и от оракула тоже.
Он говорил еще долго и вышел из палаты в состоянии крайнего душевного смятения. Сесиль и Мадлен уже не было в коридоре, зато он тут же наткнулся на медсестру. Она озабоченно взглянула на него.
– Вам нехорошо? Вы… – начала она. – Трудно вам пришлось? – Ну разумеется, подумал Поль, она, наверное, привыкла, что у людей крыша едет после посещения родителей, братьев или детей в таком состоянии, для нее все это в порядке вещей. – Может, передохнете в свободной палате?
Он ответил, что нет, что сейчас придет в себя. На самом деле он вовсе не был в этом уверен.
– Знаете, ведь ваш папа недолго пробудет с нами… – сказала она еще любезнее. – У вас же в понедельник назначена встреча с главврачом, да? – Поль кивнул. – Он вышел из комы, но у него есть только элементы сознания; думаю, ему попытаются найти место в отделении ХВС-СМС.
– Что такое ХВС-СМС?
– ХВС – это хроническое вегетативное состояние, в котором сейчас находится ваш папа: никаких реакций, никакого взаимодействия с миром. СМС – состояние минимального сознания, когда пациент начинает немного реагировать и совершать осознанные движения, обычно все начинается с глаз. Я несколько лет проработала в ХВС-СМС; мне там понравилось, как правило, им заведуют хорошие люди, они стараются уделить внимание каждому пациенту. Нам сложнее, у нас тут неотложная помощь, интенсивная терапия, пациенты не задерживаются надолго, мы не успеваем узнать их поближе. Я уверена, что ваш папа очень интересный человек.
Она, надо отметить, не сказала “был”; да и вообще, откуда ей знать?
– У него интересное лицо, на мой взгляд, красивое лицо. Кстати, вы ужасно на него похожи.