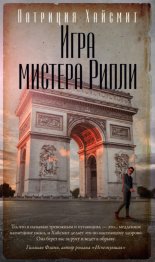На льду Гребе Камилла

– А ты как? Как твой новый роман?
Гунилла смеется и потягивается как кошка. Опускает чашечку, нагибается вперед и шепчет, словно это страшный секрет:
– Фантастика. И нас тянет друг к другу… безумно тянет. Буду откровенна: я постоянно его хочу. Наверно, это неприлично в нашем возрасте.
– Эх, я бы все отдала за то, чтобы испытать такую страсть.
Мы с Уве больше не занимаемся сексом, но я не хочу говорить об этом Гунилле. Не потому, что не хочу знать ее реакцию, а потому что мне стыдно за то, что я живу с тем, к кому не испытываю никаких чувств. Только слабаки остаются в плохих отношениях. Я не хочу выглядеть слабой. Особенно в глазах Гуниллы. Сквозь шум в ресторане я слышу звук мобильного телефона. Бросаю взгляд на дисплей. Незнакомый номер.
– Ответь, – говорит Гунилла. – Мне нужно в дамскую комнату.
Я отвечаю и смотрю, как Гунилла поднимается и идет в сторону туалета. У нее ишиас. Подозреваю, что ей больнее, чем она говорит.
У мужчины мягкий приятный голос. Он представляется Манфредом Ульссоном и сообщает, что работает следователем в полиции. Давно мне никто не звонил из полиции. Я закончила свое сотрудничество с ними пять-шесть лет назад, когда решила посвятить все свое время исследовательской деятельности. У меня больше не было времени на консультации. Точнее, это Уве решил за меня. Он считал, что я слишком много работаю и что от этого у меня портится настроение. К тому же особой потребности в деньгах у нас не было.
– Мы с вами сотрудничали десять лет назад, – говорит следователь. – Не знаю, помните ли вы меня.
Имя Манфред Ульссон ничего мне не говорит, но я не хочу в этом признаваться и молчу.
– Это касалось расследования убийства в районе Сёдермальм в Стокгольме. Молодому мужчине отрезали голову.
– Помню… – обрываю я. – Вы тогда никого не поймали.
Деменция или нет, а ту голову на полу я никогда не забуду.
Может, потому что убийство было совершено с изощренной жестокостью. Может, потому что мы приложили все силы, чтобы найти убийцу. Когда они обратились ко мне, расследование велось уже несколько месяцев. Меня наняли в качестве психолога-консультанта составить психологический портрет убийцы.
Я вообще-то занимаюсь поведенческой терапией, но в своих работах затрагивала и мотивы преступлений.
В результате я несколько лет консультировала полицию в отношении самых чудовищных преступлений.
– Именно так. Мы так его и не поймали. А теперь произошло похожее убийство. Сходство поразительное. Я хотел узнать, не будет ли у вас возможность встретиться за чашкой кофе. У вас тогда были очень любопытные мысли по поводу психологического портрета преступника.
Гунилла возвращается, присаживается напротив и допивает глёг одним глотком.
– Я больше не работаю на полицию, – говорю я.
– Я знаю. Речь идет не о работе. Я только хотел встретиться с вами за кофе и поговорить. Если у вас есть время и желание.
Он замолчал. Гунилла вопросительно посмотрела на меня.
– Я подумаю, – отвечаю я.
– Это мой номер, – говорит полицейский.
Вернувшись домой, я вижу Уве в прихожей. Он меня ждал. Седые редкие волосы зачесаны набок в попытке скрыть голый череп. Рубашка грозит лопнуть на животе. Лицо красное и потное, словно он только что вернулся с прогулки. Он демонстративно смотрит на часы.
Часы дорогие, чтобы все окружающие знали статус их владельца.
– Без десяти, – говорю я.
Не удостаивая меня ответом, Уве поворачивается и идет в спальню. Через минуту он возвращается уже одетый. Я ставлю пакет с салфетками и свечками на пол и приветствую Фриду, прыгающую вокруг меня и жаждущую внимания. Запускаю пальцы в мягкий черный мех, напоминающий овечью шкуру.
На Уве кофта горчичного цвета. Я ее ненавижу. Он надевает куртку, ботинки, ищет мой взгляд.
– Надо идти, если хотим успеть.
Улица Каптенсгатан не расчищена от снега. Я ступаю осторожно, чтобы не зачерпнуть снег ботинками. Иду по уже вытоптанной в снегу дорожке. В темноте мы идем в сторону улицы Артиллеригатан.
– Мне позвонили сегодня из полиции, – говорю я.
– Вот как, – нейтрально отвечает Уве, не выдавая своих чувств по этому поводу.
Но он всегда такой. Молчит, пока не взорвется от переизбытка эмоций.
– Они хотят со мной встретиться.
– Ага.
Мы идем вверх по улице к церкви, проходим мимо ресторана при музее Армии, где иногда обедаем.
– Произошло убийство, и почерк похож на преступление, которым я занималась десять лет назад.
– Ради всего святого, Ханне, скажи, что ты шутишь.
– А что? – Я делаю вид, что ничего не понимаю.
Уве останавливается. Не встречается взглядом, смотрит только на церковь всю в снегу на вершине холма. Шпиль устремляется вверх, в черное небо, за которым начинается вечность.
Руки у него сжаты в кулаки. Я вижу, что он зол. Его злость доставляет мне удовольствие. Мне приятно видеть его таким. Я как подросток, который провоцирует родителей, чтобы получить их внимание.
Муж поворачивается, кладет руку мне на плечо, и этот демонстративно учтивый жест приводит меня в бешенство. Уве обращается со мной как с ребенком, как с беспомощным существом.
– Что? Что? – говорю я.
– Разве это разумно?
Он понизил голос, пытается взять себя в руки. Уве ненавидит терять контроль над собой. Хуже этого только когда я выхожу из себя.
– Что разумно?
– Браться за работу в твоем положении?
– Положении? Я не беременна.
– Лучше бы это было так.
– И кто сказал, что я возьмусь за эту работу?
– Черт побери. Ты прекрасно знаешь, чем кончаются эти звонки.
– А что, если и так? Кто сказал, что я не могу работать?
Уве вздергивает подбородок, чтобы смотреть на меня сверху вниз. Я ненавижу, когда он так делает. Он набирает в грудь воздуха и заявляет:
– Я сказал. Ты нездорова. Ты не можешь работать. И я как твой муж и опекун должен запретить тебе это.
Больше всего на свете мне хочется дать ему достойный ответ: залепить пощечину или хотя бы развернуться и пойти домой, наплевав на рождественский концерт. Дома можно было бы разжечь камин, выпить бокал вина, полежать с Фридой на диване. Но я держу язык за зубами. Мы молча продолжаем путь.
Эмма
– Ну, как все прошло вчера?
В голосе Ольги радость и любопытство. Бледно-голубые глаза внимательно изучают меня, пока она ловко сворачивает джинсы на столе перед кассой.
И я не знаю, что ей ответить. Часть меня хочет сказать, что все прошло хорошо, что я приготовила вкусный ужин и что мы занимались любовью всю ночь. Другая часть хочет сказать правду, но боится.
– Он не пришел.
– Не пришел?
Ольга откладывает джинсы, которые были у нее в руках, и с тревогой смотрит на меня.
– Нет, не пришел. И я не смогла с ним связаться, так что я не знаю, что произошло.
– Он не позвонил?
– Нет.
Ольга молчит. Это молчание действует мне на нервы. Я вижу, что она тоже не знает, что сказать на это.
– Но обычно он звонит, если опаздывает или не может прийти?
После секундной заминки я отвечаю:
– Он никогда не опаздывает. И никогда раньше не отменял свиданий.
Внезапно мне становится трудно дышать, хотя мы недавно открыли магазин и покупателей пока нет. Искусственный свет люминесцентных ламп режет глаза. Я чувствую приближение мигрени. Опираюсь о стол и борюсь с наворачивающимися на глаза слезами.
– Что, если с ним что-то случилось? – шепчет Ольга. Между сильно подведенных бровей появилась морщинка. Не в силах произнести ни слова, я киваю.
– Ты ему звонила?
– Только что.
Она ничего не говорит, только продолжает складывать джинсы, поглядывая в глубину магазина.
– Идет, – шепчет она, не глядя на меня. Я беру ближайшие джинсы, начинаю складывать, но все бесполезно. Он нас заметил.
– Опять трепетесь? Эмма, живо за кассу.
Бьёрне подстригся. Убрал успевшие отрасти полоски на затылке. Черные волосы зачесаны набок, закрывая один глаз. Его тощее тело в жилетке в сочетании с этой прической напоминает мне Лаки Люка. Надменного, стареющего Счастливчика Люка[3].
Не удостаивая его ответом, я встаю за кассу. Думаю о маме. О маме и ее сестре, которых больше нет. Как изменилась моя жизнь с их уходом. Смотрю на Бьёрне и горы джинсов на столе и вспоминаю смех в маленькой квартирке тети Агнеты на Вэртавэген и аромат свежесваренного кофе, смешавшийся с запахом сигарет мамы. Тетя Кристина бросила курить и говорила маме, что она тоже должна бросить из солидарности. Сначала я думала, что она злится, но все только смеялись, словно это была веселая шутка.
Это была первая суббота в этом месяце, и тетушки собрались на традиционный совместный ланч. Он всегда превращался в шумные посиделки, и вход туда мужчинам был запрещен. Не знаю, почему они разрешали мне присутствовать, ведь им приходилось шептаться. Но, несмотря на всю секретность, я понимала, что они обсуждают: нового парня Лены, простоватого мужа Кристины и больную спину мамы.
Мама была самой младшей из сестер. Младшим невоспитанным ребенком, которого все баловали и которому все прощали. Она шокировала всю семью, когда забеременела в восемнадцать лет.
Очередной взрыв смеха. Они смеялись, как девочки. Агнета даже закашлялась от смеха. Я слышу звон чашек из кухни. В спальне, где я сижу на паркетном полу, скрестив ноги, все хорошо слышно, что происходит в кухне. У меня на коленях стеклянная банка с гусеницей. Листья давно уже пожухли и опали. Голая ветка напоминает колючую проволоку. Светло-зеленой гусеницы не видно. Но папа мне все объяснил. Она превратилась в куколку, которая висит на веточке. И что скоро меня ждет настоящее чудо. С гусеницей происходит волшебство, и, если мне хватит терпения и на то будет Божья воля, я увижу, как из куколки потом появится совершенно новое насекомое.
Мне очень хотелось поймать момент, когда новое насекомое вылупится из куколки, но я не знала, когда именно это произойдет. По этой причине я и таскала все время банку с собой. Первое, что я делала, просыпаясь утром, это изучала куколку, чтобы увидеть малейшие признаки изменения. И перед сном я тоже проверяла банку. Я спрашивала папу, почему гусеница не хотела оставаться гусеницей, почему ей так необходимо было превратиться в куколку, но папа только покачал головой и грустно улыбнулся.
– У нее нет выбора, крошка. Она должна перевоплотиться или умереть. Такова ее природа.
Я долго размышляла над этим высказыванием, пыталась представить, каково это было бы – встать перед единственным выбором: перевоплотиться или умереть. Но как бы я ни старалась, я не могла представить себя в подобной ситуации.
Оторвавшись от банки, я посмотрела на узкую кровать тети Агнеты. «Она уже давно ни с кем ее не делила», – шепнула тетя Лена маме на лестнице. Взрослые думают, что дети ничего не слышат, или считают, что они ничего не понимают. Мне приходилось притворяться, что ничего не понимаю, и изображать из себя глупого ребенка, чтобы они не перестали при мне обмениваться секретами.
Над кроватью висел постер с футболистом. Я не понимала, что в нем было такого особенного и почему тетушки всегда так оживленно обсуждали его, стоя перед кроватью с сигаретой в руках. Я никогда этого им не говорила, но считала эту картину откровенно уродливой. Фигуры были расплывчатыми, они словно перетекали друг в друга. Я не понимала, что хотел этим сказать художник. Я была уверена, что сама нарисую намного лучше. Но я понимала, что дело не в его манере рисовать, и, как хорошо воспитанная девочка, держала язык за зубами.
– Милая, зачем ты сидишь на полу?
Тетя Агнета появилась в спальне и присела на корточки рядом со мной. Ее толстые ноги вблизи казались еще толще. Носки, длиной до колен, врезались в пухлую плоть.
– Не хочешь пересесть в кресло? Или в мою кровать? Я покачала головой, и тетя Агнета вздохнула.
– О’кей, делай как хочешь. А что, кстати, у тебя в банке?
– Куколка.
– Что?
– Куколка. Гусеницы делают такие, чтобы потом перевоплотиться.
– А где она?
Я показала тете на куколку. Она осторожно взяла банку, поднесла к свету, прищурила голубые глаза под тяжелыми веками.
– Такая крошечная.
– Она такая и должна быть. Чтобы птицы не увидели и не съели. Они питаются насекомыми.
Тетя изобразила серьезную мину и кивнула.
– Разумеется. Как я об этом не подумала. Вблизи тетя Агнета выглядела старше, чем на самом деле. Щеки свисали до самой шеи, грудь тоже была обвисшей.
– В природе все едят друг друга.
Агнета погладила меня по голове своей морщинистой рукой.
– Эмма, милая, – произнесла она нежным голосом. Это прозвучало как вопрос, словно я была способна читать ее мысли и угадывать, что она хочет сказать. Я взяла у нее банку и осторожно поставила на пол.
– Как дела дома, Эмма?
В нежном голосе появилось беспокойство. Интонация тоже была незнакомой и тревожной.
– В смысле?
Она задумалась. В кухне ее сестры говорили шепотом, явно обсуждая какого-то мужчину. Все мужчины были либо придурками, либо подлецами, и больше всех повезло Агнете, которая никогда не была замужем.
– Папа с мамой пьют много вина и пива, Эмма?
Я не знала, что ответить на этот вопрос. Сам вопрос я понимала, но не знала, что значит – пить много или мало спиртного? Много – это сколько? Дома всегда стояли банки на кухонной стойке. Но много их или мало? Сколько пьют другие мамы и папы вечерами? Я не знала и так и ответила:
– Я не знаю.
Тетя Агнета вздохнула и тяжело поднялась на ноги, отчего коленки у нее захрустели, словно были сделаны из сухих березовых поленьев, а не крови и плоти.
– Господи Иисусе, – сказала она и прижала руку к губам, чтобы скрыть отрыжку. – Не хочешь пойти поесть булочек с нами, Эмма?
– Потом.
Агнета вернулась в кухню. Сестры зашептались еще активнее. Видимо, предмет был чрезвычайно интересный.
Я взяла банку, выползла в прихожую и легла на пол, чтобы послушать. Но слышно было только отдельные слова. Я слышала хриплый шепот Агнеты:
– Странный ребенок. И потом слова мамы:
– Странный не значит плохой.
Никто из сестер не стал комментировать.
Я уже собиралась заползти обратно в спальню, когда заметила какое-то движение в банке.
Куколка, как и прежде, висела на ветке, но что-то изменилось. Она словно стала прозрачнее. Она была похожа на грязную ледышку. И внутри что-то шевелилось.
Волшебство началось.
Мужчина перед кассой протягивает мне руку и улыбается.
– Андерс Йонссон, журналист. Я робко улыбаюсь в ответ.
– Эмма.
У него голубые глаза и тонкие желтые волосы, как следы от собачьей мочи на снегу. Он одет в грязную парку защитного зеленого цвета и потертые джинсы. На вид лет тридцать.
– Чем я могу вам помочь? – спрашиваю я, осознав, что он все еще держит мою руку в своей.
Он улыбается еще шире.
– Я готовлю репортаж об условиях работы в компании. Говорят, что вам запрещено общаться с прессой, это так?
– Запрещено? Я не знаю…
– Что вам не дают даже в туалет сходить, – продолжает он.
Он прав. Правила ужесточились с приходом Йеспера, и пресса не могла это не заметить. Но я не имею права это комментировать, особенно учитывая, в каких мы с ним отношениях.
– Я не хочу об этом говорить, – отвечаю я и чувствую, что краснею.
– Мы можем поговорить в другом месте, – настаивает журналист, наклоняясь ближе. Он сверлит меня своими водянистыми глазами. Я не буду упоминать ваше имя в статье. Все будет анонимно.
– Я не хочу.
Краем глаза вижу, как кто-то подбегает к кассе.
– Она сказала, что не хочет с вами разговаривать. Чего тут непонятного?
Журналист в зеленой парке поворачивается к Бьёрне, который встал рядом со мной за кассой. Я вижу, что он зол. Челюсти напряжены, кулаки сжаты. Привычным жестом Бьёрне заправляет прядь волос за ухо, вздергивает подбородок и говорит уже спокойнее:
– Вы уже второй раз приходите сюда и мешаете сотрудникам работать. Если не уйдете, я вызову полицию. Понятно?
– У меня есть право…
– Вы не слышали, что она сказала? Мне повторить? Она не хочет с вами разговаривать.
Бьёрно брызжет слюной, произнося эти слова. Потом поворачивается и уходит. Через плечо хвалит меня:
– Молодец, Эмма.
Я снова поворачиваюсь к журналисту. Улыбка исчезла. Лицо невозмутимо. Он роется в карманах, что-то достает оттуда и подвигает ко мне. Это визитка. Наши глаза встречаются.
– Позвоните, если передумаете. И с этими словами он уходит.
Я осторожно поднимаю визитку, смотрю на нее и убираю в карман.
Йеспер Орре. Большие теплые руки. Мягкая кожа лица, с морщинками. Щетина, местами с сединой, четко очерченный подбородок. Страсть в глазах, когда он смотрит на меня, как изголодавшийся на пирожное в витрине.
Что он во мне нашел? Я совершенно обычная девушка со скучной работой и скучной личной жизнью. Почему он проводит со мной столько времени? Что во мне заставляет его растворяться в моих объятьях, ласкать каждый сантиметр моего тела, открывать во мне чувственность, о которой я и не подозревала?
Я помню наше свидание неделю назад у меня дома.
– Мы так похожи, Эмма, – бормотал он. – Иногда мне кажется, что я могу читать твои мысли, понимаешь?
Я ничего не понимаю. Я не чувствую той телепатической связи, о которой говорит Йеспер, не умею читать его мысли и не знаю, что он имеет в виду, когда говорит, что мы связаны. Но я ничего ему не говорю.
– Мне так повезло, что я тебя встретил, – шепчет он, накрывая меня своим телом, коленом раздвигает мне ноги, прижимается ко мне крепче. – Я самый счастливый человек в мире.
Он входит в меня, целует в шею, гладит мою грудь.
– Я люблю тебя, Эмма, я никогда не встречал такой девушки, как ты.
Я по-прежнему молчу, не хочу портить этот волшебный момент. Наслаждаюсь теплотой, которая разливается внутри от его слов.
Я была неподготовлена, и его проникновение причиняет мне боль. Йеспер взял меня грубо, я не получила удовольствия, но все равно мне было приятно чувствовать себя любимой, красивой, желанной. Как пирожное с малиной в окне кондитерской.
Он задвигался быстрее, сильно сжал мои руки. Капли пота упали мне на щеку. Он застонал, словно испытывая физические страдания.
– Эмма…
Это прозвучало как вопрос или призыв.
– Да? – спросила я.
Он остановился. Поцеловал меня.
– Эмма, ты готова на все ради меня?
– Да, готова, – ответила я.
Готова ли я на все ради Йеспера Орре? Это риторический вопрос. Он никогда меня ни о чем не просил, кроме того случая, когда одолжил денег, чтобы заплатить рабочим за ремонт.
Это я настояла. Не хотела, чтобы он прерывал свидание и ехал в банк. Йеспер тогда поцеловал меня и сказал:
– Дорогая, я и сам хочу остаться, но обещал расплатиться с рабочими сегодня. Наличными. Они поляки. А у меня нет с собой сотни тысяч наличными. Поэтому мне нужно в банк.
Обеденный секс.
Этому выражению меня научила Ольга. Она употребила его, когда я сказала, что мы с моим парнем встречаемся за обедом. У меня дома. Ольга всегда была такой. Прямолинейной. Говорила что думала, ничего не стесняясь.
Йеспер приподнялся на локте.
– Мне нужно идти, Эмма.
– Я могу тебе одолжить, – предложила я.
– Ты? – удивился он и явно не поверил мне, потому что встал и подошел к окну.
– У меня есть деньги.
– Сто тысяч? Здесь, в квартире? Он обвел рукой комнату.
Я кивнула.
– Да, в шкафу с бельем, – ответила я, поднимаясь с постели. Я натянула футболку. Не потому что стеснялась Йеспера, а по старой привычке. Я стеснялась своей большой груди.
Он проводил меня взглядом к шкафу и молча смотрел, как я достала стопку купюр, перемотанную красной салфеткой. «Скоро Рождество» – было вышито крестиком на салфетке.
– Ты с ума сошла? Держать сто тысяч дома в шкафу?
– Да, а что?
– Почему не в банке? Как все нормальные люди.
– А что?
– Тебя же могут ограбить! Или еще хуже. Только старые бабки держат деньги под матрасом.
Я напомнила ему, что унаследовала квартиру именно у такой старушки. Он пожал плечами и рассмеялся.
– Ну ладно. Я их верну. Скоро.
Поцеловав меня в затылок, он обнял меня сзади и накрыл груди руками.
– Я снова хочу тебя, моя богатенькая шлюшка.
Петер
Манфред с невозмутимым видом наклоняется над телом, обводит взглядом аккуратный разрез от груди до пупка, царапины на предплечьях.
– Так она отчаянно сопротивлялась? Судмедэксперт кивает. Фатиме Али сорок лет. Она родом из Пакистана, но училась в США. Мы с ней уже работали несколько раз вместе. Она до абсурдного педантична, как многие ее коллеги по профессии, и всегда аккуратна в выражениях. Я ей доверяю. Она никогда ничего не упускает. И никогда ничего не боится. Ничто не ускользает от ее внимательного взгляда.
– У нее травмы на лице и затылке и восемнадцать порезов на руках и ладонях. Большинство с правой стороны. Значит, нападавший правша.
Фатима наклоняется ниже, раздвигает пинцетом края глубокого пореза на руке, обнажая плоть.
– Смотри, – говорит она. – Глубина пореза говорит о том, что нападавший правша примерно вот такого роста. – Она поднимает руку в голубой перчатке и показывает рост преступника. Манфред инстинктивно отшатывается.
– Можешь сказать, сколько они боролись? – спрашиваю я.
Фатима качает головой.
– Сложно сказать. Но ни один из этих порезов не был смертельно опасным. Она погибла от травмы шеи.
Я смотрю на голову женщины на стойке из нержавеющей стали. Темные волосы в запекшейся крови. Аккуратные брови. Под ними месиво из мяса и костей.
– А что по поводу шеи? – спрашиваю я. Фатима кивает, вытирает лоб тыльной стороной ладони. Жмурится от яркого света.
– Несколько ударов по шее. Даже одного было достаточно, чтобы убить ее, но преступник явно задался целью отделить голову от тела. Позвоночник был разрезан между третьим и четвертым позвонком. Требуется достаточно мощная сила, чтобы сотворить такое. Или упрямство.
– Насколько мощная? – спрашивает Манфред, подходя к ней.
– Сложно сказать.
– Могла бы женщина или слабый человек сделать это? Фатима приподнимает брови и скрещивает руки на груди.
– Кто сказал, что женщины слабые? Манфред переминается с ноги на ногу.