Золотые яблоки Солнца Брэдбери Рэй
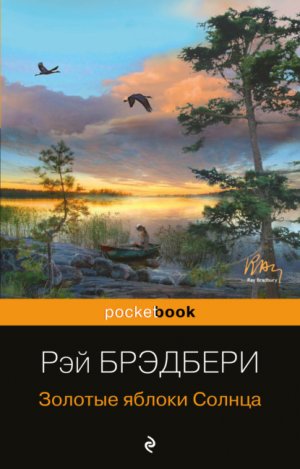
«Дорогая Дженис, если ты решишь прилететь на Марс – это наш дом. Уилл».
Леонора постучала по конверту, и на стойку упала блестящая цветная фотография. На ней был дом – темный, замшелый, древний, золотисто-коричневый, как карамель, уютный, в окружении красных цветов и свежих, зеленых папоротников, с верандой, увитой неприлично разросшимся плющом.
– Дженис, но!..
– Что?
– Это же твой дом, здесь, на Земле, на Элм-стрит!
– Нет. Смотри внимательней.
И они вместе принялись изучать фотографию, на которой за уютным темным домом лежал неземной пейзаж. Почва была со странным фиолетовым оттенком, трава – рыжеватой, небо сверкало, как серый бриллиант, а рядом причудливо горбилось дерево, напоминавшее старуху с кристаллами в седых волосах.
– Вот дом, который Уилл построил для меня на Марсе, – сказала Дженис. – Когда я на него смотрю, мне становится легче. Вчера, когда я оставалась одна, и мне было страшнее всего, я доставала фотографию и смотрела на нее.
Они глядели на темный уютный дом за шестьдесят миллионов миль отсюда, знакомый и все же незнакомый, старый, но новый, где справа в окне гостиной горел свет.
– Уилл молодец, – одобрительно кивнула Леонора, – постарался на славу.
С напитками было покончено. За окном текла необъятная, разгоряченная толпа приезжих, и с летнего неба мерно падали «снежинки».
В дорогу они накупили всякой ерунды: лимонных леденцов, женских глянцевых журналов, флаконов с духами, а потом взяли напрокат пару антигравитационных курток на ремнях, став похожими на мотыльков, пробежались пальцами по чувствительным клавишам и вспорхнули над городом, словно белые лепестки.
– Куда угодно, – сказала Леонора, – все равно куда.
Отдавшись на милость ветра, они летели в жаркой суетной ночи над их милым городом, над цветущими яблонями, над домами, где выросли, и над теми, где бывали, над школами, улицами, ручьями, лугами и фермами – такими родными, что каждое пшеничное зернышко было, как золотая монета. Летели, будто листья в дыхании жаркого ветра, в предвестии летних гроз средь ущелий в горах. Видели, как молочно-белая пыль искрится на дорогах, над которыми не так давно в свете луны они кружили на вертолетах, по спирали спускаясь вниз, к прохладным ночным рекам вместе с любимыми, которых больше не было рядом.
Паря на крыльях в гуле ветра, они плыли над городом, что уже казался им столь далеким там, на земле, растворяясь позади в черной реке, набегая волной света и красок, уже недостижимый, как сон, наполняющий их взгляды тоской, и они отчаянно цеплялись за память о нем, пока он не исчез.
В тихом кружении, незримо они смотрели в лица сотни дорогих друзей, что оставались позади, в свете ночников за окнами, точно влекомые воздушным потоком, но то было дыхание самого Времени, уносившее их прочь. Не осталось ни дерева, которое бы они упустили в поисках старых, вырезанных ножом признаний в любви, ни единой тропинки, над которой не скользили бы они, как над полями искусственного снега. Впервые они узнали, как прекрасен их город, его одинокие фонари, старинные дома из кирпича, и они дивились увиденному, наслаждаясь им. Ночная карусель кружилась под ними, там и тут слышалась музыка и голоса смутно звучали в домах, где призрачно мерцали белые телеэкраны.
Сшивая деревья нитью духов, две женщины проносились меж стволами. Глаза их вбирали в себя так много, и все же они запоминали каждую деталь, каждую тень, каждый одинокий дуб или вяз, каждый автомобиль, проезжавший внизу по извилистым улицам, пока ни глаза, ни разум, ни сердце не переполнились до самого края.
«Я словно умерла, – думала Дженис, – и вот я на кладбище весенней ночью, и все, кроме меня, вокруг живет, все движется, готовое жить дальше, только уже без меня. С тех пор как мне исполнилось шестнадцать, я чувствовала это с каждым приходом весны, проходя мимо кладбища, оплакивая мертвых, ведь в те чудные ночи я была жива, а они – нет, и это было нечестно. Моя вина была в том, что я живу. А сегодня, этой ночью, меня будто забрали из могилы, позволив подняться над городом всего лишь раз, чтобы увидеть, каково это – жить в нем, среди людей, чтобы затем вновь запереть меня за черной дверью.
Тихо, бесшумно, как бумажные фонарики на ночном ветру, женщины плыли над своей прошлой жизнью, над лугами, где сверкали палаточные городки, над шоссе, где до самого рассвета будет полным-полно мчащихся грузовиков, что везут припасы. Долго, долго они плыли над всем этим в вышине.
Часы на здании муниципалитета били без четверти двенадцать, когда они, как паутинки со звезд в лунном свете, коснулись мостовой перед домом Дженис. Город спал, и дом Дженис ждал их, ищущих нейдущий сон.
– Это и вправду мы? – спросила Дженис. – Дженис Смит и Леонора Холмс, и сейчас две тысячи третий год?
– Да.
Дженис облизала сухие губы, выпрямилась.
– Лучше бы это был другой год.
– Тысяча четыреста девяносто второй? Тысяча шестьсот двенадцатый? – вздохнула Леонора, и с ней ветер в кронах деревьев, летящий мимо. – Вечно то День Колумба, то день высадки в Плимутской гавани, а нам, женщинам, что со всем этим делать?
– Остаться старыми девами.
– Или закончить начатое.
Они открыли дверь дома, встречавшего их ночным уютом, и шум города мало-помалу затих. Едва захлопнулась дверь, зазвонил телефон.
– Звонок! – крикнула Дженис на бегу.
Вслед за ней в спальню вошла Леонора, а Дженис уже сняла трубку и говорила: «Алло, алло!» И где-то в далеком городе оператор готовил гигантский аппарат, соединяющий миры, и женщины ждали – одна сидит, вторая склонилась над ней, и на обеих лица нет.
Они ждали долго – падали звезды, текло время; все они ждали так же, как и в минувшие три года. Теперь настал тот миг, когда Дженис должна была звонить сквозь миллиарды миль, мчась среди метеоров и комет, прочь от желтого солнца, что могло сжечь ее слова, испепеляя самую их суть. Но ее голос, будто серебряная игла, пронзал пространство, сшивая его нитью слов в ночной бездне, эхом отражаясь от марсианских лун. И он достиг мужчины, сидевшего в комнате, в городе, там, в другом мире, пять минут ждавшего радиоволн. И она сказала ему:
– Привет, Уилл. Это Дженис!
Она сглотнула.
– Говорят, у меня не так много времени. Всего минута.
Закрыла глаза.
– Не хочу говорить так быстро, но говорят, чтобы я поторопилась. И я хочу сказать тебе, что… решилась. Я полечу туда. Завтра, на ракете. Я столько ждала, а теперь прилечу к тебе. И я люблю тебя. Надеюсь, ты меня слышишь. Я тебя люблю. И так скучаю…
Ее голос летел навстречу иному, невидимому миру. Слова сорвались с губ, она все сказала – и теперь хотела забрать их назад, сказать их иначе, чтобы они звучали красивее, искреннее. Но они уже летели на другую планету, и если космическое излучение каким-то чудом зажгло их, ее любви хватило бы, чтобы осветить дюжину миров, и на той части Земли, что погрузилась в ночь, утро бы настало до срока. Слова принадлежали уже не ей одной, а всему космосу – и в то же время никому, пока летели к цели со скоростью сто восемьдесят шесть тысяч миль в секунду.
«Что он ответит мне? Что скажет за отведенную минуту?» – думала она. Она теребила часы на запястье, а в прижатой к уху трубке слышался треск, и космос говорил с ней пляской разрядов и звуком сияний.
– Что он ответил? – прошептала Леонора.
– Тише! – Дженис согнулась, словно в приступе дурноты.
И через пространство зазвучал его голос.
– Я его слышу! – вскричала Дженис.
– Что он говорит?
Голос, взывавший к ней с Марса, шел сквозь бездну вечной ночи, не знавшей ни рассветов, ни закатов, в центре которой было солнце. И где-то между Марсом и Землей сбился с курса – может, встретил комету на пути, а может, попал под дождь серебристых метеоров. И все лишние, ненужные слова исчезли, оставив лишь одно:
– …люблю…
И вновь настала бесконечная ночь, где слышны были песнь звездного кружения и шепот солнц, и биение ее сердца, еще одного мира в космосе, эхом отдавалось в ее ушах.
– Ты услышала его? – спросила Леонора.
Дженис лишь сумела кивнуть.
– Так что, что он сказал тебе? – кричала Леонора.
Но Дженис никому бы не ответила – слишком чудесно звучало то слово. Вновь и вновь она слышала его в своей памяти. Она долго сидела так и все слушала, не заметив, как Леонора забрала у нее трубку, вернув на рычаг.
Затем они легли в постель, выключили свет, и ночной ветер принес в комнаты запахи долгой дороги во тьме среди звезд; звучали их голоса, говорившие о том, что будет завтра, и в остальные дни – не дни, не ночи в безвременье; и голоса их звучали все тише, пока они не уснули, или просто не смолкли, без сна, и Дженис лежала в постели одна.
«Так ли все было сто с лишним лет назад, – думала она, – когда в ночь перед отъездом женщины лежали вот так, не в силах заснуть, в городишках на Востоке, слыша в ночи лошадей и скрип конестогских повозок, готовых отправиться в путь, и угрюмых волов под деревьями, и плач детей, что остались одни раньше времени? Шум прибытия и отъезда навстречу лесным чащам и полям, и кузнецов, что в полночь трудились среди адского пекла? Запах грудинки и ветчины, припасенных в дорогу; тяжесть вагонов, словно кораблей, чьи трюмы полнились снедью; воды, что будет колыхаться в бочках на степной дороге; истерично кудахтавших кур в клетях под вагонами; собак, что убегали в пустошь впереди, чтобы вернуться со страхом в глазах, отразивших ее? Не так ли все и было тогда, давным-давно? На краю пропасти, на краю звездной бездны. В те времена пахло буйволами, а в наши – ракетами. Ведь все так и было?
И едва сон начал вступать в свои права, как она решила, что да, на самом деле, несомненно – так было, и так будет всегда.
Фрукты на дне вазы
Уильям Эктон поднялся с пола. Часы на камине пробили полночь.
Он осмотрел свои пальцы, всю комнату вокруг и перевел взгляд на того, кто лежал на полу. Эти самые скрюченные пальцы, стучавшие по клавишам печатной машинки, ласкавшие жену и готовившие яичницу с беконом на завтрак, только что помогли Уильяму Эктону задушить человека.
Он никогда бы не подумал, что ему придется стать скульптором, но, снова взглянув на труп, распростертый на блестящем паркете, он вспомнил, как плоть Дональда Хаксли послушно поддавалась его пальцам, как менялось его лицо и тело.
Стоило лишь сжать их покрепче и надавить как следует, и серые глаза Хаксли потускнели, стали холодными и пустыми. Раскрылись губы, такие тонкие и чувственные, обнажились лошадиные зубы курильщика: желтые резцы, потемневшие клыки, моляры в золоте коронок. Некогда розовый, нос весь пошел пятнами, побледнел, обесцветились и уши. Руки Хаксли, столь привыкшие указывать и повелевать, застыли в бессильной мольбе.
Да, это тоже искусство. В целом это пошло на пользу Хаксли. Теперь, когда он мертв, с ним хотя бы можно спокойно поговорить, и он прислушается.
Уильям Эктон снова взглянул на свои пальцы.
Дело сделано. Ничего не вернуть. Слышал ли их кто-нибудь? Он прислушался. Шумела вечерняя улица. Никто не постучался в дверь, не разнес ее в щепы, никаких голосов, требующих ее открыть. Свершилось убийство, теплая глина человеческого тела застыла втайне от всех.
Что теперь? Было за полночь. Все его чувства указывали на дверь. Прочь, прочь, бежать и никогда не возвращаться, сесть на поезд, поймать такси, уйти, убежать, пешком, как угодно, но подальше отсюда!
Его руки плыли и кружились у него перед глазами.
Он медленно повел ими: пальцы были прозрачными, легкими как перышко. «Чего это я так на них уставился?» – спросил он себя. Что в них такого интересного, почему после убийства он все время изучает их, каждый суставчик?
Самые обычные руки. Не полные, не тонкие, не длинные, не короткие, не волосатые, не безволосые, без маникюра, но не грязные, не мягкие, но и не в мозолях, не морщинистые, но и не гладкие: не руки убийцы, но и не руки невиновного. Он смотрел на них, как на чудо.
Впрочем, его интересовали не собственные руки и не пальцы как таковые, а их подушечки. В немом безвременье совершившегося злодеяния лишь они что-то значили.
На камине тикали часы.
Он склонился над телом Хаксли, достав платок из его кармана, и начал методично вытирать его шею. Он яростно скреб ее спереди, затем сзади. Затем он встал.
Посмотрел на шею убитого. На отполированный пол. Медленно склонясь, прошелся платком по паркету пару раз, затем взвыл и принялся протирать пол под головой и руками Хаксли. Затем вокруг всего тела. Затем вытер весь пол на расстоянии ярда от него.
Затем остановился.
На мгновение он увидел весь дом целиком, зеркальные залы, резные двери, великолепную мебель, слово в слово услышал их разговор, состоявшийся час назад.
Палец коснулся кнопки звонка. Хаксли открыл дверь.
– Ого! – Хаксли, похоже, шокирован. – Эктон, ты?
– Где моя жена, Хаксли?
– Так я тебе и сказал. Давай, заходи, не стой на пороге, как идиот. Хочешь поговорить, так проходи. Вон в ту дверь. Сюда. В библиотеку.
Эктон отворил дверь в библиотеку.
– Выпьешь?
– Не помешает. Не могу поверить, что Лили ушла, что она…
– Вон, бутылка бургундского в шкафу. Доставай.
Да, доставай. Возьми ее. Прикоснись к ней. Он взял бутылку.
– Смотри, Эктон, там есть оригинальные издания. Пощупай переплеты.
– Я не книги пришел разглядывать, я…
Он прикасался к книгам, библиотечному столу, к бутылке бургундского и бокалам.
Сидя на полу, у остывшего тела Хаксли, сжимая платок, он уставился на стены вокруг, на мебель, на все, что окружало его, и зрачки его расширились, челюсть отвисла, он замер, ошеломленный увиденным. Он закрыл глаза, уронив голову, сжимая платок, скомкал его, кусая губы, натянул его на голову.
Отпечатки его пальцев были повсюду!
– Принесешь бутылочку бургундского, а, Эктон? Бургундского, а? Ручками, а? Я жуть как устал, понимаешь?
Нужна пара перчаток.
Перед тем как что-то чистить, коснуться чего-нибудь, нужно найти пару перчаток, или он снова оставит улики.
Он спрятал руки в карманы. Прошел через весь дом к стойке для зонтов и шляп. Плащ Хаксли. Он вывернул карманы.
Пусто.
Держа руки в карманах, он пошел наверх, двигаясь осторожно, размеренно. Ошибкой было не надеть перчатки сразу (убивать он не собирался, а потому подсознание ему даже не намекнуло, чтобы он их взял этим вечером), и сейчас он, потея, расплачивался за свою забывчивость. Должна же где-нибудь в доме быть пара перчаток? Надо спешить, ведь даже в этот час кто-нибудь может заявиться к Хаксли. Богатенькие дружки-пропойцы, кричащие, гогочущие приходя и уходя, не здороваясь и не прощаясь. Надо все сделать до шести утра, когда за Хаксли приедут друзья, чтобы отвезти его в аэропорт, на рейс в Мехико…
Эктон суетился наверху, обыскивая шкаф за шкафом, обмотав руку платком. Он выдвинул семьдесят или восемьдесят ящиков, и каждый был, как разинутый рот, и безостановочно рылся в других. Без перчаток он чувствовал себя голым, немощным. Пусть даже он вычистит весь дом этим платком, все, на чем он мог оставить отпечатки, одно неловкое касание там или тут станет роковой печатью! Подписью на его собственном признании! Совсем как в старину, когда чернильные перья скрипели по пергаменту, затем песком сушили чернила, а затем внизу ставили оттиск перстнем на алом сургуче. Всего один-единственный отпечаток, и он погиб! Да, он виновен, но приговор себе подписывать не собирается.
Еще ящики! Тише, соберись, будь внимательнее, повторял он про себя.
Перчатки нашлись на самом дне восемьдесят пятого ящика.
«Боже, боже мой!» – он облокотился на комод, вздохнув. Он примерил перчатки, повертел руками, сгибая и разгибая пальцы, застегнул их. Мягкие, серые, толстые, непроницаемые перчатки. Теперь он что угодно мог делать руками, не оставляя ни следа. Он передразнил свое отражение в зеркале спальной, показав ему нос и причмокнув.
– НЕТ! – вскричал Хаксли.
Как же хитро все задумано.
Хаксли специально упал на пол! Какой извращенный ум! Сначала упал Хаксли, а сверху повалился Эктон. На полу они катались, кувыркались, царапались, и теперь на полу его отпечатки! Когда Хаксли откатился в сторону, Эктон пополз к нему, схватил за шею и выдавил из его глотки весь дух, как пасту из тюбика!
Теперь Уильям Эктон был в перчатках и, вернувшись в комнату, принялся старательно счищать с пола каждое пятнышко, не пропуская ни дюйма. Он начищал пол до тех пор, пока не увидел на нем свое отражение: сосредоточенное, вспотевшее лицо. Затем он подошел к столу, протер его ножку, протер его добротное основание и крышку с ручками ящиков. Добравшись до вазы с фруктами, он начисто вытер все, кроме тех, что лежали на дне.
– Эти я точно не трогал, – сказал он.
За столиком последовала картина, что висела над ним.
– Ее я тоже не трогал, – сказал он.
Он стоял и смотрел на нее.
Потом обвел взглядом все двери в комнате. Какие из них он открывал? Сейчас уже не вспомнить.
Значит, надо все протереть. Начав с ручек, отполировав их до блеска, он вытер все двери снизу доверху, ничего не упустив. Последовала очередь мебели в комнате, вплоть до ручек кресел.
– Ты сейчас, Эктон, сидишь на кресле времен Людовика XIV. Пощупай обивку, – предложил Хаксли.
– Я не ради мебели к тебе пришел, Хаксли! Дело касается Лили.
– Ты серьезно? Забудь о ней, сделай милость. Она ж тебя не любит, ты прекрасно это знаешь. Завтра полетит со мной в Мехико, она сама так сказала.
– Все твои чертовы денежки и твоя чертова мебель!
– Отличная же мебель, Эктон, будь порядочным гостем, потрогай ее.
На обивке тоже могли остаться отпечатки.
– Хаксли! – Уильям Эктон сверлил взглядом труп. – Ты что, догадался, что я хочу убить тебя? Твое подсознание знало, как знало мое? Твое подсознание нашептало тебе пройтись со мной по всему дому, чтобы я трогал все твои книги, посуду, двери и мебель? Неужто ты и впрямь настолько же умный, насколько подлый?
Стиснув платок, он насухо вытер обивку кресел. Вспомнил про тело – его он вытер не так тщательно. Он вернулся к трупу и вычистил его с головы до пят. Даже ботинки теперь сверкали – упустить нельзя ничего.
Пока он занимался ботинками, лицо его омрачалось. Внезапно он встал и направился к столу.
Достал со дна вазы нетронутые фрукты и вытер их.
«Так-то лучше», – прошептал он, возвращаясь к телу.
Едва лишь он присел на корточки, его веки задергались, челюсть задвигалась, и, охваченный сомнениями, он снова вскочил и подошел к столу.
Еще раз прошелся платком по картинной раме.
Полируя ее, взглянул на…
Стену.
«Да ну, – проговорил он, – глупость какая».
«Ох!» – вскрикнул Хаксли, отбиваясь. В пылу борьбы он толкнул Эктона. Эктон упал, поднялся, оперся на стену и вновь бросился на Хаксли. А затем задушил его. Хаксли был мертв.
Эктон резко отвернулся от стены, тщательно обдумав свои действия. Ругательства и все, что он натворил, померкло, скрылось за пеленой. Он взглянул на стены.
«Полная чушь!» – заверил он себя.
Боковым зрением он что-то заметил на одной из стен.
«Незачем мне туда смотреть, – сказал он, чтобы отвлечься. – Пора в другую комнату. Надо быть последовательным. Так, посмотрим: мы были в зале, в библиотеке, в этой комнате, в столовой и на кухне».
На стене у него за спиной было пятнышко.
Или не было?
Он озлился, развернулся. «Ладно, ладно, просто проверю», – проверив, никакого пятна он не нашел. Или нет, вон там есть маленькое. Он вытер его. Пусть это и не было отпечатком. С ним было покончено, и он оперся на стену рукой в перчатке, но стена была и слева, и справа, и над головой, и внизу, и он тихо проговорил: «Нет уж». Осмотрев ее всю вдоль и поперек, он пробормотал: «Это уж слишком». Сколько в ней квадратных футов? «Да черт бы ее побрал», – произнес он. Помимо его воли, пальцы шарили по стене, вытирая ее.
Он оглядел свою руку и обои. Через плечо взглянул на соседнюю комнату. «Надо бы пойти туда и почистить все, что нужно», – сказал он себе, но руки его не слушались, подпирая стену. Лицо его ожесточилось.
В полном молчании он принялся оттирать стену, вверх-вниз, взад-вперед, снова вверх-вниз, так высоко, как мог дотянуться, и так низко, как мог согнуться.
«Господи, чушь-то какая!»
Надо убедиться самому, говорил ему разум.
«Конечно, надо», – отвечал он.
С этой стеной покончено, а теперь…
Другая стена.
«Который час?»
Он посмотрел на каминные часы. Прошел час. Было пять минут второго.
Звонили в дверь.
Эктон замер, посмотрел на дверь, на часы, опять на дверь, потом на часы.
Кто-то барабанил в дверь.
Прошел тягостный миг. Эктон боялся вздохнуть. Без воздуха он ослаб, покачнулся, в голове у него рокотали холодные волны и тяжко бились о скалы.
– Эй, там! – раздался пьяный возглас. – Я знаю, ты дома, Хаксли! Открой, черт тебя дери! Это я, Билли, нажрался и пришел к своему старому собутыльнику Хаксли.
– Убирайся, – беззвучно шептал Эктон, сползая по стене.
– Хаксли, хорош уже, я слышу, ты там дышишь! – кричал пьяница.
– Да, я здесь, – прошептал Эктон, чувствуя себя неуклюже распростертым на полу, безмолвным, холодным. – О, да.
– Черт! – произнес голос, растворяясь в тумане. Звук шагов стихал. – Черт подери…
Эктон долго стоял, чувствуя биение сердца, отдающееся в закрытых глазах и голове. Когда он наконец открыл глаза и взглянул на стену перед собой, то снова обрел дар речи. «Глупости, – процедил он. – Это безупречная стена. Я и пальцем ее не трону. Надо спешить. Надо торопиться. Время, время. Всего несколько часов, и сюда ввалятся его придурковатые дружки!» Он отвернулся.
Краешком глаза он заметил паутинку. Пока он не видел, из деревянных панелей выползли маленькие паучки, плетя еле видимую паутинку. Не на стене слева, нет, ее он отдраил, а на трех остальных. Каждый раз, когда он присматривался к ним, паучки прятались в щелях, чтобы снова появиться тогда, когда он отворачивался.
«Эти стены в порядке. – Он почти кричал. – Я их трогать не стану!»
Он подошел к письменному столу, за которым сидел Хаксли. Выдвинул ящик и нашел то, что искал. Небольшую лупу, которой Хаксли изредка пользовался для чтения. Взяв ее в руку, он осторожно приблизился к стене.
Отпечатки пальцев.
«Но это же не я оставил! – Он нервно усмехнулся. – Не я, я уверен! Слуга, дворецкий, может, горничная!»
Вся стена была испещрена ими.
«Вот этот, – сказал он, – длинный, узкий, бьюсь об заклад, что женский».
«Спорим?»
«Спорим!»
«Точно?»
«Точно!»
«Уверен?»
«Ну да».
«Совершенно?»
«Да, черт возьми, да!»
«Все равно, сотри и его тоже».
«Да стер уже, о господи!»
«Все, нет его больше, а, Эктон?»
«А вот этот, – смеялся Эктон, – какой-то толстяк оставил».
«Ты уверен в этом?»
«Ты опять начинаешь?» – гаркнул он и стер пятно. Стянув перчатку, он рассмотрел свою ярко освещенную дрожащую руку.
«Сюда смотри, придурок! Видишь, какой здесь рисунок? Видишь?»
«Это не доказательство!»
«Ну ладно, смотри!» В ярости он принялся тереть стену вверх-вниз, вперед и назад, руками в перчатках, потел, пыхтел, ругался, наклонялся, вставал, лицо его раскраснелось.
Он стянул с себя плащ и положил его на кресло.
«Уже два часа», – сказал он, расправившись со стеной и взглянув на часы.
Подойдя к вазе, он тщательно протер восковые фрукты, лежавшие на ее дне, положил их на место, протер картинную раму.
Его внимание привлекла люстра наверху.
Его пальцы беспокойно шевелились.
Рот его раскрылся, он облизал губы, посмотрел на люстру, оглянулся, посмотрел на люстру, на труп Хаксли, на хрустальную люстру, на эти капельки радужного стекла.
Он схватил кресло, поставил его под люстрой, занес над ним ногу, тут же убрал ее и, хохоча, швырнул кресло в угол. Затем выбежал из комнаты, оставив одну стену нетронутой.
В столовой ему попался стол.
– Хочу показать тебе грегорианские столовые приборы, Эктон. – говорил Хаксли. Какой у него небрежный, гипнотизирующий голос!
– Некогда мне, – возразил Эктон. – Я пришел к Лили…
– Ерунда, взгляни-ка, как мастерски это сделано!
Эктон задержался у стола со множеством приборов, лежавших в ящичках, и снова услышал голос Хаксли, перебирая в памяти все, чего касался.
Эктон протер все вилки и ножи, снял со стены все подносы и блюда…
– Вот прекрасный образец керамики работы Гертруды и Отто Натцлеров, Эктон. Знакомы ли они тебе?
– Действительно, прекрасный.
– Возьми его. Переверни. Видишь, какая тонкая, ручная работа, не толще яичной скорлупки, просто невероятно. Этот потрясающий вулканический блеск. Взгляни, я не против.
ВОЗЬМИ ЕГО В РУКИ. ДАВАЙ. ПОТРОГАЙ!
Эктон всхлипнул. Запустил вазой в стену. Она разбилась, разлетелась по полу хлопьями осколков.
Мгновение спустя он упал на колени. Нужно найти каждый осколок, даже самый маленький. Дурак, болван, глупец! – ругал он себя, качал головой, зажмуриваясь и открывая глаза, ползая под столом. Ищи их все, тупица, до последнего осколка, на полу не должно остаться ни следа. Болван, глупец! Он собрал их все. А все ли он собрал? Они лежали перед ним на столе. Он еще раз поискал под столом, под стульями, под сервировочным столиком, и рядом с зажигалкой нашел еще один фрагмент и отполировал их все так тщательно, словно это были драгоценные камни. Выложил их в ряд на сияющий чистотой стол.
«Прекрасный образец керамики, Эктон. Давай, возьми его в руки».
Он вытащил все белье и вытер его и вытер начисто стулья, столы, дверные ручки и окна, выступы, занавески, вытер пол, добрался до кухни, задыхаясь, сорвал жилетку, поправил перчатки и принялся драить блестящий хром…
– Я покажу тебе свой дом, Эктон, – приглашал Хаксли. – Пойдем…
И он чистил все столовые приборы, серебряные краны, каждую миску, ведь он уже забыл, чего касался, а чего нет. Здесь, на кухне, Хаксли задержал его и с гордостью демонстрировал свою утварь, скрывая волнение в присутствии потенциального убийцы, а может, хотел, чтобы ножи были под рукой, если вдруг понадобятся. Они стояли здесь, касаясь одного, другого, третьего, уже и не вспомнить, чего именно, – и он, разобравшись с кухней, прошел через зал в комнату, где лежал Хаксли.
И закричал.
Он совсем позабыл о четвертой стене в этой комнате! В его отсутствие паучки вылезли из щелей в этой стене и теперь кишели на тех, что он уже вытер, снова пятная их! На потолке, на люстре, в углах, на полу висел целый миллион паутинок, покачнувшихся от его крика! Такие маленькие, не крупнее, чем – о, какая ирония – его палец!
Он видел, как паутинки оплели картину на стене, вазу с фруктами, тело и пол. На ноже для бумаги, на выдвижных ящиках, на крышке стола, везде и всюду были они, эти узоры.
Он, словно безумный, принялся начищать пол. Перевернул труп и снова протер его, яростно крича, встал, подошел к вазе, достал фрукты со дна и протер их. Поставил стул под люстрой, взобравшись на него, вытер каждую горящую стекляшечку, встряхивая ее, как хрустальные бубенцы, затем отпустил, и она колоколом закачалась под потолком. Соскочив со стула, хватаясь за дверные ручки, он запрыгивал на другие стулья, оттирая стены так высоко, как только мог, убежав на кухню, вернулся со шваброй, сметая паутинки с потолка, вытер фрукты на дне вазы, и тело, и дверные ручки, и столовое серебро, и в зале, увидев балюстраду, взлетел наверх.
Три часа! Всюду, с неумолимой точностью машины, тикали часы! Внизу было двенадцать комнат, и восемь было наверху. Он вычислил их площадь и необходимое время. Сотня стульев, шесть диванов, двадцать семь столов, шесть радиоприемников. Под ними, на них, за ними. Он отодвигал мебель от стен и, всхлипывая, счищал с них лежавшую годами пыль, качаясь, цепляясь за перила, поднимался по лестнице, вытирая все начисто, начищая и полируя, ведь один-единственный отпечаток порождал миллион новых, и пришлось бы все переделывать, а ведь уже пробило четыре! так болели руки, полуослепший, с остекленевшими глазами он блуждал по дому на подгибающихся ногах, и его голова упала на грудь, а руки все еще двигались, терли, чистили, спальню за спальней, шкаф за шкафом…






