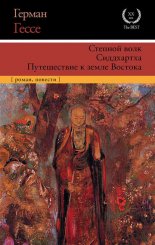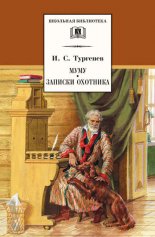Белеет парус одинокий. Тетралогия Катаев Валентин

23. Дядя Гаврик
— Тута!
Гаврик толкнул ногой калитку, и друзья пролезли в сухой палисадник, обсаженный лиловыми петушками. На мальчиков тотчас же бросилась большая собака с бежевыми бровями.
— Цыц, Рудько! — крикнул Гаврик. — Не узнала?
Собака понюхала, узнала и кисло улыбнулась. Зря побеспокоилась. Задрала лохматый хвост бубликом, повесила язык и, часто, сухо дыша, побежала вглубь двора, волоча за собой по высоко натянутой проволоке гремучую цепь.
Из деревянных сеней слободской мазанки выглянула испуганная женщина. Она увидела мальчиков и, вытирая ситцевым передником руки, сказала, обернувшись назад:
— Ничего. Это до тебя братик прийшов.
Из-за спины женщины выдвинулся большой мужчина в полосатом матросском тельнике с рукавами, отрезанными по самые плечи, толстые, как у борца.
Выражение его сконфуженного конопатого лица, покрытого мельчайшими капельками пота, совсем не соответствовало атлетической фигуре. Насколько фигура была сильной и даже как бы грозной, настолько лицо казалось добродушным, почти бабьим.
Подтянув ремешок штанов, мужчина подошел к мальчикам.
— Это Петька с Канатной, угол Куликова поля, — сказал Гаврик, небрежно мотнув головой на приятеля. — Учителя мальчик. Ничего.
Терентий вскользь посмотрел на Петю и уставился на Гаврика небольшими глазками с веселой искоркой.
— Ну, где ж те башмаки, которые я тебе справил на Пасху? Что ты ходишь все равно как босяк с Дюковского сада?
Гаврик печально и длинно свистнул:
— Эге-э-э, где теи башмаки-и-и…
— Босявка ты, босявка!
Терентий сокрушенно покрутил головой и пошел за дом, куда последовали и мальчики.
Тут, к неописуемому восхищению Пети, на старом кухонном столе, под шелковицей, была устроена целая слесарно-механическая мастерская. Даже шумела паяльная лампа. Из короткого дула, как из пушечки, вырывалось сильное обрубленное лазурное пламя.
Судя по детской цинковой ванночке, прислоненной вверх дном к дереву, и по паяльному молоточку в руке у Терентия, можно было заключить, что хозяин занят работой.
— Майстрачишь? — спросил Гаврик, сплевывая совершенно как взрослый.
— Эге.
— А мастерские стоят?
Терентий, как бы не расслышав вопроса, сунул молоточек в пламя паяльника и стал внимательно следить, как он накаляется. При этом он бормотал:
— Ничего, за нас вы не беспокойтесь. Мы себе на кусок хлеба всегда намайстрачим…
Гаврик сел на табуретку и скрючил не достававшие до земли босые ноги.
Он уперся руками в колено и, неторопливо покачиваясь, повел степенный хозяйский разговор со старшим братом.
Морща облупленный носик и сдвинув брови, совсем обесцвеченные солнцем и солью, Гаврик передавал поклон от дедушки, сообщал цены на бычки, с негодованием обрушивался на мадам Стороженко, которая — «такая стерва — держит все время за горло и не дает людям дышать», и прочее в таком же роде.
Терентий поддакивал, осторожно проводя носиком накаленного молоточка по слитку олова, которое от его прикосновения таяло, как масло.
На первый взгляд не было ничего особенного, а тем более странного в том, что брат пришел в гости к брату и разговаривает с ним о своих делах. Однако, если принять во внимание озабоченный вид Гаврика, а также расстояние, которое ему пришлось пройти специально для того, чтобы поговорить с братоном, нетрудно было догадаться, что у Гаврика было важное дело.
Несколько раз Терентий вопросительно поглядывал на брата, но Гаврик незаметно моргал на Петю и продолжал как ни в чем не бывало беседу.
Петя же забыл все на свете, поглощенный волшебным зрелищем паяния. Он не отрываясь следил за движением громадных ножниц, режущих толстый цинк, как бумагу.
Одним из самых увлекательных занятий одесских мальчиков было стоять посреди двора вокруг паяльщика, наблюдая его волшебное искусство. Но там был незнакомый человек, гастролер, фокусник на сцене: быстро и ловко сделал свое дело — запаял чайник, перекинул через плечо свернутые в трубку обрезки жести, подхватил жаровню и пошел себе со двора, крича: «Па-ять, па-а-ачи-нять!..»
А здесь был знакомый, брат приятеля, артист, показывающий свое искусство дома, для избранных. В любой момент можно было спросить у него: «Послушайте, что это у вас здесь в железной коробочке — кислота, что ли?» — и не нарваться на грубый ответ: «Иди, мальчик, откуда пришел. Не мешай человеку паять». Это совсем другое дело.
Петя даже высунул от восхищения язык, что совсем не подобало такому большому мальчику. Вероятно, он так бы никогда и не отошел от стола, если бы вдруг не обратил внимания на девочку с ребенком на руках, подошедшую к шелковице.
Девочка не без труда подняла толстого годовалого ребенка с двумя ярко-белыми зубами в коралловом ротике и поднесла его к Гаврику:
— Посмотри, кто пришел, агу! Гаврик пришел, агу! Скажи дяде Гаврику: «Здравствуйте, дядя Гаврик!»
Гаврик с чрезвычайной серьезностью полез за пазуху и, к безграничному удивлению Пети, извлек оттуда красного леденечного петуха на палочке.
Три часа таскать с собой такое лакомство и не только не попробовать его, но даже не показать — это мог сделать только человек с неслыханной силой воли! Гаврик протянул петуха ребенку:
— На!
— Возьми, Женечка, — засуетилась девочка, поднося ребенка к самому петушку. — Возьми ручкой. Видишь, какого тебе гостинца принес дядя Гаврик. Возьми петушка ручкой. Вот так, вот так. Скажи теперь дяде: «Спасибо, дядечка!» Ну, скажи: «Спасибо, дядечка».
Ребенок крепко держал пухлой замурзанной ручкой лучину с ярким леденцом на конце и пускал крупные пузыри, уставясь на дядю бессмысленно голубыми глазками.
— Видите, это он говорит: «Спасибо, дядечка», — суетилась девочка, не спуская завистливых глаз с лакомства. — Куда же ты тянешь в рот? Подожди, поиграйся сначала. Сначала надо кашку покушать, а тогда уже можно петушка… — продолжала она с благонравной рассудительностью, то и дело бросая быстрые любопытные взгляды на незнакомого красивого мальчика в новых башмаках на пуговичках и в соломенной шляпе.
— Это Петя с Канатной, угол Куликова, — сказал Гаврик, — пойди с ним поиграй, Мотя.
Девочка от волнения даже побледнела.
Прижимая к себе ребенка, она попятилась, глядя исподлобья на Петю, и пятилась до тех пор, пока не прислонилась спиной к отцовской ноге. Терентий погладил дочку по плечику, поправил на ее стриженной под нуль голове беленький чепчик с оборочками и сказал:
— Пойди, Мотя, поиграй с мальчиком, покажи ему те свои русско-японские картины, что я тебе куплял, когда ты лежала больная. Пойди, деточка, а Женечку отдай маме.
Мотя потерлась об отцовскую ногу и задрала вверх лицо, ставшее совершенно красным от конфуза. Ее глаза были полны слез, и в ушах дрожали крошечные бирюзовые сережки.
Петя заметил, что такие сережки чаще всего бывают у молочниц.
— Ничего, деточка, мальчик не будет драться, не бойся.
Мотя послушно отнесла ребенка в дом и вернулась, прямая как палка, со втянутыми щеками, страшно серьезная.
Она остановилась шагах в четырех от Пети и, глотнув как можно больше воздуха, сказала, запинаясь и скосив глаза, неестественно тонким голосом:
— Мальчик, хочете, я вам покажу русско-японские картины?
— Покажь, — сказал Петя тем сиплым, небрежным голосом, каким, по правилам хорошего тона, следовало разговаривать с девочками. При этом он старательно и довольно удачно плюнул через плечо.
— Пойдем, мальчик.
Девочка не без некоторого кокетства повернулась к Пете спиной и, чересчур часто двигая плечами, пошла, подскакивая, вглубь двора, за погреб, где у нее было устроено свое кукольное хозяйство.
Петя вразвалку следовал за ней. Глядя на ее худую шею с ложбинкой и треугольным мысиком волос, мальчик чувствовал такое волнение, что у него подгибались ноги. Конечно, нельзя сказать, чтобы это была страстная любовь. Но в том, что дело кончится серьезным романом, не могло быть никакого сомнения.
24. Любовь
Сказать по правде, Петя уже любил на своем веку многих. Во-первых, он любил ту маленькую черненькую девочку — кажется, Верочку, — с которой познакомился в прошлом году на елке у одного папиного сослуживца. Он любил ее весь вечер, сидел рядом с ней за столом, потом ползал впотьмах под затушенной елкой по полу, скользкому от напдавших иголок.
Он полюбил ее с первого взгляда и был в полном отчаянии, когда в половине девятого ее стали уводить домой. Он даже начал капризничать и хныкать, когда увидел, как все ее косички и бантики скрываются под капором и шубкой.
Он тут же мысленно поклялся любить ее до гроба и подарил ей на прощанье полученную с елки картонажную мандолину и четыре ореха: три золотых и один серебряный.
Однако прошло два дня, и от этой любви не осталось ничего, кроме горьких сожалений по поводу так безрассудно утраченной мандолины.
Затем, конечно, он любил на даче ту самую Зою в розовых чулках феи, с которой даже целовался возле кадки с водой под абрикосой. Но эта любовь оказалась ошибкой, так как на другой же день Зоя так нахально мошенничала в крокет, что пришлось ей дать хорошенько крокетным молотком по ногам, после чего, конечно, ни о каком романе не могло быть и речи.
Потом мимолетная страсть к той красивой девочке на пароходе, которая ехала в первом классе и всю дорогу препиралась со своим отцом, «лордом Гленарваном».
Но все это, разумеется, не в счет. Кто не испытывал таких безрассудных увлечений!
Что же касается Моти, то это совсем другое дело. Помимо того, что она была девочкой, помимо того, что у нее в ушах качались голубенькие сережки, помимо того, что она так ужасно бледнела и краснела и так мило двигала худыми лопатками, — помимо всего этого, она была еще и сестра товарища. Собственно, не сестра, а племянница. Но по возрасту Гаврика — совсем сестренка! Сестра товарища! Разве может быть в девочке что-нибудь более привлекательное и нежное, чем то, что она сестра товарища? Разве не заключено уже в одном этом зерно неизбежной любви?
Петя сразу почувствовал себя побежденным. Пока они дошли до погреба, он влюбился окончательно.
Однако, чтобы Мотя как-нибудь об этом не догадалась, мальчик тут же напустил на себя невыносимое высокомерие и равнодушие.
Едва Мотя вежливо стала ему показывать своих кукол, аккуратно уложенных по кроваткам, и маленькую плиту с всамделишними, но только маленькими кастрюльками, сделанными отцом из обрезков цинка — что, если правду сказать, Пете ужасно понравилось, — как мальчик презрительно сплюнул сквозь зубы и, оскорбительно хихикая, спросил:
— Мотька, чего ты такая стриженая?
— У меня был тиф, — тоненьким от обиды голоском сказала Мотя и так глубоко вздохнула, что в горле у нее пискнуло, как у птички. — Хочете посмотреть картины?
Петя снисходительно согласился.
Они сели рядом на землю и стали рассматривать разноцветные лубочные литографии патриотического содержания, главным образом морские сражения.
Узкие лучи прожекторов пересекали по всем направлениям темно-синее липкое небо. Падали сломанные мачты с японскими флагами. Из острых волн вылетали белые фонтанчики взрывов. В воздухе звездами лопались шимозы.
Задрав острый нос, тонул японский крейсер, весь охваченный желто-красным пламенем пожара. В кипящую воду сыпались маленькие желтолицые человечки.
— Япончики! — шептала восхищенная девочка, ползая на коленях возле картины.
— Не япончики, а япошки, — строго поправил Петя, знавший толк в политике.
На другой картине лихой казак, с красными лампасами, в черной папахе набекрень, только что отрубил нос высунувшемуся из-за сопки японцу.
Из японца била дугой толстая струя крови. А курносый оранжевый нос с двумя черными ноздрями валялся на сопке совершенно отдельно, вызывая в детях неудержимый смех.
— Не суйся, не суйся! — кричал Петя, хохоча, и хлопал ладонями по теплой сухой земле, испятнанной известковыми звездами домашней птицы.
— Не совайся! — суетливо повторяла Мотя, поглядывая через плечико на красивого мальчика, и морщила худой, остренький нос, пестрый, как у Гаврика.
Третья картина изображала того же казака и ту же сопку. Теперь из-за нее виднелись гетры удирающего японца. Внизу было написано:
- Генерал японский Ноги,
- Батюшки,
- Чуть унес от русских ноги,
- Матушки!
— Не совайся, не совайся! — заливалась Мотя, прижимаясь доверчиво к Пете. — Правда, пускай тоже не совается!
Петя, насупившись, густо краснел и молчал, стараясь не смотреть на худенькую голую руку девочки с двумя лоснившимися на предплечье шрамиками оспы, нежно-телесными, как облатки.
Но поздно. Он уже был влюблен по уши.
Когда же оказалось, что, кроме русско-японских картин, у Моти есть еще превосходные кремушки, орехи для игры в «короля-принца», бумажки от конфет и даже картонки, Петина любовь дошла до наивысшего предела.
Ах, какой это был счастливый, замечательный, неповторимый день! Никогда в жизни Петя не забудет его.
Петя заинтересовался, каким образом на ушах держатся серьги, и девочка показала ему проколотые совсем недавно дырочки. Петя даже решился потрогать мочку Мотиного уха, нежную и еще припухшую, как долька мандарина.
Потом они поиграли в картонки, причем Петя начисто обыграл девочку. Но у нее сделалось такое несчастное лицо, что ему стало жалко, и он не только отдал ей обратно все выигранные картонки, но даже великодушно подарил все свои. Пускай знает!
Потом натаскали сухого бурьяна, щепочек и затопили кукольную плиту. Дыму было много, а огня совсем не вышло. Бросили и стали играть в «дыр-дыра», иначе — в прятки.
Прячась друг от друга, они залезали в такие отдаленные, глухие местечки, сидеть в которых одному становилось даже страшновато.
Но зато же жгуче-радостно было слышать осторожное приближение робких шажков, сидя в засаде и обеими руками закрывая рот и нос, чтобы не фыркнуть!
Как дико колотилось сердце, какой неистовый звон стоял в ушах!
И вдруг из-за угла медленно-медленно выдвигается половина бледного от волнения, вытянутого лица с плотно сжатыми губами. Облупленный носик, круглый глаз, острый подбородок, чепчик с оборочками…
Глаза вдруг встречаются. Оба так испуганы, что вот-вот потеряют сознание. И тотчас неистовый, душераздирающий вопль торжества и победы:
— Петька! Дыр-дыра!
И оба лупят во все лопатки — кто скорее? — к месту, где лежит палочка-стукалочка.
— Дыр-дыра!
— Дыр-дыра!
Один раз девочка спряталась так далеко, что мальчик искал ее битых полчаса, пока наконец не догадался перелезть через задний плетень и сбегать на выгон.
Мотя сидела на корточках, полумертвая от страха, в яме, заросшей будяками. Поставив худой подбородок на исцарапанные колени, она смотрела исподлобья вверх, в небо, по которому плыло предвечернее облако.
Вокруг тыркали сверчки и ходили коровы. Было необыкновенно жутко.
Петя заглянул в яму. Дети долго смотрели друг другу в глаза, испытывая необъяснимое жгучее смущение, совсем не похожее на смущение игры.
«Дыр-дыра, Мотька!» — хотел крикнуть мальчик, но не мог вымолвить ни слова. Нет, это уже, конечно, не была игра, а что-то совсем, совсем другое.
Мотя осторожно вылезла из ямы, и они смущенно пошли во двор как ни в чем не бывало, поталкивая друг друга плечами, но в то же время стараясь не держаться за руки.
Тень облака прохладно скользила по бессмертникам городского выгона.
Впрочем, едва они перелезли обратно через плетень, как Петя опомнился.
— Дыр-дыра! — отчаянно закричал хитрый мальчик и кинулся к палочке-стукалочке, чтобы поскорее «задыркать» зазевавшуюся девочку.
Словом, все было так необыкновенно, так увлекательно, что Петя даже не обратил внимания на Гаврка, подошедшего в самый разгар игры.
— Петька, как звать того матроса? — озабоченно спросил Гаврик.
— Какого матроса?
— Который прыгал с «Тургенева».
— Не знаю…
— Ты же еще рассказывал, что его на пароходе как-то там называл тот усатый черт из сыскного.
— Ну да… Ах да!.. Жуков. Родион Жуков… Не мешай, мы играем.
Гаврик ушел озабоченный, а Петя тотчас забыл об этом, всецело поглощенный новой любовью.
Вскоре пришла Мотина мама звать ужинать:
— Мотя, приглашай своего кавалера кулеш кушать, а то они, наверно, голодный.
Мотя сильно покраснела, потом побледнела, стала опять прямая как палка и произнесла сдавленным голосом:
— Мальчик, хочете с нами кушать кулеша?
Только сейчас Петя почувствовал голод. Ведь он сегодня не обедал!
Ах, никогда в жизни не ел он такого вкусного, густого кулеша с твердоватой, упоительно придымленной картошечкой и маленькими кубиками свиного сала!
После этого чудеснейшего ужина на свежем воздухе под той же шелковицей мальчики отправились домой.
С ними пошел в город и Терентий. Он на минутку сбегал в дом и вернулся в коротком пиджаке и люстриновом картузике с пуговичкой, держа в руке тоненькую железную палочку от зонтика, такую самую, с какой обыкновенно гуляли одесские мастеровые в праздник.
— Тереша, не ходи, поздно, — умоляюще сказала жена, провожая мужа до калитки.
Она посмотрела на него с такой тревогой, что Пете почему-то стало не по себе.
— Сиди лучше дома! Мало что…
— Есть дело.
— Как хочешь, — покорно сказала она.
Терентий весело мигнул:
— Ничего.
— Не иди мимо Товарной.
— Спрашиваешь!
— Счастливого.
— Взаимно.
Терентий и мальчики зашагали в город.
Однако это была совсем не та дорога, по которой пришли сюда. Терентий вел их какими-то пустырями, переулками, огородами. Этот путь оказался гораздо короче и безлюднее.
По дороге Терентий остановился возле небольшого домика и постучал в окно. В форточку выглянуло худое, костлявое лицо человека с усами, опущенными на рот.
— Здорово, Синичкин, — сказал Терентий. — Выйди на минуточку. Есть новости.
Затем на улицу вышел в жилете поверх сатиновой рубахи высокий, тощий человек, напоминающий Пете Дон Кихота, про которого он недавно читал.
Терентий и Синичкин пошептались, после чего путь продолжался.
Совершенно неожиданно они вышли на знакомую Сенную площадь. Здесь Терентий сказал Гаврику:
— Я еще сегодня к вам заскочу.
Кивнул головой и исчез в толпе.
Солнце уже село. Кое-где в лавочках зажигали лампы.
Петя ужаснулся: что будет дома!
Счастье кончилось. Наступила расплата. Петя старался об этом не думать, но не думать было невозможно.
Боже, на что стали похожи новые башмаки! А чулки! Откуда взялись эти большие круглые дыры на коленях? Утром их совсем не было. О руках нечего и говорить — руки как у сапожника. На щеках следы дегтя. Боже, боже!
Нет, положительно дома будет что-то страшное!
Ну, пусть бы хоть отлупили. Но ведь в том-то и ужас, что лупить ни в коем случае не будут. Будут стонать, охать, говорить разрывающие душу горькие, но — увы! — совершенно справедливые вещи.
А папа еще, чего доброго, схватит за плечи и начнет изо всех сил трясти, крича: «Негодяй, где ты шлялся? Ты хочешь свести меня в могилу?» — что, как известно, в десять раз хуже, чем самая лютая порка.
Эти и тому подобные горькие мысли привели мальчика в полное уныние, усугублявшееся безумными сожалениями по поводу картонок, так глупо отданных в порыве страсти первой попавшейся девчонке.
25. «Меня украли»
Казалось, никакая сила в мире не могла спасти Петю от неслыханного скандала. Однако недаром у него на голове была не одна макушка, как у большинства мальчиков, а две, что, как известно, является вернейшим признаком счастливчика. Судьба посылала Пете неожиданное избавление.
Можно было ожидать все, что угодно, но только не этого.
Недалеко от Сенной площади, по Старопортофранковской улице, спотыкаясь, бежал Павлик. Он был совершенно один.
По его замурзанному лицу, как из выжатой тряпки, струились слезы. В открытом квадратном ротике горестно дрожал крошечный язык. Из носу текли нежные сопли.
Он непрерывно голосил на букву «а», но так как при этом не переставал бежать, то вместо плавного: «а-а-а-а-а» — получалось икающее и прыгающее: «а! а! а! а! а!»
— Павлик?!
Ребенок увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата.
— Петя, Петя! — кричал он, дрожа и захлебываясь. — Петечка!
— Что ты здесь делаешь, скверный мальчишка? — сурово спросил Петя.
Ребенок вместо ответа стал икать, не в силах выговорить ни слова.
— Я тебя спрашиваю: что ты здесь делаешь? Ну? Негодяй, где ты шлялся? Ты, кажется, хочешь довести меня до могилы. Вот… набью тебе морду, тогда будешь знать!
Петя схватил Павлика за плечи и стал его трясти до тех пор, пока тот не прорыдал сквозь икоту:
— Меня… и!.. Меня ук… украли.
И опять залился слезами.
Что же случилось?
Оказывается, не одному Пете пришла в голову счастливая мысль на другой день после приезда самостоятельно погулять. Павлик тоже давно мечтал об этом.
Он, конечно, не собирался заходить так далеко, как Петя. В его планы входило лишь побывать на помойке да в самом крайнем случае сходить за угол посмотреть, как у подъезда штаба солдаты отдают ружьями честь. Но, на беду, как раз в это время во двор пришел Ванька-Рутютю, иначе говоря — Петрушка. Вместе с другими детьми Павлик посмотрел все представление, показавшееся слишком коротким. Впрочем, распространился слух, что в другом дворе будут показывать больше.
Дети перекочевали вслед за Ванькой-Рутютю в другой двор. Но там представление оказалось еще короче. Оно закончилось тем, что Ванька-Рутютю — длинноносая кукла в колпаке, похожем на стручок красного перца, с деревянной шеей паралитика — убил дубинкой городового. Между тем решительно всем было известно, что потом должно еще обязательно появиться страшное чудовище — нечто среднее между желтой мохнатой уткой и крокодилом — и, схватив Ваньку-Рутютю зубами за голову, утащить его в преисподнюю.
Однако этого-то и не показали. Может быть, потому, что слишком мало падало из окон медяков. Не было сомнения, что в следующем дворе дело пойдет лучше.
Жадно поглядывая на плетеную кошелку с таинственно спрятанными там куклами, дети как очарованные переходили, таким образом, из одного двора в другой вслед за пестрой женщиной, тащившей на спине шарманку, и мужчиной без шапки, с ширмой под мышкой.
Пожираемый непобедимым любопытством, Павлик топал на своих крепеньких ножках в толпе других детей. Высунув язык и широко раскрыв светло-шоколадные глаза с большими черными зрачками, ребенок забыл все на свете: и тетю, и папу, и даже Кудлатку, которую не успел поставить на конюшню и хорошенько накормить овсом и сеном.
Мальчик потерял всякое представление о времени и пришел в себя, лишь заметив с удивлением, что уже вечер и он идет за шарманкой по совершенно незнакомой улице. Все дети давно отстали и разошлись. Он был совсем один.
Пестрая женщина и мужчина с ширмой шли быстро, очевидно торопясь домой. Павлик едва поспевал за ними. Город становился все более незнакомым, подозрительным. Павлику показалось, что мужчина и женщина о чем-то зловеще шепчутся.
Поворачивая за угол, они оба вдруг обернулись, и Павлик с беспокойством увидел во рту у женщины папироску. Ребенка охватил ужас. Ему в голову внезапно пришла мысль, заставившая его задрожать. Ведь было решительно всем известно, что шарманщики заманивают маленьких детей, крадут их, выламывают руки и ноги, а потом продают в балаганы акробатам.
О, как он мог забыть об этом! Это было так же общеизвестно, как то, что конфетами фабрики «Бр. Крахмальниковы» можно отравиться или — что мороженщики делают мороженое из молока, в котором купали больных.
Сомнения нет. Только цыганки и другие воровки детей курят папиросы. Сейчас его схватят, заткнут тряпкой рот и унесут куда-нибудь на слободку Романовку, где будут выворачивать руки и ноги, превращая в маленького акробата.
С громким ревом Павлик бросился наутек и бежал до тех пор, пока неожиданно не наткнулся на Петю.
Задав братику основательную трепку, Петя торжественно приволок его за руку домой, где уже царила полнейшая паника. Дуня, свистя коленкоровой юбкой, носилась по соседним дворам. Тетя натирала виски карандашом от мигрени. Папа уже надевал летнее пальто, чтобы идти в участок заявлять о пропаже детей.
Увидев Павлика целым и невредимым, тетя бросилась к нему, не зная, что делать — плакать или смеяться.
Она заплакала и засмеялась в одно и то же время. Потом под горячую руку хорошенько отшлепала беглеца. Потом обцеловала всю его зареванную мордочку. Потом опять отшлепала. И только после этого обратила грозное лицо к Пете:
— А ты, друг мой?
— А ты где шлялся, разбойник? — закричал отец, хватая мальчика за плечи.
— Искал Павлика, — скромно ответил Петя. — По всему городу бегал, пока не нашел. Скажите спасибо. Если б не я, его бы уже давно украли.
И Петя тут же рассказал великолепную историю, как он гнался за шарманщиком, как шарманщик убегал от него через проходные дворы, но как он все-таки его схватил за шиворот и стал звать городового. Тогда шарманщик испугался и отдал Павлика, а сам все-таки удрал.
— А то б я его в участок посадил, истинный крест!
Хотя Петин рассказ, против ожидания, не вызвал ни в ком ни малейшего восторга, а папа даже с отвращением зажмурился, сказав: «Как не стыдно языком молоть… Ведь уши вянут!» — однако ничего не поделаешь: не кто другой, а именно Петя привел домой пропавшего Павлика. Благодаря ему Петя и вышел сухим из воды, избавившись от неслыханного скандала.
На то он, видно, и был счастливчиком с двумя макушками!
…Тем временем Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку и матроса в большом волнении. Оказывается, совсем недавно, только что, к ним заходила какая-то комиссия из городской якобы управы проверять разрешение на рыбную ловлю. Бумаги оказались в исправности.
— А это у тебя кто лежит? — спросил вдруг господин с портфелем, заметив матроса.
Дедушка замялся.
— Больной, что ли? Если больной, то что ж ты его не отведешь в больницу?
— Не, — сказал дедушка, напуская на себя веселое равнодушие, — он не больной, а только пьяный.
— А, пьяный! Сын, что ли?
— Не.
— Чужой?
— Я же вам говорю, ваше благородие: пьяный!
— Я понимаю, что пьяный, да откуда он у тебя?
— Как это — откуда? — забормотал дедушка, прикидываясь совсем выжившим из ума стариком. — Ну, пьяный и пьяный, известное дело. Валялся в бурьяне, и годи!