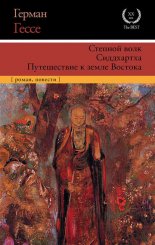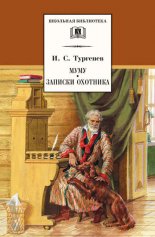Белеет парус одинокий. Тетралогия Катаев Валентин

Наконец торг состоялся, и, отпустив рыбу, торговка высыпала в кошель деньги.
Гаврик терпеливо дожидался, когда его заметят. Но торговка, хотя давно увидела мальчика, продолжала делать вид, что не замечает его.
Таков был базарный обычай. Кому нужны деньги, тот пусть и ждет. Ничего. Не сдохнет — постоит.
— Кому свежей рыбы? Живые бычки! Камбала, камбала, камбала! — закричала торговка, передохнув, и вдруг, не глядя на Гаврика, сказала: — Ну? Покажь!
Мальчик открыл дверцу садка и придвинул его к торговке.
— Бычки, — сказал он почтительно.
Она запустила в садок пятерню и проворно вытащила несколько бычков; посмотрела на них вскользь и уставилась на Гаврика круглыми глазами, черными и синими, как виноград «изабелла».
— Ну? Где ж бычки?
Гаврик молчал.
— Я тебя спрашиваю: где бычки?
Мальчик в тоске переступил с ноги на ногу и скромно улыбнулся, желая превратить неприятный разговор в шутку.
— Так вот же бычки, тетя. У вас в руках. Что вы, не видите?
— Где бычки? — закричала вдруг торговка, делаясь от гнева красной, как свекла. — Где бычки? Покажи мне где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бычки, а воши! Тут разве есть, что жарить? Тут даже нет, чего жарить! Что вы мне все носите мелочь и мелочь! Носите жидам мелочь!
Гаврик молчал.
Конечно, нельзя сказать, что бычки были крупные, но, уж во всяком случае, и не такая мелочь, как кричала торговка. Однако возражать не приходилось.
Окончив кричать, торговка совершенно спокойно принялась перекладывать бычки из садка в свою корзину, ловко отсчитывая десятки. Ее руки мелькали так быстро, что Гаврик не успевал следить за счетом. Ему казалось, что она хочет его обдурить. Но не было никакой возможности проверить. В ее корзине лежали другие бычки.
Поди разберись!
Гаврика охватил ужас. Он вспотел от волнения.
— Для ровного счета две с половиной сотни, — сказала торговка, закрывая корзинку рогожкой. — Забирай садок. До свиданья. Скажешь деду, что с него еще остается восемьдесят копеек. Чтоб он помнил. И пускай больше не присылает мелочь, а то не буду брать!
Мальчик остолбенел. Он хотел что-то сказать, но горло сжалось.
А торговка уже кричала, не обращая на него ни малейшего внимания:
— Камбала, камбала, камбала! Бычки, бычки, бычки!
— Мадам Стороженко, — наконец с большим трудом выговорил мальчик, — мадам Стороженко…
Она нетерпеливо обернулась:
— Ты еще здесь? Ну?
— Мадам Стороженко… сколько же вы даете за сотню?
— Тридцать копеек сотня, итого семьдесят пять копеек, да вы мне остались один рубль пятьдесят пять, значит, еще с вас восемьдесят. Так и скажешь дедушке. До свиданья.
— Тридцать копеек сотня!
Гаврику хотелось кричать от обиды и злости. Дать бы ей изо всей силы кулаком в морду, так чтоб из носа потекла юшка. Обязательно чтоб потекла. Или укусить…
Но вместо этого он вдруг заискивающе улыбнулся и проговорил, чуть не плача:
— Мадам Стороженко, вы же всегда давали по сорок пять…
— Скажите спасибо, что даю за такую рвань по тридцать. Иди с богом!
— Мадам Стороженко… Вы же сами торгуете по восемьдесят…
— Иди, иди, не морочь голову! Мой товар. По сколько надо, по столько и торгую. Ты мне можешь не указывать… Камбала, камбала, камбала!
Гаврик посмотрел на мадам Стороженко. Она сидела на своей детской скамеечке — громадная, неприступная, каменная.
Он мог бы ей сказать, что у них с дедушкой совершенно нет денег, что надо обязательно купить хлеба и мяса для наживки, что требуется всего-навсего копеек пятнадцать — двадцать, — но стоило ли унижаться?
В мальчике вдруг заговорила рыбацкая гордость.
Он вытер рукавом слезы, щипавшие облупленный носик, высморкался двумя пальцами в пыль, вскинул на плечо легкий садок и пошел прочь своей цепкой, черноморской походочкой.
Он шел и думал, где бы раздобыть мяса и хлеба.
14. «Нижние чины»
Хотя, как мы это видели, жизнь Гаврика была полна трудов и забот, совершенно как у взрослого человека, все же не следует забывать, что он был всего лишь девятилетний мальчик.
У него были друзья и приятели, с которыми он охотно играл, бегал, дрался, ловил воробьев, стрелял из рогатки и вообще занимался всем тем, чем занимались все одесские мальчики небогатых семейств.
Он принадлежал к категории так называемых «уличных мальчиков», а потому знакомства у него были обширные.
Никто не мешал ему ходить по любым дворам и играть на любой улице. Он был свободная птица. Весь город принадлежал ему.
Однако и у самой свободной птицы есть свои особо излюбленные места. Гаврик обосновался главным образом в районе приморских улиц Отрады и Малого Фонтана. Здесь он безраздельно царил среди прочих мальчиков, со страхом и восхищением взиравших на его независимую жизнь.
Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один — Петя.
Проще всего было бы пойти к Пете и посоветоваться насчет хлеба и мяса. Конечно, денег у Пети не было, особенно таких больших, как пятнадцать копеек. Об этом нечего и думать. Но Петя мог бы утащить на кухне кусочек мяса и достать в буфете хлеб.
Гаврик был один раз у Пети в гостях на прошлое Рождество и прекрасно знал, что у них есть буфет, где лежит много хлеба, на который никто не обращает внимания. Так что ничего не стоит вынести хоть полбатона. Там у них с этим не считаются.
Вся же беда заключалась в том, что не было известно, приехал ли Петя из экономии. Пора бы уже, кажется, приехать. Несколько раз в течение лета заходил Гаврик к Пете во двор узнавать, как дела. Но Пети все не было и не было.
В прошлый раз их кухарка Дуня сказала, что скоро вернутся. Это было дней пять тому назад. Может быть, уже приехали?
С привоза Гаврик отправился во двор к Пете. Благо недалеко: прямо против вокзала — Куликово поле, угол Канатной, рядом со штабом — большой, четырехэтажный дом, прекрасно приспособленный для хорошей жизни.
Во-первых, он был незаменим для уличных сражений, так как в нем было двое ворот. Одни выходили на Куликово поле, или попросту Кулички, а другие — на великолепнейший пустырь, с кустарником, с норками тарантулов и, правда, небольшой, но зато исключительно богатой помойкой.
Там, если хорошенько порыться, всегда можно было набрать массу полезных предметов — от аптекарского пузырька до мертвой крысы.
Петьке повезло. Не у каждого мальчика рядом с домом такая помойка!
Во-вторых, мимо дома бегали маленькие дачные поезда с паровичком-кукушкой. Так что, для того чтобы положить под колеса петарду или камень, не нужно было далеко ходить.
В-третьих, соседство штаба. Там, за высокой каменной стеной, выходящей на полянку, находился таинственный мир, днем и ночью охраняемый часовыми. Там шумели машины штабной типографии. Ветер переносил через забор вороха удивительно интересных обрезков: лент, полосок, бумажной лапши.
На полянку же выходили и окна писарских квартир. Взобравшись на камень, можно было заглянуть через решетку и посмотреть, как живут писаря, эти в высшей степени красивые, важные и молодцеватые молодые люди в длинных офицерских брюках, но в солдатских погонах.
О писарях было достоверно известно, что они самые обыкновенные «нижние чины», то есть те же солдаты. Но какая громадная разница была между ними и солдатами! Может быть, за исключением квасников, писаря были самыми элегантными и нарядными красавцами в городе.
Горничные из соседних домов при виде писаря дрожали и бледнели, каждую минуту готовые упасть в обморок. Они нещадно палили себе виски и волосы щипцами, пудрили нос зубным порошком и румянили щеки конфетной бумажкой. Но писаря не обращали на них внимания.
Если для любого одесского солдата горничная была существом недоступным и высшим, то для писаря это была не больше как «деревенщина», недостойная даже взгляда.
Писаря одиноко и меланхолично сидели на железных койках у себя за решеткой и, сняв мундиры, тихонько наигрывали на гитарах. Были они в длинных брюках с высоким красным стеганым корсажем и в чистых сорочках с черным офицерским галстуком.
Если же в воскресенье вечером писарь появлялся на улице, то непременно под ручку с двумя модистками в высоких прическах валиком.
Писаря были неслыханно богаты. Гаврик собственными глазами видел, как однажды писарь ехал на извозчике.
И все же, как это ни странно, писаря были всего только «нижние чины». И Гаврик собственными глазами видел, как однажды на углу Пироговской и Куликова поля генерал с серебряными погонами бил писаря по зубам, крича грозным голосом:
— Как стоишь, каналья? Как-к с-с-стоишь?
И писарь, вытянувшись и мотая головой, с вылупленными, как у простого солдата, светлыми крестьянскими глазами, бормотал:
— Виноват, ваше превосходительство! Последний раз!
Вот это двойственное положение и делало писарей существами странными, прекрасными и вместе с тем жалкими, как падшие ангелы, сосланные в наказание с неба на землю.
Была также очень интересна и жизнь простых караульных солдат, помещавшихся рядом с писарями.
У солдат тоже было два естества.
Одно — это когда они стояли попарно, в полной караульной форме с подсумками, у алебастрового штабного подъезда, каждую минуту лихо вытягиваясь и делая по-ефрейторски «на краул», то есть отводя немного в сторону хорошо смазанный салом штык, перед входящим или выходящим офицером.
Другое естество было простое, домашнее, крестьянское, когда они сидели в казарме, пришивая пуговицы, чистя сапоги ваксой или играя в шашки, а по-ихнему — «в дамки».
На окнах у них вечно сушились миски и деревянные ложки, лежало много объедков черного солдатского хлеба, которые они охотно отдавали нищим.
С мальчиками они разговаривали также охотно, но задавали такие вопросы и произносили такие слова, что у мальчиков горели уши и они в ужасе разбегались.
Оба двора, покрытые асфальтом, как нельзя лучше подходили для игры в классы. По асфальту можно было превосходно чертить углем и мелом клетки с цифрами. Гладкие морские камешки скользили замечательно.
Если же дворник, выведенный из терпения детским гвалтом, выгонял игроков метлой, очень удобно было тотчас перейти на другой двор. Кроме того, в доме имелись чудесные таинственные подвалы с дровяными сараями. Прятаться в этих сараях среди дров и различной рухляди, в пыльной сухой тьме, в то время как на дворе яркий день, было неописуемым блаженством.
Одним словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях был превосходный.
Гаврик вошел во двор и остановился под окнами Петиной квартиры, находившейся на втором этаже.
Двор, рассеченный наискось резкой, полуденной тенью, был совершенно пуст. Ни одного мальчика! Очевидно, все или в деревне, или на море.
Большинство окон закрыто ставнями. Знойная, полуденная, ленивая тишина. Ни звука.
Только откуда-то издалека — может быть, даже с Ботанической улицы — слышатся урчанье и выстрелы раскаленной сковородки. Судя по запаху, где-то жарится кефаль на подсолнечном масле.
— Петя! — закричал Гаврик вверх, приложив ко рту ладошки.
Молчание.
— Пе-еть-ка!
Ставни закрыты.
— Пе-е-е-е-тька-а-а-а!!
Форточка в кухне отворилась, и выглянула повязанная белым платком голова кухарки Дуни.
— Еще не приехали, — быстро сказала она обычную фразу.
— А когда приедут?
— Ожидаем сегодня вечером.
Мальчик сплюнул и растер ногой. Помолчал.
— Слушайте, тетя, как только он приедет, скажите, что Гаврик приходил.
— Слушаюсь, ваше благородие.
— Скажите, что я завтра утречком зайду.
— Свободно можешь не заходить. Нашего Петю теперь в гимназию будут отдавать. Так что — до свиданья всем вашим шкодам.
— Ладно, — хмуро буркнул Гаврик, — вы только, главное, скажите. Скажете?
— Скажу, не плачь.
— До свиданья, тетя.
— До свиданья, прекрасное созданье.
Как видно, самой Дуне до такой степени надоело летнее безделье, что она даже снизошла до шутливого разговора с маленьким босяком.
Гаврик подтянул штаны и побрел со двора.
Плохо дело! Как же теперь быть?
Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на Ближние Мельницы. Но, во-первых, эти Ближние Мельницы бог знает где — туда и обратно часа четыре, не меньше. А во-вторых, после беспорядков еще неизвестно, дома ли Терентий. Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам «сидит на дикофте», то есть самому нечего есть.
Что ж понапрасну бить ноги — не казенные!
Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо казармы, заглянул в окна к солдатам.
Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце.
Мухи ползали по черным губчатым кускам с каштановой, даже на вид кисленькой коркой.
Гаврик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия.
Он помолчал и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал грубо:
— Дядя, дайте хлеба!
Но тут же спохватился, подобрал садок и пошел дальше, показав солдатам щербатую улыбку:
— Та нет, я так! Не надо.
Но солдаты сгрудились на подоконнике, крича и свистя мальчику:
— Эй! Псс! Куда побёг? Вертай назад!
Они протягивали ему через решетку куски хлеба:
— Бери! Не бойсь!
Он нерешительно остановился.
— Подставляй рубаху!
В их криках и шуме было столько веселого добродушия, что Гаврик понял: не будет ничего унизительного, если он возьмет у них хлеб. Он подошел и подставил рубаху.
Полетели куски.
— Ничего, поешь нашего солдатского, казенного! Приучайся!
Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили еще порядочно вчерашней каши.
Мальчик аккуратно уложил все это в садок и, провожаемый крепкими шутками насчет действия на живот солдатской пищи, отправился домой помогать дедушке чинить перемет.
К вечеру они снова вышли в море.
15. Шаланда в море
Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя.
Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приема стянул пиджак, тяжелый от воды, как чугун.
Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног.
Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света.
Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем.
Матрос яростно нога об ногу сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высовываясь из волны по плечи.
Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и схватил сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рвал его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами и проклиная все на свете.
Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошел легче.
Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался.
Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду.
Он почти не спал двое суток, прошел пешком верст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато. Впрочем, может быть, оттого, что быстро наступал вечер.
Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то хотя и глянцевитой, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти черной в глубине.
Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звездочкой.
Значит, в той стороне берег, и туда надо плыть.
На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали. Но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось все труднее.
Иногда ему казалось, что он теряет сознание. Иногда начинало тошнить. А то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его.
Раньше с ним этого никогда не бывало. Похоже на то, что он заболел.
Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жесткими, что кололи голову.
Вокруг не было ни души.
Вверху в пустом вечереющем воздухе пролетел мартын на толстых крыльях и сам толстый, как кошка. В длинном, изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку.
Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвется сердце, и он пойдет ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы.
Вдруг он услышал нежный всплеск весел и немного погодя увидел почти черный силуэт шаланды.
Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал ее и успел схватиться за высокую корму.
Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в шаланду.
— А ну, не балуйся! — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом.
Появление этой головы нисколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами.
Иные из них, случалось, заплывали версты за три, за четыре от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов.
Но уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам! А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы.
— А ну, не валяй дурака, отцепляйся! А то сейчас веслом как двину!..
И мальчик для пущей острастки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь как это делал в подобных случаях дедушка.
— Я… больной… — задыхаясь, сказала голова.
Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи.
Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец: пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают.
— Ты что, тонул?
Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке.
Гаврик и дедушка побросали весла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжелое тело в шаланду.
— Ух ты, какой горячий! — сказал дедушка, переводя дух.
Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим, болезненным жаром.
— Дядя, хочете напиться? — спросил Гаврик.
Матрос не ответил. Он только бессмысленно повел глазами с мутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом.
Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило.
Голова упала и стукнулась о банку.
Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился.
Дедушка покрутил головой:
— История!..
— Дядя, откуда вы? — спросил мальчик.
Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил ее в бессилии.
— Ой, ну его к черту! — пробормотал он неразборчивой скороговоркой. — Не показывайте меня людям… Я матрос… сховайте где-нибудь… а то повесят… ей-богу, правда… святой истинный…
Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку. Хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам прошла поволока.
И он опять потерял сознание.
Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего — знать да помалкивать.
Они осторожно положили матроса на решетчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на весла.
Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчетом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже, прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было.
Стояла теплая, глубокая тьма, полная сверчков и звезд.
Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька.
Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости.
Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что все в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая.
Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал:
— Идти можете?
Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик.
— Потихонечку, потихонечку, — приговаривал дед, поддерживая матроса за спину.
— Тут недалеко, дядя… два шага…
Они наконец поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орет песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки.
Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку.
Дедушка заложил окошечко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажег маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче.
Лампочка стояла в углу, на полке, покрытая старой газетой.
Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтоб не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной серой соли, в большой синей раковине мидии — словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство.
Старая, до черноты закопченная икона святого Николая-чудотворца — покровителя рыбаков, прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма.
Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились легкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живет, дышит…
Давно уже дедушка не верил ни в бога, ни в черта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла. А в Николая-чудотворца верил.
Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжелом и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла.
Но, по правде сказать, последнее время чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, чудотворец — ничего, помогал. Был от чудотворца в хозяйстве кое-какой толк. Но чем старее становился дед, тем меньше было толку и от святого.
Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днем убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец — рыба пойдет мелкая, никудышная… И нечего от человека требовать.
Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности.
Все же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть-пить он не просит, висит в углу смирно. Ну да уж пусть висит: авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу.