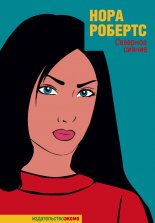Крест и посох Елманов Валерий

Евстафий же, сын Константинов, хоть и младень летами бысть, одначе о ту пору показаша всему люду резанскому разум свой здравый. И ходиша в поруб ко отцу своему с единою мыслию — како батюшку-князя из желез вынути.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1760.
Пожалуй, случай со Святославом, сыном князя Константина, стал последним, когда крестильное имя упоминалось только изредка и исключительно в летописях. В остальной же литературе встретить имя Евстафий, а именно так нарекли в христианстве Святослава, невозможно. В этом усматривается немалое влияние отца, который имел себе кумиром одного из первых Рюриковичей, и, назвав своего сына его именем, очевидно, мечтал, что тот будет достоин его славы.
Будущее покажет, что Константин серьезно ошибался, но, во всяком случае, твердость характера и целостность натуры его сын сумел проявить уже в детстве, в тот памятный год, когда его отец оказался в плену.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности.Т. 2. С. 120. СПб., 1830.
Глава 11
Любитель хороводов
В. Гюго.
- С тех пор, как справедливость пала,
- И преступленье власть забрало…
Они почти столкнулись нос к носу у крыльца княжеского терема. Слева ухватился за перила еще не старый, но очень сильно взволнованный чем-то священник с простым добрым лицом, одетый как и подобает лицу духовного звания, то есть в черную, слегка запылившуюся рясу с простым крестом на груди. Судя уже по одной левой руке, лежащей на гладкой желтой балясине перил, можно было сразу же сделать вывод, что крестьянский труд знаком этому человеку далеко не понаслышке. Если же присмотреться чуть повнимательнее, то вполне определялись и сроки окончания его трудовой деятельности — не далее как прошлая зима. Сопровождал его эскорт из двух вооруженных дружинников, изрядно потрепанных в стычке, произошедшей совсем недавно.
Обгоняя их, даже не поднимая больших черных ресниц, совершенно закрывающих глаза, на первую ступеньку лестницы легко, почти воздушно вспорхнула совсем еще юная деваха. Небольшая смуглость кожи лишь придавала своего рода законченность всему ее задорному виду, которому никак не соответствовало чересчур серьезное, сумеречное выражение лица. Вся она была как ветер, вся в движении, и даже небрежно накинутый узорчатый платок, кое-как прикрывающий копну волос цвета вороньего крыла, издали отдаленно напоминал парус, волнуемый легким дыханьем встречного ветра. Когда она поднимала свою худенькую ножку, занося ее на очередную ступеньку, то из-под сарафана выглядывали не только ее кокетливые сапожки синего сафьяна с узенькими носочками, но и вытачанный на внешней стороне каждого из голенищ нехитрый цветок. За образец неведомым мастером была явно взята самая обычная луговая ромашка, вот только на сапогах она поменяла свой естественный цвет и превратилась в яркоалую. Небольшой узелок в правой руке, судя по легкости, с которой она его несла, особой тяжести не составлял и общей картины не портил.
Оба они были столь сильно заняты какими-то думами, что даже не взглянули друг на друга. Первый, да и то мимолетный взгляд девушка бросила на священника, лишь возвращаясь, когда ее бесцеремонно выпихнул назад на лестницу рябой дружинник.
— А я говорю, нет Глеба Володимировича и все. Ишь ходят тут всякие, а вчера глянули, ан бронь дедову у князя нашего утянули. Известно, вещь дорогая, каждый мог стянуть. Тоже, поди, какие-нибудь калики перехожие татьбу эту и учинили.
— Где же он? — упрямилась девушка, не желая просто так поддаваться грубому нажиму парня.
— Где, — передразнил рябой и неожиданно для себя смилостивился, пояснил: — Ждать надо. Час назад по порубам пошел. Проведать, стало быть, как воры и тати поживают.
— И сколь ждать? — не отставала шустрая деваха.
— Ну, изрядно. Он быстро оттуда не возвращается.
— Тогда я прямо тут и обожду, — заявила бойкая девица, тут же усевшись на самую верхнюю ступеньку.
Такая наглость парню не понравилась, и он легонько, но с достаточной силой, подпихнул ее сапогом:
— Чай, не лавка тебе. Вон спускайся и на приступок садись, ежели желаешь.
Девушка пошатнулась и обязательно упала бы, если бы не один из вооруженных дружинников, спокойно поднимавшийся наверх и успевший не только ловко подхватить девушку, но и на один короткий миг крепко прижать к своей груди.
Впрочем, он тут же смущенно выпустил ее и, виновато улыбнувшись, посоветовал:
— Ступеньки крутехоньки, так что ты, лапушка, поостерегись порхать так резво.
— Лапушка у гуся в подружках ходит, — зло огрызнулась девица, настроенная почему-то непримиримо враждебно и с явным намерением поругаться, причем все равно с кем.
— Вот тебе и раз, — опешил от неожиданной агрессии дружинник, а рябой парень, стоящий на верхнем крыльце, весело захохотал, заметив восхищенно:
— Ну не язык, а сабля вострая, — и, уже закончив веселиться, не преминул ободрить отчаянную девку: — Так его, красавица. А то он привык, что баской[40] на рожу, да цельными днями только баб и щупает. — И вновь заливисто и гулко захохотал.
— А ты тоже не больно-то здесь, — обратилась уже к рябому парню девка. Дружинник молчал, глядя на нее во все глаза, а ей очень хотелось услышать острое ответное словцо, чтобы соперник показал себя тоже умеющим не лезть за словом в карман, или, правильнее будет сказать, в калиту, поскольку до карманов мысль человека в ту пору еще не додумалась.
— Сейчас стадо кобылиц из конюшен княжьих прискачет, небось, по-иному запоешь, — злорадно сообщила она рябому.
— Как кобылиц? Как так из конюшен? Зачем? — не понял тот.
— Да ржешь ты зазывно, как жеребец стоялый. Они ужо давно, поди, услыхали, стало быть, вот-вот прискачут.
— А вот я спущусь к одной языкатой да укорочу малость то, чем она стрекочет без конца, — пригрозил рябой, но спускаться не пожелал.
— Нетушки. Лучше расплющь его, на это я согласна, — прищурившись, не заставила она себя ждать с ответом.
— Да я бы вмиг, только за молотком идти лень, — продолжил рябой словесную дуэль.
— А голова на что? — лениво протянула девка. — Ею и долби. Все равно она у тебя более ни на что не годна.
— Вот дурная баба, — с восхищением выдохнул парень и пояснил: — А есть-то я чем же буду? Опять же шапку таскать на чем?
— Так ты ею уже стукал, и ничего не стряслось, — не унималась она. — Вон какие гвозди железные вбивал, аж следы по всей морде остались.
Явный намек на ямочки от оспин, и впрямь усыпавшие все лицо, всерьез разозлил рябого, а тот уже вознамерился спуститься и впрямь задать трепку не в меру говорливой девке. Но тут еле приметная тяжелая дверь, расположенная очень низко, у самой земли, с тягучим скрипом медленно отворилась, и из нее вышел невысокий худощавый человек, одетый во все черное, включая сапоги. Лишь алого сукна корзно, в которое он, невзирая на жаркое июльское солнце, зябко кутался, оставалось единственным, радующим глаз исключением из хмурого темного одеяния.
Следом за ним вынырнул здоровенный детина с одутловатым, мучнисто-белым жирным лицом и принялся тут же запирать дверь на засовы, вдевая в дужку каждого по огромному, с полпуда весом, висячему замку и сноровисто запирая их столь же огромными ключами.
— Вот видишь, какое подлое создание — человек. Ни единому верить нельзя, — обратился человек в алом корзне к детине, продолжавшему возиться с замками. — Он же брат мой единокровный, которого я выкормил, выпестовал, вынянчил, и туда же — лжа голимая на каждом слове.
Людей, разом умолкших при его появлении, он то ли не хотел замечать, то ли и впрямь не обратил еще внимания на их присутствие. Способствовало этому и их расположение. Трое, включая дружинника, языкастую девку и рябого, находились на крутой лестнице, намного ближе ко второму этажу терема, куда ока и вела, нежели к первому; оставшиеся двое — священник и второй дружинник, стояли хоть и на земле, но за лестницей, примостившись так, чтобы она защищала иx своим дощатым полом от палящих солнечных лучей, которые безжалостно разили все вокруг с исключительным демократизмом, то есть уделяя князю, равно как и боярину с дружинником, ровно столько же жара, сколь и простому смерду.
Вновь зябко поежившись и глядя в противоположную от лестницы сторону, на распахнутые настежь главные ворота и улицу, вид на которую открывался сразу за ними, он продолжил свою жалобу:
— Ведь только прошлую осень, медку подвыпив, он мне клятву давал, что деда этого из дубравы выкорчует и саму ее спалит, место игрищ бесовских. Ей-ей сам обещал. И никто его за язык не тянул. А епископ Арсений, который по соседству сидел, тоже все это слышал.
Детина, продолжая возиться с упрямым нижним замком, в котором никак не хотел проворачиваться непослушный ключ, молча кивал в ответ, но жалобщику этого вполне хватало для продолжения своего монолога:
— А ныне ты видел? Нет, ты видел на груди у него эту штуковину, отвечай? — гневно обратился он к детине, крепко зажав в руке какую-то маленькую деревянную фигурку грубоватой работы, неведомо кого изображающую. Секундой раньше он жестом фокусника извлек эту штуковину из недр своего плаща и теперь помахивал ею, держась за кожаный шнурок, тянувшийся с двух сторон из самой головы фигурки.
— Видел, княже. Вместе ведь видели, — пропыхтел, наконец, детина, осознав, что на сей раз простого кивка его собеседнику недостаточно и надо присовокупить к своему молчаливому согласию хотя бы пару слов.
Вглядевшись повнимательнее в фигурку, девка чуть не ахнула, но едва она раскрыла рот, как чья-то крепкая ладонь тут же намертво приклеилась к ее губам, не позволяя издать ни единого звука. Вторая рука юного дружинника — а это был именно он — так же беззвучно прижала указательный палец к своим плотно сжатым, слегка вытянутым вперед губам, давая понять, что необходимо соблюдать молчание. Глаза его лишь на одно мгновение скользнули по лицу девушки, будто оценивали, способна ли она сохранить необходимую тишину. Осмотр, по всей видимости, его вполне удовлетворил, поскольку он тут же убрал ладонь, перестав закрывать рот девушки.
Серые глаза его, слегка прищуренные, продолжали неотрывно следить за раскачивающейся деревянной фигуркой, будто пытались что-то опознать в ней даже на таком солидном, в несколько метров, расстоянии, которое отделяло их в настоящий момент от князя, а тот тем временем продолжал жаловаться:
— И что же это такое? Что, я тебя спрашиваю?
— Это… того, как оно, Братство Перуново, — пыхтя и отдуваясь почти после каждого слова, отозвался детина.
— Правильно говоришь, — охотно согласился Глеб. — Оно самое и есть. Стало быть, что же выходит? — и, не дождавшись ответа, изрек его сам: — А выходит, что лжа с его языка еще в прошлом лете ко мне в уши летела. А зачем? Я-то ведь ничего от него не таил. Завсегда к нему с чистой душой. Смотри в глаза мои, читай в них, братец ты мой, что хочешь. Сердце мое пред тобой, как евангелие открытое. Он же тогда еще ковы супротив меня строить начал, — и закончил на неожиданной ноте, лирически и с небольшой ноткой грусти в голосе: — Один ты у меня остался, слуга мой верный, Парамон мой дорогой. И что бы я без тебя делал. — Он ласково похлопал детину по широкой и мягкой, как подушка, спине, которая, будто отзываясь единственно возможным для нее способом, нежно заколыхалась в ответ.
— Однако и ты, пес мой верный, без своего князя трех дней не проживешь на свете, об этом тоже помни, — посуровел он внезапно голосом, на что детина заметил:
— Да каких три. Случись с тобой какая беда, так я и до другой зорьки не протяну. Загрызут волки поганые твою бедную овечку, княже, — и уже провернув наконец-то ключ в замке, с каким-то мазохистским наслаждением повторил: — Как есть загрызут напрочь и косточки по земле раскидают собакам на забаву.
— То-то же, — удовлетворенно кивнул головой князь, и было непонятно, к чему он это относит. То ли к тому, что замок наконец закрылся, то ли к восходу солнца, которого, случись что с князем, не увидит ни одного лишнего разочка сам Парамон.
— Ничего, Парамоша, — приободрил его князь, принимая увесистую связку ключей, нанизанных на толстое железное кольцо, и поворачиваясь к лестнице с явным намерением подняться наверх. — Мы еще с тобой немало… — но осекся на полуслове, заметив, наконец, троицу, застывшую на месте, и подозрительно буравя ее своими маленькими, глубоко посаженными ядовитыми гадючьими глазками.
— Это что же, подслушивать, стало быть, тут примостились? — выдавил он после непродолжительного молчания и от такого наглого поведения вновь замолчал, не в силах больше вымолвить ни слова. Он лишь безмолвно оглянулся на детину жестом призывая его присоединиться к княжескому возмущению, но изрядно вспотевший после упорной возни с замками Парамоша не успел ничего сказать, как в разговор вступил молодой дружинник:
— Не вели казнить, княже, а вели слово молвить.
Он стремительно, в три прыжка спустился с лестницы вниз и, заглянув под нее, проворно извлек, вытянув за рукав, священника. Следом показался, смущенно сопя и пыхтя, второй дружинник.
— По твоему великокняжескому повелению, как ты и приказал, у церкви Бориса и Глеба мы аккурат после обедни этого священника, который крамольные речи против тебя уже третий день вел, ухватили и спешно, не медля ничуть, на двор твой великокняжеский привели. Ан глядь, нет нашего великого князя. Ну, мы, стало быть, решили походить малость, дабы едва лик твой великокня…
— Погоди, — оборвал его на полуслове князь Глеб недовольно, но уже значительно смягчившимся голосом. — Какой такой великий князь? Или неведомо тебе, что великий князь един и во граде Володимере стол его?
— Прости, великий княже, но три дня назад ты сам сказал, идучи по двору с боярами своими, что всяк князь, который един на княжестве своем, тот и великий. Кроме тебя теперь, ежели мальца Ингваря в счет не брать, который в Переяславле сидит и вот-вот в гости заявится, более на Рязанской земле и князей не осталось.
— Ишь ты, ужом вывернулся, — хмыкнул одобрительно Глеб и чувствительно толкнул острым локтем детину прямо в мягкое пузо. — Учись, Парамоша, как излагать надобно. Ну а чего затаился, как мышь в амбаре? — построжел он чуть голосом. — Почему сразу не объявился?
— Опять же памятуя строгий наказ твой, великий княже, — вновь склонился дружинник в почтительном поклоне.
— Это какой же такой наказ? — усомнился Глеб. — Почему я не помню?
— Тогда же, третьего дня, боярин Онуфрий, что от князя Константина… — начал юноша, но вновь раздраженно был перебит на полуслове Глебом:
— Я и так знаю, что сей боярин раньше князю Константину служил. Ты дело сказывай.
— Я и сказываю, — не выказал ни тени раздражения княжеской грубостью воин, спокойно продолжив: — Так вот, боярин Онуфрий слово молвил, однако был тут же остановлен тобой, великий княже, с наказом строгим, дабы вперед не смел забегать и пока князь, то бишь ты, великий княже, свою мысль до конца не доскажет, рта своего поганого открывать не смел. Так это ты столь сурово боярину ответил, который в думцах твоих ходит, а как же мне, гридню простому, быть? Вестимо, испугался я в твою речь влезать, которую ты у поруба с Парамоном вел. Подумал, коль глас подам, тот же Парамон по твоему великокняжескому повелению шелепугой меня, бедного, и по спине и по прочему так славно отходит, что не токмо хороводы водить с девками, а и сидеть пару седмиц не смогу. Вот я застыл, как столб соляной, в который, по Писанию Святому, жена Лота обернулась.
— Ну, ей-то Господь Бог воспретил, — буркнул Глеб.
— А для нас, малых людишек, великий князь рязанский повыше Бога будет, — тут же ухитрился и здесь отвесить чудовищный по своей наглости комплимент дружинник.
— Ишь ты, — крутанул головой Глеб, — куда полозья загнул.
— А что? И я тоже согласен, — неожиданно для всех, включая самого князя, прогудел Парамон.
— Это как же? — осведомился Глеб, обращаясь к дружиннику.
— А так и есть, — пожал плечами юноша. — До Бога высоко. Пока еще он слово свое скажет, ан глядь, а я уж и жизнь свою прожил. У тебя же, великий княже, суд и скорый, и правый. Опять же и Парамон со своей шелепугой тут как тут. Завсегда сколько ты укажешь, столько и отвесит, да от души своей сердобольной еще добавку отмерит.
— Ну-у, — засмущался явно польщенный Парамон, но князь, повернувшись к нему, внезапно строго спросил:
— А верно, что он тут сказал о тебе?
— Так я… — замялся Парамон, не зная, как ответить, чтобы угодить Глебу.
— Как есть, так и скажи, — сухо оборвал его князь, пытливо уставившись на палача своими глазами-буравчиками.
— Было чуток, но только от усердья.
— Это верно, великий княже, только лишь от усердья. Вон как с дедом Гунькой месяц назад. Ты ведь ему наказал десяток плетей отвесить, как я слыхивал…
— И что? — заинтересовался князь.
— Так кто ж виной, что он, дурень старый, сунул бороденку кудлатую в рот свой беззубый и ну ее катать да пережевывать. Всю иссосал. Но тут промашка у обоих вышла — и Парамона, и деда. Не поняли они друг дружку. Дед, как пес преданный, не желал криком своим истошным сон твой послеполуденный тревожить, а Парамон, напротив, захотел непременно вопль его услыхать. А коли не кричит, стало быть, он слабо казнь[41] исполняет, нерадиво. Пришлось наново весь десяток отвесить, и опять дед молчит. Только на четвертом десятке и подал хрип еле слышный. Конечно, Парамон тут же на радостях шелепугу кинул, пошел кваску с холоду испить в повалуше, да и задремал невзначай. Ну а когда пришел назад к козлам, мысля, что деда, поди, и след простыл, ан глядь, лежит, только похолодевший уже.
— Так было? — вновь повернулся князь к Парамону, который от страха был сам не свой и только с ненавистью поглядывал в сторону юного дружинника.
— Так я ведь хотел как лучше… — промямлил он, наконец.
— Ты кто — князь или кат? — ехидно осведомился Глеб и, не дожидаясь ответа, пояснил: — Отличка в том, что князь казнь назначает, а кат ее справляет. Поделено так у них.
Парамон только сопел молча, потупивши свои поросячьи глазки в землю, а Глеб продолжал читать нотацию:
— Я, видишь ли, Парамоша, за твоей работой не гонюсь, так уж и ты, голубок, мое мне оставь, а то ты мне так всех смердов уморишь, и с кем я останусь тогда? С одним тобой?
— Ибо сказано в Писании: «Оставь Богу Богово, а кесарю кесарево». Стало быть, каждому свое, — вновь вставил словцо дружинник.
— Точно, — согласился князь. — А то я тебя, Парамоша, повелю самого на козлах разложить да всыпать пяток-другой горячих для ума в задние ворота. Охотники найдутся. Вон хоть бы и вой этот. Как, возьмешь шелепугу, не побрезгуешь? — И он пытливо уставился на юношу.
Тот замялся:
— Я ведь, великий княже, вой, а не кат.
— Неужто даже ради такого случая откажешься?
— Разве только из уважения к великому князю попробовать. Да у меня беда…
— Что за беда?
— Длань слаба больно. Только после трех десятков замахов и расходится. Так что дозволь, великий княже, просьбишку малую — коль с полсотни назначишь для Парамона, так я тут как тут, а ежели менее, то тут кого другого лучше было бы подыскать.
— Ну и договорились, — удовлетворенно кивнул князь и без всякого перехода резко сменил тему: — Тебя, кажись, Коловратом[42] кличут?
— Точно так, великий княже, — подтвердил дружинник. — Имечко крестильное — Евпатий, а за любовь к хороводам, девкам да игрищам Коловратом прозвали.
— Ну, давай-ка попа этого поганого в поруб. Да не туда, — заметил он миролюбиво дружиннику, который уже ухватил священника за широкий рукав черной рясы, намереваясь отвести его на задний двор княжеского терема, где и были выкопаны в земле две здоровенные глубокие ямы, в которых у Глеба и в обычное время всегда кто-то сидел. Ныне же там и вовсе наблюдалось столпотворение. Одних дружинников Константиновых было не менее десятка, включая тех, которые прибыли вместе с будущим узником. Там, будучи кинуты в поруб, они с невольной радостью, тут же вменившейся горечью от увиденного, обнаружили уже в первые секунды пребывания своих старых знакомых по дружине, включая раненых лучников, прикрывавших вместе с Афонькой бегство князя. Был там и гусляр Стожар с головой, обмотанной какой-то грязной тряпицей, из-под которой сочилась сукровица.
— Коли он был духовником княжьим, стало быть, и сидеть им заодно. К тому же, — он назидательно поднял палец вверх, — и его немалую вину вижу я в злодействе Константиновом. Не сумел дьявола из души сына своего духовного изгнать, который ему и внушил совершить столь тяжкий грех. Вот пусть и искупает недочет сей. Авось убедит князя хоть пред смертью раскаяться в содеянном. А не сможет, так Парамон мой обоим подсобит. Ну а ты, вой, — обратился он к Евпатию и приторно сладенько, как только мог, улыбнулся. — Сами, чай, молодыми были, знаем. Иди уж, кружи свои хороводы с девками, Коловрат, — и, глядя на уже удаляющегося дружинника, буркнул завидуя: — Ишь, молодой, и не болит у него ничего. А тут. — Он досадливо поморщился и, потирая правый бок, ворчливо повернулся к девке: — Ну что там? Все сделала?
— А вот, княже. — Девушка помахала в воздухе узелком и, даже не развязывая, извлекла оттуда скляницу с какой-то мутной буро-зеленой жидкостью.
— Прежде сама отпей, — буркнул князь нетерпеливо.
Девушка, пожав плечами, послушно извлекла из того же узелка небольшую чарку и, щедро плеснув в нее из скляницы, одним махом выпила все до дна. Глеб с подозрением заглянул в чарку — и впрямь пуста, тут же поспешно выхватил из девичьих рук посудину с настойкой. Доброгнева, а это была именно она, бесстрашно глядя на князя в упор своими зелеными глазищами, заметила при этом:
— Я ведь два настоя приготовила. Тот, что у тебя, так себе. Он лишь боль утишает, которой недуг твой, как гласом трубным, знак о себе подает, — с этими словами она извлекла из узелка еще одну скляницу с жидкостью, на этот раз густого черного цвета. — Этот же посильней будет во сто крат.
— Испей, — вновь потребовал Глеб.
Девушка послушно вновь наполнила свою чарку, выпила, но руку с зажатой в ней скляницей князю не протянула. Напротив, отвела назад, спрятав ее за спину:
— Погодь, княже, а то ишь прыткой какой.
— Что еще? — нахмурился нетерпеливо Глеб и криво усмехнулся. — А-а, гривенок тебе надобно. Будут, не сомневайся. Ишь какая сребролюбивая. Ну, давай.
— Ноне не о гривенках речь, — пояснила Доброгнева. — Настой этот силы великой. Коли здрав — вреда не будет, а ежели болен — вместе с болезнью и человека на погост отправить может. Надо его сперва тебя на ином болящем испытать — сколько пить и как часто. Ну а после уже и к тебе нести.
— А на ком же испытать хочешь?
— Ведаю я доподлинно, княже, что у того, кто в порубе твоем теперь пребывает, такая же болезнь.
— Это у кого же? — не понял Глеб.
— А у того, кого я раньше пользовала, — пояснила Доброгнева.
— А ну как помрет в одночасье, — прищурился Глеб недоверчиво. — Не жаль князя?
— Убивец он. Хуже татя ночного. Почто ж жалеть, — равнодушно ответила девушка. — К тому же теперь не он мне гривенки жалует, а ты.
Настороженный взгляд князя обмяк. Корыстолюбие как одну из главных человеческих слабостей он понимал вполне и даже уважал по той простой причине, что оно ему изрядно помогало в продвижении к собственным целям. Сам он к богатству относился равнодушно, будучи чуть ли не с детства навсегда прельщен другой страстью — неуемной жаждой власти. Поэтому он и поверил бывшей лекарке своего брата. В самом деле, с узника уже взять нечего, вот и решила бойкая девица с другого князя серебрецо да злато поиметь. Все правильно. Это жизнь.
Он удовлетворенно кивнул и повелительно махнул рукой верному Парамону, указывая на дверь и протягивая связку тяжелых ключей:
— Открой ей. Пусть полечит князя, а ты пока за кузнецом слетай. Пусть на попа железа[43] наложит. Да перед этим того сторожу найди, которую мы прогнали с тобой, перед тем как туда входили. Ишь паршивцы. Им велено было в сторонку отойти, а они убрели неведомо куда. Да пока с кузнецом не вернешься, поруб не открывай, — внес он на ходу изменения. — Пусть лекарка здесь обождет. Ты же, — он обратился к пожилому дружиннику, — на страже побудешь. Гляди, дабы ни одна душа живая к двери этой даже близко не подходила, а не то сам там окажешься, — и благодушно зевнул. — А я, пожалуй, пойду наверх, в ложнице прилягу. Притомился что-то.
Вышла Доброгнева из темницы, где сидел Константин, расстроенная и раздосадованная. Все было плохо — впервые ей, да и то лишь благодаря хитроумному совету старого сотника, удалось прорваться в поруб к пленнику, а результат оказался нулевым. Да и с отцом Николаем тоже не все ладно получилось. Она буквально накануне и так и эдак пыталась отговорить его от обличений князя Глеба, ни секунду не веря, что горожане, узнав правду, непременно попытаются освободить безвинного страдальца.
Попытка была тщетной, и Доброгнева махнула рукой, предупредив священника, что она сейчас, по совету мудрых людей, перешла на службу к князю Рязани, и не дай бог он, даже если увидит ее близ терема, подаст вид, что знает девушку. Она тоже в свою очередь никогда не признает его перед посторонними людьми, и пусть каждый из них делает свое дело, а там лишь бы хоть одному повезло.
Теперь выяснилось, что неудача выпала на долю обоих, но если у отца Николая она оказалась сродни катастрофе, то ведьмачка не теряла надежды в свое следующее посещение все-таки исхитриться и как-то перемолвиться несколькими словами с князем-узником. Ей уже сегодня хотелось так много сказать ему или, на худой конец, просто ободрить ласковым словом, намекнуть, что знает она доподлинно от верных людей всю правду о случившемся, но…
К тому же и самый вид изможденного князя, исхудавшего донельзя всего за неделю пребывания в темнице, тоже радости не прибавил. Да если бы вид только, а то и сам взгляд когда-то добрых лучистых глаз, устремленных на нее, был мрачен и враждебен. Горькие слова незаслуженного упрека больно ожгли ей сердце:
— Лихо ты князей меняешь, Доброгнева. Иной глазом моргнуть не успел бы, а ты уж близ нового благодетеля суетишься, угождаешь во всем.
Слова оправдания уже готовы были слететь с девичьих уст, но узник тут же закашлялся и украдкой, воспользовавшись тем, что Парамон отвернулся, заговорщически прижал палец к губам, призывая хранить молчание. Этот жест и одновременное подмигивание придали Доброгневе силы, и, продолжая свою игру, она только ворчливо заметила:
— Чай, теперь гривенки мне другой платит, а у нас, как у гусляров, — от кого куны, тому и песнь играем. Ты уж не прогневайся, княже.
Константин в ответ на это лишь прикрыл на миг глаза с тяжелыми пожелтевшими веками в знак того, что все понял правильно, и больше они не проронили ни слова.
А уже на выходе из княжеского терема ее поджидал юный дружинник.
— Сколь вместе на лестнице ни стояли, а имечка-то я твоего и не проведал, красна девица, — и все с той же широкой располагающей улыбкой на симпатичном добром лице шепотом добавил: — Тебя в избе Глеб ждет. Поспешай, — и, видя искреннее недоумение, тут же пояснил: — Да не князь — сотник мой, — продолжив громко и напевно: — Экая ты недотрога. Дозволь хоть проводить тебя до калитки.
— Ишь какой прыткой, — подладилась ему в тон Доброгнева, и, перебрасываясь шуточками, они направились вдвоем к старенькой избушке, расположенной уже за городскими воротами на самой окраине посада.
Бабка-бобылка,[44] которая жила там, охотно приютила юную лекарку, не столько польстившись на куны, что та ей предложила за постой, сколько обрадовавшись живой душе, которая хоть и временно, но скрасит ее сиротливое одиночество. Впрочем, от кун она, по бедности своей, тоже не отказалась, пояснив виновато, что и не взяла бы, ежели бы не нужда великая.
По пути разговор в основном велся все больше шутливый, с подковырочками, легкими и безобидными от Евпатия и более колкими и острыми со стороны Доброгневы. Единственный раз, отчего-то вспомнив дюжего детину на княжеском дворе, она всерьез спросила:
— А ты и впрямь бы согласился катом стать?
Евпатий искоса взглянул на свою спутницу и, отбросив в сторону свое обычное ерничество, задумчиво протянул:
— Ну, ежели только для Парамона, да и то не ведаю, смог бы я в себе силы найти, чтобы шелепугу об эту падаль марать. Хотя, памятуя, сколько душ он загубил кнутовищем своим, мыслю, что смог бы. К тому же, — он усмехнулся и уже дурашливым тоном продолжил: — Как тут отказать, коль великий князь рязанский повелеть изволит.
— И как же вы Каину этому служите доселе? — задумчиво произнесла Доброгнева, не давая Евпатию вновь перейти на шуточки-прибауточки.
— Каином он лишь седмицу назад стал, — возразил Коловрат, вновь посерьезнев. — А так все они одним миром мазаны — князья-то наши. Мыслю я, что и Константин, в поруб посаженный, не больно-то лучше.
— Он братьев своих не убивал, — возразила Доброгнева.
— Только в этом и разница у них, — вздохнул сокрушенно Евпатий. — В остальном же ее и вовсе нет. И не спорь со мной, — оборвал он хотевшую что-то пояснить девушку. — Видел я их обоих год назад. Аккурат в эту пору дело было. И гульбища их окаянные тоже видел. Твой князь одну отличку супротив моего и имеет — лик пригожий, а души у них обоих черные.
— Ежели все так, то отчего ему дед Всевед пособил, от смерти спас, да еще знак тайный на шею надел?
— Вот тут тайна для меня глубокая, — развел руками Евпатий. — Помогать ему я, конечно, буду, только мыслю, не обманулся ли старый волхв. Или и впрямь князь твой так резко изменился за последнее лето? — протянул он задумчиво и недоверчиво хмыкнул: — Да ведь не младень же он несмышленый. В его лета так не бывает.
— Бывает, — упрямо буркнула Доброгнева, не зная, каким был Константин, но зато отлично зная, каков он ныне, и желая во что бы то ни стало защитить доброе имя названого братца.
Коловрат, очевидно, махнул рукой на упертую девку, дольше спорить не стал, но к веселому прежнему тону возвращаться не спешил. Доброгнева тоже помалкивала, и остаток пути до избушки бабки они проделали молча. Завидев в крохотном оконце, затянутом мутным бычьим пузырем, две приближающиеся к избушке фигуры, Стоян, уже добрых два часа сидевший в нетерпеливом ожидании Доброгневы у бабки и держащийся за поясницу — дескать, прострел замучил, облегченно вздохнул. Тут же щедрой рукой он извлек из кошеля пару восточных серебряных монет, нарядив бабку на торжище за всякой снедью и пояснив:
— Сытый лекарь завсегда лучше лечит, потому как добрый. А у тебя, поди-ка, и мыши все с голоду передохли.
Бысть такоже у христианнейшего Глеба слуга, всяко обласканный, но под речами льстивыми скрываша душу черную и гнусны деяния твориша в нощи темнай. А прозвищем бысть оный зловред — Коловрат.
Из Суздальско-Филаретовской летописи 1236 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1817.
И бысть о ту пору на Резани в воях Стоян-сотник, а тако ж Евпатий, прозвищем Коловрат. И вои оные, душою за Константина страждучи, измышляша разно, како ему леготу учинити.
Из Владимирско-Пименовской летописи 1256 года.Издание Российской академии наук. СПб., 1760.
Скорее всего, имя Евпатия Коловрата, столь знаменитое впоследствии, в описываемое нами время всплыло в летописях совершенно случайно, ибо не мог столь юный воин играть хоть мало-мальски значимую роль. Или же возможен другой вариант — это был его отец, так же крещенный Евпатием. Коловрат же — общеродовое прозвище. Тогда все сходится.
Албул О. А. Наиболее полная история российской государственности.Т. 2. С. 130. СПб., 1830.
Глава 12
Данило Кобякович
Предательство, пусть вначале и очень осторожное, в конце концов, выдает себя само.
Ливий.
Их совещание длилось недолго, каких-то полчаса, если не меньше. Они успели договориться лишь о том, что прежде всего надо сделать все, чтобы тайно вывести из града молодого княжича Святослава, а уж потом приступать к освобождению самого Константина. Ключи к замкам на двери, ведущей в поруб, сотник пообещал заказать у кузнеца, который тоже был из Перунова Братства. Упоить сторожей узника взялся Евпатий. Все так же мягко улыбаясь, он заверил Доброгневу, что за самое короткое время — еще и полночь не наступит — он в каждого из них ухитрится влить не менее ведра,[45] на что сотник угрюмо заметил:
— На стороже самых надежных князь велит ставить, да еще из числа тех, кто к питию хмельному равнодушен. Боюсь, ты в них и чарки единой не вольешь.
— Ну, уж хоть на пару-тройку да уговорю, — беззаботно махнул рукой Евпатий.
— Пары-тройки мало будет, — возразил Стоян.
— Им и одной хватит, — встряла в разговор Доброгнева. — Только перед угощеньем зелье сонное у меня возьмешь и в мед всыплешь. Как убитые до самого утра дрыхнуть будут. Да смотри, сам пить не удумай, — предупредила она строго, на что дружинник лишь улыбнулся в ответ и хотел сказать что-то ласковое, но тут прогнившая перекошенная дверь избы заскрипела, нехотя пропуская запыхавшуюся бабку, которая прямо у входа выпалила торопливо:
— С полдороги возвернулась. Да все бегом, бегом.
— А что стряслось-то? — лениво осведомился молодой дружинник. — Неужто Страшный суд настал?
— Еще хуже, — проигнорировала бабка издевку Евпатия и, повернувшись к сотнику, все так же тяжело дыша, протянула ему серебряные монеты. — Не купила я ничего. А возвернулась, потому как дружина великая к граду нашему на конях быстрых скачет во весь опор. Да еще одна на ладьях по реке поспешает. Тоже к граду, не иначе.
— Это сорока тебе на хвосте принесла или как? — поинтересовался Евпатий.
— Сорока у тебя на груди прострекочет, когда ты бездыханный лежать будешь, — парировала бабка. — А дружина та со стороны Исад тучей идет. Так мне добрые люди сказывали. Говорили-де на выручку безбожному князю Константину, что ныне за убийство лихое в поруб посажен во граде Рязанском, та дружина торопится. Уходить надо из посада немедля, не то они уже сегодня к вечеру тут будут.
Стоян с Евпатием переглянулись.
— Ратьша, — еле слышно произнес Глеб.
— Коли со стороны Исад, то больше некому, — согласился Евпатий и подытожил: — И впрямь здесь оставаться негоже. В град поспешать надо. После договорим, — он оглянулся на хлопотавшую около сундука бабку и добавил: — А заодно и полечимся.
— А как же князь Константин? — не поняла Доброгнева.
— Он-то как раз во граде, куда мы идем, — пояснил терпеливо непонятливой девахе Евстафий.
— Так ведь Ратьше рассказать надо, что да как было, — не унималась Доброгнева.
— Мыслю я, — горько усмехнулся сотник, — кто коли он из-под Исад коней торопит, стало быть, и так все знает. А ежели нет, то уж как-нибудь да весточку пришлем. Прежде поглядеть надо, как он сам себя вести будет.
Прихватив с собой нехитрый бабкин скарб, сноровисто увязанный ею в два здоровенных узла, они все вместе уже через каких-то полчаса зашагали по направлению к городским воротам. Кругом суетились ремесленники, огородники и прочие люди, проживавшие в посаде. Быстро кидали на телеги убогие пожитки, которые бедняку дороже, чем иному князю его злато-серебро, зарывали в землю громоздкие котлы да чугунки — с собой не взять, рук не хватит, а просто так, не схоронив, оставить, тоже жалко. Почетное место почти на любой телеге занимал рабочий инструмент, без которого ремесленному люду никуда — он их кормилец и поилец. Узлы с тряпьем были небольшими и ютились на углах телег, для мягкости, чтобы детишки, а особенно старики на тряской дороге последние мысли из себя не вытрясли.
Сборы были деловиты и споры — за недолгое Глебово княжение народ уже привык к бесчисленным войнам своего правителя. Где-нибудь в тихом разнежившемся Ростове или Суздале успели бы только в себя прийти от ужаса да помолиться перед иконами, дабы вражья напасть стороной обошла, а тут уже все было собрано, увязано, упаковано, и вереница телег длинной извилистой змеей начала вползать в городские ворота.
Дружина Ратьши подоспела под стены Рязани уже к вечеру. Все ворота были наглухо заперты — и Гостевые, что открывали выход к нешироким крутым сходням, ведущим вниз к небольшой речной пристани на Оке; и Головные, или Княжьи, что находились с противоположной стороны. Местные острословы прозывали еще Гостевые ворота, учитывая их расположение относительно Головных… — впрочем, и без цитаты догадаться несложно, как их именовали в народе. Вся дружина князя Глеба была уже на стенах вместе с любопытствующими горожанами, а по ту сторону Княжьих ворот стояли три человека. Все они были нарядно одеты.
Невзирая на теплый, даже душный летний вечер, каждый из них — и Онуфрий, и Мосяга, и Глебов думный боярин Хвощ — напялил на себя по самой дорогой рубахе золотного бархата[46], по корзну, застегнутому у правого плеча причудливой пряжкой с изображением головы животного — у кого волчья голова, у кого лисья, а у Хвоща лосиная. В руках у Онуфрия было блюдо с караваем свежевыпеченного хлеба, в середине которого находилась деревянная солонка. Сам каравай горделиво возлежал на длинном рушнике[47], свешивающемся по обе стороны блюда чуть ли не до боярских колен. Рядом Мосяга держал на таком же блюде увесистую ендову[48], почти доверху наполненную темно-желтым хмельным медом трехлетней выдержки.
Саму ендову обступали, в нетерпеливом ожидании, пока их наполнят, пять серебряных чаш. Каждая из них имела красивый замысловатый рисунок, выгравированный на боках, а по верхнему ободку шла затейливая надпись. Одна призывала пьющего из нее не терять разума, на другой чаше говорилось, что нельзя употреблять хмельное без меры, третья без всяких прикрас настаивала, чтобы ее более семи раз за один пир не опустошали, четвертая… Словом, все они, образно говоря, давали именно те в высшей степени разумные советы, которые все и без того знают, что не мешает в повседневной жизни никогда ими не пользоваться.
От большого отряда не меньше чем в полторы тысячи всадников отделились трое и не спеша направились к городским воротам. В центре ехал седобородый ратник, угрюмо поглядывая на троицу, также двинувшуюся навстречу конным после негромкой команды Хвоща. Немой гнев застыл в заледеневших глазах старого воеводы, но выдавала его лишь левая рука, судорожно сжимающая рукоять меча. Правая беспомощно висела у груди на перевязи.
По левую руку от него ехал совсем молодой — не больше восемнадцати лет — юноша. Изрядно посеченная бронь, особенно на груди, красноречиво повествовала, что кланяться вражеским стрелам он не приучен, а в кровавой сече вряд ли даст кому спуску. И вместе с тем было заметно, что держаться на коне он обучился совсем недавно, хотя и немало усвоив за это короткое время, но все равно не успев достигнуть той степени совершенства, которой обладает опытный наездник, умеющий, не касаясь поводьев, одним легким движением ног повернуть лошадь в ту или иную сторону, заставить встать как вкопанную на месте, ускорить или замедлить движение.
Именно поэтому на него искоса, скрывая искорку усмешки, поглядывал другой всадник, сопровождающий седобородого Ратьшу по правую руку. Сам-то он держался на коне совершенно свободно, при этом даже не имея под собой седла, не говоря уж о стременах, которые с успехом заменяли ему собственные ноги. Слегка кривоватые, оттого что обладатель их впервые был посажен на коня в трехлетнем возрасте, после чего слезал с него не чаще одного-двух раз в неделю, они крепко сжимали бока приземистой мохноногой лошади, управляя скорее автоматически, повинуясь рефлексам, выработанным давным-давно.
Так пловец не задумывается, какое именно надлежит сделать в следующий миг движение его правой руке, а затем левой и как в этот момент должны вести себя его ноги. Вместо этого он просто плывет, думая о совершенно посторонних вещах. Всадник справа от Ратьши тоже не задумывался, он просто ехал.
Старенькая пропыленная одежонка его, обычная для любого степняка — халат да простые кожаные штаны, — никак не гармонировала с дорогой саблей искусной работы. Рукоять ее была богато изукрашена хитро сплетенными золотыми нитями. По одному только взгляду на нее, на не менее красивый и дорогой кинжал, висевший у пояса и отделанный серебром, не говоря уж о кольчуге, отливающей благородным светлым стальным блеском при последних лучах заходящего солнца, становилось ясно, что место этого воина только в ханской юрте.
Половец был крещен еще при рождении, хотя по-прежнему предпочитал степного шамана и его гадание на бараньих лопатках, после которого и принимал решение в любом затруднительном случае. Мать его, старшая сестра боярина Хвоща, и настояла на том, чтобы он был назван христианским именем Даниил.
Его отец — хан Кобяк уже в юные годы неохотно ходил в набеги на русские земли, предпочитая действовать исключительно в союзе… с другими русскими князьями, которые оружием пытались решить свои имущественные споры. Таким образом, он не только терял много меньше воинов, чем его более неразумные соседи, но, как это ни странно, имел добычи не меньше, чем они. Пока русские дружины ожесточенно рубились друг с другом, он со своей дикой ордой вламывался в одно из крыльев войска неприятеля, подавляя его огромным численным преимуществом и неистовым натиском, после чего первым прорывался к вражеским обозам и вволю грабил их, не дожидаясь окончания битвы. Таким же путем шел и его любимый сын Данило Кобякович. К тому времени его орда была уже одной из самых сильных в приволжских степях.
Это именно он должен был прискакать в Перунов день после полудня для вящей уверенности в том, что задуманное убийство рязанских князей не сорвется. «Не моя вина, что князь Глеб затеял все намного раньше намеченного срока», — пояснил он, когда увидел, что подоспел лишь к шапочному разбору, явно намекая на то, что добычей надлежит делиться. Победитель не поскупился, богато одарив половца и пригласив его погостить в Рязани через недельку-другую.
К тому времени, предполагал Глеб, он успеет до конца разобраться со всеми семьями убитых князей, выгнав их жен и малолетних отпрысков за пределы Рязанского княжества, а ежели кто встанет против, то тут как раз и подоспеет Данило Кобякович. О здравии же князя Константина Глеб отозвался туманно, пояснив, что, получив тяжкие раны, его брат был немедля увезен к лекарям в Рязань. Это было единственным, что омрачило в тот день настроение молодого хана.
Они долго пировали в тот вечер, а затем наутро распрощались. Рязанский князь отчего-то торопился к себе во град, половецкому же хану спешить было некуда. После расставания с союзником он еще долго любовался видневшимися вдали маленькими домиками села Исады, казавшимися крошечными серыми коробочками, и лениво размышлял, а не подскочить ли быстренько туда и не взять ли добычу и полон, но затем передумал, резонно рассудив, что после такого вероломства навсегда утратит дружбу и доверие не только Глеба, но и его брата, то есть потеряет намного больше, чем смог бы приобрести, разграбив село. Кроме того, его родная сестра Фекла была замужем за князем Константином, а ссориться со своим шурином он явно не желал, питая к нему почему-то чувство самой искренней симпатии.
Жена князя Владимира, отца Глеба и Константина, была тоже половчанка, приходившаяся родной сестрой еще одному хану — Кончаку, чей сын, Юрий Кончакович, правил ныне соседним, не менее могучим родом. Всю свою южную степную кровь она щедро выплеснула в детей. Особенно много досталось ее первенцу, названному в честь деда Глебом. А вот последыш, князь Константин, оказался похожим на своего батюшку — светловолосый, светлокожий, и даже с отцовскими же голубыми глазами.
Казалось, логичнее было бы, если бы Данило Кобякович тянулся к схожему с ним лицом и фигурой Глебу. Ан не тут-то было. Притягивал его внешне во всем противоположный Константин. И в борьбе молодецкой самая большая радость у Данилы была шурина одолеть. И в скачках именно Константина обогнать. И на пирах больше его выпить, что, впрочем, никогда не удавалось. И в остальном главное было — не Глеба, а брата его опередить. При всем том Данило не переставал восхищаться крепким русобородым красавцем князем и никогда не расстраивался после проигрыша. Именно потому он вновь загрустил, сожалея о его ранах, и в обратный путь направился молча, без обычного своего веселья.
Стон, послышавшийся из густых зарослей придорожной травы, был тихим, и, возможно, за веселым разговором никто бы его и не услышал, но на сей раз все степняки за редким исключением, подражая своему предводителю, ехали молча, и этот стон прозвучал слишком явным диссонансом топоту конских копыт. Спустя миг он повторился, и тогда двое всадников, которые были ближе всего к источнику постороннего шума, свернули в сторону и вскоре приволокли раненного в спину лучника.
То и дело задыхаясь от острой, колющей при каждом вздохе, боли — стрела, пройдя меж ребер, чуть ли не насквозь прошила правое легкое, — лучник поведал, что он из воев князя Константина и прикрывал его бегство от погони Глебовых дружинников. Ничего не поняв, но почуяв что-то неладное, Данило приказал расспросить лучника подробнее. Чтобы тот хоть на короткое время пришел в себя, подручные хана влили в глотку умирающего чуть ли не полмеха хмельного меда, который их хан уважал ничуть не меньше перебродившего пенистого кумыса или араки. Лишь на несколько мгновений русский воин пришел в себя и чуть более связно изложил то, что произошло накануне, после чего скончался.
Данило посуровел лицом и, ни слова не говоря, повернул коня назад, к месту недавнего пиршества. Приказав заново разбить юрты, он повелел обшарить всю местность в округе, найти раненых воинов и со всевозможным бережением привезти их к нему, обещая щедро вознаградить удачливых в поиске. Покорные хану половцы рассыпались по степи и спустя пару часов доставили утыканного стрелами, но еще живого Козлика. Появившийся по зову хана половец, сведущий в искусстве исцеления, долго и сокрушенно цокал языком, опасаясь даже прикоснуться к умирающему уруситу, и никак не мог решить, с чего начать. Все три раны были опасны, но одна стрела, впившись жалом под самое сердце, казалась самой страшной. К ней, мысленно попросив у степных богов удачи, он и приступил первым делом. К собственному удивлению лекаря, через несколько часов, после того как со всевозможной осторожностью были извлечены все три стрелы, а раны промыты, смазаны дорогим арабским средством и хорошо забинтованы, русский воин все еще продолжал жить.
Поместили его в соседней юрте под неусыпным надзором лекаря, который пять или шесть дней кряду почти не отходил от раненого. У Козлика начался сильный жар, одна из ран опасно воспалилась, и все эти дни он пребывал между жизнью и смертью. Именно так сказал половецкий шаман, долго гадавший на высохших бараньих лопатках, после чего, наконец, он виновато развел руками:
— Его душу продолжает держать в своей могучей руке главный уруситский бог Кристос, сам еще не знающий, то ли оторвать ее от тела, чтобы унести с собой, то ли оставить ее храброму воину.
— Так будет ли он жить? — не понял Данило Кобякович.
— Если их бог до сих пор этого не ведает, то откуда могу знать я, простой слуга наших степных богов, — вывернулся шаман. — За его здоровье надо молиться Кристу, а у того иные слуги.
Тогда по приказу хана из Исад приволокли старенького священника, пояснили ему, что нужно делать, и тот дрожащим от испуга унылым речитативом затянул молитву во здравие раба Божия… Правда, из-за малограмотности и плохой памяти — а молитвенник он взять с собой не успел — уже через час седенький попик стал повторяться, а через два на это обратил внимание и терпеливо слушающий его хан, заметив про себя, что его шаман намного красноречивее.
Однако мешать попу он не стал. Напротив, сам мысленно обратившись к бессильному себя защитить на земле, но ныне всемогущему Богу, Данило пообещал ему принести в жертву трех самых лучших дойных кобылиц из табуна. По счастливому для священника совпадению Козлик пришел в себя уже на следующий день после начала его молитв. Попа тут же отпустили с миром назад в село и даже дали ему на прощанье большой золотой крест, который в числе прочих вещей, снятых с убитых князей, достался в качестве отступного дара половецкому хану.
От креста, впрочем, священник, побледнев, отказался, прочтя надпись на обороте, просящую, чтобы Господь Бог помиловал раба своего грешного Ингваря, даровал ему победу над врагами и способствовал исполнению прочих желаний. Однако отказался поп в первую очередь из-за того, что прочел имя умершего князя, а в то время уже бытовало поверье, что чужой крест способен принести только беды и несчастья своему новому владельцу. Ну а если учесть то обстоятельство, что князь Ингварь погиб насильственной смертью, оставалось лишь догадываться, какое неисчислимое количество горя во всевозможных вариантах золотая святыня сулила тому, кто опять посмеет надеть ее.
Злато же священник принял с удовольствием, дав обещание в душе пустить гривны нехристя на богоугодное дело, обновление храма Божьего, которое благополучно забыл уже на следующий день. Едва он припустился — как бы не передумали, ироды, — по полю к селу, как Данило вошел в юрту к очнувшемуся Козлику.
Рассказанное ратником так потрясло его, что он вновь и вновь переспрашивал того, пока наконец лекарь не обратился к хану с просьбой прервать разговор, поскольку воин еще слишком слаб. Данило послушно ушел, но на следующий день вернулся и заставил раненого все повторить. Особенно его интересовал заключительный эпизод с бегством князя Константина и конечный результат Глебовой погони. Что с ними стряслось и отчего вдруг его шурин столь резко и неожиданно для брата изменил свое поведение, став на защиту остальных князей, — он не думал.
Сейчас самым важным было понять, остался ли его родственник по сестре жив или его постигла смерть. От этого зависел дальнейший выбор союзника, поскольку с самим князем Глебом в дружбу вступать было столь же опасно, сколь отогревать на груди замерзшую гадюку. Да и само внешнее сходство Глеба с половцем в мыслях молодого Кобяковича поневоле дополнялось аналогией в делах и поступках, которые у половцев если и благородны, то изредка, если честны, то иногда, если правдивы, то не намного. Впрочем, все это относилось к их поведению с чужими, но и хан со всем своим племенем был чужаком для этого князя-урусита.
Константин же всегда держал слово, даденное Даниле, никогда с ним не хитрил, щедро делился добычей, был мужем его родной сестры и, что немаловажно, нашел в себе мужество отказаться от братоубийства. Ведь когда хан впервые узнал о задуманном Глебом и его братом, он почему-то как-то сразу стал несколько меньше уважать Константина.
Нет, на предложение шурина он без раздумий дал добро и пообещал подмогу. Однако на такое зло даже среди степных племен, жадных до чужого добра и неразборчивых в средствах по его добыче, жестоко и неумолимо выжигающих в своих набегах русские деревни и города, и то смотрели искоса. Никогда ни один половец не согласился бы стать побратимом человеку, чьи руки были обагрены кровью родного брата. Но Константин уже был им, потому и согласился Данило Кобякович прийти ему на выручку — просьба побратима свята. От нарушившего узы кровного братства немедленно и навсегда отвернутся не только степные боги, но даже и Кристос, чей крест он всегда носил на шее, правда, скорее как последнюю память о горячо любимой матери, чем как символ веры.
Зато теперь, узнав доподлинно от одного из очевидцев трагедии, как все происходило, Данило Кобякович, удивляясь сам себе, облегченно вздохнул и продолжал напряженно размышлять, что ему делать дальше и как поступить. На третий день их продолжительных бесед с Козликом хан, наконец, вырвал у медленно выздоравливающего дружинника признание в том, что Константин со спутниками успели доскакать до опушки дубравы и скрыться в ней, так что погоня воев Глеба вернулась ни с чем.
На самом деле Козлик, упав с коня, почти тут же потерял сознание, которое если и возвращалось к нему, то лишь на чуть-чуть и то самым краешком. Какие уж тут всадники, которых он увидел скрывающимися в лесу, когда даже головка клевера, росшая чуть ли не под носом у лежавшего ратника, виделась ему в какой-то туманной зыби, то расплываясь, то вообще двоясь. Но настойчивость хана в совокупности с горячим желанием, чтобы князь спасся — иначе получалось, что все его ранения получены зазря, — сделали свое дело, и Козлик вспомнил то, чего не видел, хотя на сей раз желаемое как раз совпало с истинным положением вещей.
Тогда Кобякович вновь вернулся в свой шатер и провел в одиночестве и тяжких раздумьях весь вечер. Наутро он повелел всем собираться, и не было в этот момент приказа для его воинов, окончательно изнывших от безделья, приятнее и слаще.
Однако полуголые степняки не успели еще даже подступиться к ханской юрте, как прибежавшие дозорные сообщили хану о том, что по реке движется целый караван судов. Тут же явился еще один с докладом, что суда движутся с явным намерением пристать именно к тому месту, где расположился их стан. Наконец двое последних дозорных спустя еще несколько минут принесли весть о том, что оружных людей в них тьма, а вот товаров что-то не видно. Да и сами ладьи всем своим внешним видом на купеческие явно не походили.
Данило Кобякович поначалу встревожился, но затем, самолично прискакав на берег и издалека опознав в грузном немолодом седобородом воине, стоящем на носу первой ладьи, тысяцкого Константина Ратьшу, тут же успокоился и даже обрадовался.
По обычаю степного гостеприимства, едва ладья славного воина причалила к берегу и тысяцкий спрыгнул на землю, хан, искренне улыбаясь, встретил дорогого гостя и тут же позвал его в свою юрту. Тот, вежливо поблагодарив за приглашение, пригласил с собой еще одного высоченного детину под два метра ростом, светловолосого, голубоглазого, со свежим — едва запекся — шрамом на левой стороне шеи, пояснив, что этот могучий вой прозывается Эйнаром. Большая часть дружины хоть и подчиняется командам Ратьши, но непосредственные и более конкретные приказы отдает своим соплеменникам именно этот ярл.
Данило Кобякович ничуть не возражал. К тому же светловолосый гигант чем-то неуловимо напоминал хану его побратима, отчего и сам Эйнар сразу стал ему симпатичен. Тот и впрямь походил на Константина, только ростом был побольше да в плечах пошире. Мускулы и мышцы имел тоже более выпуклые и рельефные, волосы побелее, глаза посветлее, цвета небесной синевы, да еще широких серебряных браслетов на руках Константин никогда не нашивал, а так…
Хан лишь поинтересовался, что есть ярл? Его интересовало то ли это тоже имя, то ли означает совсем другое. На что тысяцкий обстоятельно ответил, что так на родине Эйнара прозываются правители, а ежели по-русски, то это боярин или воевода. В ответ на это Данило Кобякович радостно закивал и еще раз приглашающе протянул руку в сторону своего шатра.
Войдя в него и усевшись поудобнее на мягком ковре, Ратьша завел обычный пустопорожний разговор, который, по степному обычаю, непременно предварял любую самую серьезную беседу.