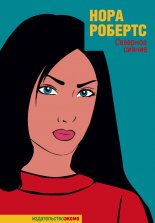Кошка на дороге Токарева Виктория

Заведующая вышла и через минуту привела человечка четырех лет с носиком, как у воробышка, большими рыжими глазами. В этом возрасте пол почти не заметен, но челочка надо лбом указывала, что родители воспринимают его как мальчика. На нем была больничная пижама с коротковатыми штанами. Виднелись косточки от щиколоток. «Как в палате номер шесть», – вспомнил Егоров.
– Ну, здравствуй! – обрадовался встрече Егоров.
Мальчик тут же поверил, что ему чрезвычайно рады.
– Здравствуй! – ответил он и вложил свою крохотную руку в егоровскую громадную.
– Как тебя зовут?
– Саша. А тебя?
– Николай Константинович, – представился Егоров. – А ну-ка, Саша, угадай: лягушка квакает или каркает?
– Лягушка квакает, ворона каркает! – радостно прокричал Саша.
– А поезд катится или летит по воздуху?
– Поезд катится, самолет летает.
– А почему самолет летает?
Вопрос был трудным, но мальчик, не задумываясь, отчеканил:
– Самолет летает на бензине.
– На керосине, – поправила Галина Павловна. – Он дешевле.
Мальчик внимательно на нее посмотрел.
– Можешь идти в палату, – разрешила Галина Павловна.
Ребенок зашагал. Коротковатые штаны открывали узенькие, как палочки, щиколотки.
– Он не отстает, – определил Егоров. – Почему невропатолог дал такое заключение?
– Она у нас хамоватая, может, он и зажался. Да и вообще в наших, прямо скажем, не курортных условиях дети… – Она подумала, как сказать, не могла найти нужного определения.
– Ладно, понятно, – остановил Егоров ее поиск нужного слова. – А что родители? Как они к нему?
– Обожают. Целыми днями под окнами сидят, чтобы он их из окна видел.
– Значит, надо оперировать. Для них. Иначе, представляешь, что у них будет за жизнь?
Егоров поймал себя на мысли, что еще три дня назад он не стал бы перепроверять заключение невропатолога. А ссора с Вероникой и вообще сама Вероника заставили его остановиться, оглянуться. И от этого три судьбы резко меняют курс, разворачиваются от отчаяния к спасению.
– А кого будем делать: мальчика или девочку? – спросила Галина Павловна.
– А вы как считаете? – спросил Егоров.
– Мальчика. Мужчинам легче жить.
Егоров пришел на десять минут раньше. Вероники еще не было. Он стал ходить взад-вперед и подумал, что не ходил вот так взад-вперед и не ждал никого лет тридцать. У него никогда не было левых романов – не из-за повышенной нравственности, а из-за того, что он любил жену. Первые пятнадцать лет он действительно любил, потом думал, что любит, а теперь стал старый и некогда. В дне расписан каждый час. Егоров вспомнил свой сон, вернее, он его не забывал. Во сне из подсознания вылезло то, что он давил в себе: лет навалом, а счастья все равно хочется. Какое-то счастье у него было. Разве сегодняшний день не счастье? Дарить людям жизнь, радоваться их радостью – разве этого мало? Но хочется своим счастьем делиться. Быть не одному. И этим небом поделиться – дымным и туманным, будто надымили из печной трубы. А вон ворона полетела. Егорову всю жизнь хотелось летать. Он был уверен, что скоро придумают крылья. Надел их на лямках, как вещевой мешок, оторвался от своего балкона – и вперед. В моду войдут облегченные непродуваемые скафандры. Влюбленные будут летать, взявшись за руки.
Вероника появилась минута в минуту. На ней было черное свободное пальто с капюшоном, черные сапоги – она напоминала католическую монашку. Приблизившись, она подняла руки и показала часы на запястье.
– А я ничего и не говорю, – оправдался Егоров. Он почувствовал себя виноватым за то, что явился раньше.
Они прошли через тяжелую дверь. Когда-то Егоров бывал в этом доме. Считалось, что здесь хорошо кормят. У дверей сидела интеллигентная старушка. Ее амплуа – вышибала. Егоров заметил, что в театрах на служебном входе тоже сидят интеллигентные старушки, может, даже бывшие актрисы, и не пускают новое поколение. Сквозь этих старушек надо продираться, как через колючую проволоку.
– Это со мной. – Вероника кивнула на Егорова.
– Да, да, «это» с ней, – подтвердил Егоров, идя за Вероникой. Ему нравилось за ней идти и подчиняться. Нравилось, как убедительно она изображает из себя хозяйку жизни. Танк из папье-маше. Танк для макета.
Они разделись. Егоров еще успел взять у нее пальто и передать гардеробщику. Вероника не привыкла, чтобы за ней ухаживали… Потом они сели за столик в уголочке. Народу было немного. Официант возник в полумраке, как фокусник, приподняв над блокнотом фирменный карандашик.
– Что будем есть? – спросила Вероника.
– Кто из нас двоих мужчина? – поинтересовался Егоров.
Официант полуобернулся к Егорову.
– Кофе, – сухо заказала Вероника.
– И все? – удивился Егоров.
– Все. И без сахара.
У Егорова было свое отношение к вопросу питания. Он считал, что преувеличенная потребность в еде – своего рода наркомания. Страна переполнена пищевыми алкоголиками. Едят в пять раз больше, чем требуется для жизнедеятельности. И то, что Вероника отказалась от еды, было для Егорова признаком культуры.
– А мне супчику, – попросил он. – Я без первого не могу.
– На второе? – спросил официант.
– Больше ничего. Я мало ем.
Официант кивнул и отошел.
Егоров стал смотреть на Веронику. Возле ее уха был затек от косметики. Она положила тон, но на периферийных участках не растушевала его, видимо, торопилась. Была резкая грань между крашеной кожей и некрашеной. Некрашеная поражала своей бледностью и беззащитностью. Хотелось притянуть ее голову к своей груди и замереть. Эта женщина изображала из себя хозяйку жизни, но она была замученная и заброшенная, как детдомовский ребенок. И нежная. Очень нежная. Он помнил все, что было между ними этой ночью, и не имело значения, что этого не было.
Вероника достала из сумки ученическую тетрадь в клеточку. Раскрыла ее и протянула Егорову.
Тетрадь была разлинована на колонки. Над каждой колонкой своя надпись: цвет, удельный вес, реакция, белок, лейкоциты, эритроциты, цилиндры и так далее. Внизу под надписями шли цифры.
– Что это? – удивился Егоров.
– Это анализы моей дочери, – спокойно ответила Вероника. – Я записала все ее анализы за последний месяц.
– Большая бухгалтерская работа, – отметил Егоров.
Он все понял. Она пробралась в его кабинет потому, что у нее больна дочь. Статья – повод. Цель оправдывала средства, и для достижения цели все было пущено в ход, включая вчерашний вечер. А если бы понадобилось, то и ночь. Та ночь, которой не было между ними, могла бы быть. Если бы это было НАДО. Егорова как будто ударили палкой по лицу. На «а вдруг» наступили ногой. «А вдруг» крякнуло под сапогом и сдохло. Егоров молчал, справляясь с собой. Он, как сван, решил ничем не обнаруживать свои чувства. Она не знает про «а вдруг» и не узнает никогда.
Подошел официант, поставил кофе и солянку.
– Водки, пожалуйста. Я забыл заказать.
Надо было выпить за светлую память «а вдруг». Поставить точку.
– А разве нельзя было нормально мне позвонить и обратиться нормально? Зачем эта легенда с очерком? Зачем было врать?
– Я звонила. Но вы не хотели меня слушать. Сказали, что это несерьезный разговор.
– Когда? – удивился Егоров.
– Вы потребовали снимки. Я сказала, что их нет. Вы бросили трубку.
– Да… – вспомнил Егоров. – Действительно звонила какая-то ненормальная.
– Эта ненормальная – я.
– Но я и сейчас скажу то же самое. Стойкий белок может давать врожденный порок. Его надо исключить. Для этого нужны рентгеновские снимки.
– А можно сделать их амбулаторно? Чтобы не класть в больницу. Привезти ребенка. Сделать. И увезти обратно.
Егоров задумался. Амбулаторная урография, конечно, возможна, но это нарушение правил.
– А кто этим будет заниматься? – спросил Егоров и прямо посмотрел в ее лицо. Тон под ее глазами растрескался, и те морщинки, которые она рассчитывала скрыть, обозначились более явственно.
– Вы! – бесстрашно ответила Вероника и посмотрела на Егорова как человек, имеющий на него права.
Егоров внутренне считал, что она его обманула и он ничего ей не должен. Но ее морщины и бесстрашие отчаяния тронули его.
– Хорошо, – сказал он, помолчав. – Завтра я вас жду.
– Спасибо, – одними губами произнесла Вероника. Чувствовалось, что на этот разговор у нее ушли километры нервов.
– Это все? – спросил Егоров.
– Это все.
Они замолчали отчужденно. Вероника была вся в завтрашнем дне. Завтра Ане проткнут вену и введут синьку, и вся ее кровь станет синей, как у инопланетянки. Надо будет и это пережить.
Официант принес водку и маслины.
– Можно, я не буду с вами пить? – спросила Вероника.
– Ну конечно.
Снова замолчали.
– Как вас дома зовут? – спросил Егоров.
– Ника.
– И меня Ника.
– Почему? – Она искренне удивилась.
– Потому что я Николай.
Ника и Ника. То, что случилось между ними, могло стать любовью, но не стало. Пронесся в небе и сгорел метеорит. А могла быть звезда. Она пошла к нему на встречу во вторник. А он к ней – в среду. Их дороги не совпали на один день. Казалось бы, какая мелочь: один день. Но все трагедии – в несинхронности. Когда это случается на биохимическом уровне клетки – рождаются уроды. А когда несинхронность в судьбах, случаются судьбы-ошибки. Судьбы-уроды.
– Я пойду. – Вероника поднялась.
– Идите, конечно.
Она ушла.
Он положил свою тяжелую голову на тяжелый Тюнькин кулак. Решил напиться до черной воды, но с этим ничего не получилось. Он трезвел с каждой рюмкой, и все предметы вокруг и мысли становились все отчетливее. Теперь он знал своими трезвыми мозгами: время не проходит. Время стоит. Проходит человек. Он, Егоров, прошел свою молодость и свою зрелость. И поднялся на новый возрастной этаж. Поближе к небу. Его игры сыграны. Но зато какие открываются перспективы. Будет лечить детей, запускать в будущее полноценных членов общества. А на тех, кто ищет и надеется, он будет смотреть вниз, как с балкона высокого этажа. Они будут мельтешить внизу в своем кошачьем беспокойстве, а он поплевывать вниз и думать: «Бегайте, бегайте, думаете, вам что-нибудь покажут… А я свободен. Я ничего не жду». И он будет надо всеми – одинок и свободен. И ближе к Богу.
На другой день, в четверг, Вероника и Аня приехали в назначенное время. Егоров был занят, но их встретил печальный Марутян. Он забрал Аню, а Веронику попросил подождать в приемной у Симы.
– Она без вас будет спокойнее, – объяснил Марутян.
Аня как-то сразу доверилась Марутяну и ушла вместе с ним не без удовольствия.
Вероника осталась ждать. Потекли главные минуты, определяющие дальнейший ход жизни. Все остальное на этом фоне не имело никакого значения. Через полчаса определится: сейчас, сегодня, завтра, через неделю и навсегда.
Сима налила ей кофе – признак особого расположения. Она делила всех посетителей на тех, кому кофе, тех, кому чай, и кому ничего. Ничего – тем, кто думал, что за свои деньги могут купить не только Егорова, но и всю клинику вместе с Симой.
Сима рылась в своих бумагах, печатала на машинке, отвечала на звонки и делала это тихо. Тихо отвечала, тихо перекладывала листки. У нее было поразительное понимание второго человека. Это, наверное, и есть интеллигентность: чувствовать другого, как себя самого.
Через двадцать минут Марутян привел Аню. Она шла на своих ногах – живая и здоровая и нормального цвета. Однако недовольная. Вокруг ее глаз были красные пятна, значит, всплакнула. Платье было надето задом наперед, застежкой впереди. Вероника подхватила дочь, прижала к себе, чтобы из ее тела мощными струями перетекала любовь в это маленькое беззащитное тельце. Потом поставила Аню на стул и стала поправлять на ней платье. Перевернула застежкой на спину, застегнула все пуговички, сначала на спине, потом на манжетах. Эти привычные домашние действия успокоили Аню. Она чувствовала себя в безопасности. А Сима смотрела на них и качала головой.
– Сюда лучше не попадать, – приговаривала Сима. – Лучше не попадать.
Вошел Егоров. Марутян протянул ему мокрые рентгеновские снимки. С них капала вода.
Егоров и Марутян пошли в кабинет. Вероника растерянно посмотрела на Симу. Сима махнула ей рукой в сторону кабинета. Вероника и Аня вошли следом. На них не обращали внимания.
Егоров поставил рентгеновские снимки на светящийся экран. Стал смотреть с пристрастием. Марутян стоял рядом. Они переговаривались. Вероника прижала к себе Аню. Ждала. Каждый нерв был взвинчен до предела. Так, наверное, пережидали партизаны в погребе, когда наверху ходили немцы, и непонятно: пронесет или убьют.
Вошел Кабан. Увидел Веронику и счел нужным развлечь ее разговорами. Он сыпал словами, чуть не анекдотами. Хотелось сказать «да заткнитесь», даже ударить. Но Вероника молчала, физически мучаясь от его голоса.
Егоров выключил экран.
– Затемнение в лоханках, – сказал он. – Процесс на почки не распространился. Пиелит.
– Это хорошо или плохо? – не поняла Вероника.
– Это лучше, чем пиелонефрит, – объяснил Марутян.
– Я бы антибиотиков не давал. Заваривайте травы: медвежье ушко, петрушку. Клюквенный морс. Побольше питья.
– А врожденный порок? – растерянно спросила Вероника.
– Его нет, – ответил Егоров.
– Это не такое уж частое явление, – подробнее объяснил Марутян. – Врожденные пороки по статистике бывают у двенадцати процентов. Вы попали в восемьдесят восемь процентов нормы.
Вероника молчала. У нее было потрясенное лицо.
– Но ведь в восемьдесят восемь процентов попасть легче, чем в двенадцать, – растолковывал Кабан. Видимо, он принял растерянность Вероники за ее бестолковость.
Вошла Галина Павловна. Они с Егоровым заговорили о своем. Вероника поняла, что она лишняя. Взяла Аню за руку, и они пошли из кабинета.
– До свидания, – попрощалась Вероника.
– До свидания. – Егоров поднял на нее спокойные льдистые глаза.
Из кабинета вышли в приемную.
– Скажи тете: спасибо, – посоветовала Вероника.
– Спасибо, тетя, – послушно отозвалась Аня.
– Пожалуйста, моя деточка! – Симины глаза увлажнились. – Какая чудесная девочка. Как пирог с вишнями!
Аня сконфуженно улыбнулась, склонив голову к плечу. Она любила, когда ее хвалят.
Егоров подошел к окну. Смотрел, как Вероника и девочка идут по больничному двору. Девочка была похожа на мать, и ему показалось, что Вероника идет рядом со своим детством. Егоров подумал: обернется или нет? Не обернулась. Вышла за ворота. Последний раз промелькнула сквозь решетки ее легкая голова.
В кабинете было душно. Панельные блоки не дышали. Егоров отомкнул тугие шпингалеты, раскрыл окно. Внизу, из-за дерева, возникла пара сванов. Похоже, они караулили Егорова, чтобы попасться ему на глаза. Они выступили из-за дерева и застыли в неподвижности, как бы являя собой композицию: благодарность. Их руки были прижаты к груди, глаза умиленно растаращены, губы шевелились, как во время молитвы. А может быть, они действительно на него молились.
Вероника зашла в автоматную будку, нашарила в кармане монету, позвонила Алеше на работу. Он ждал ее звонка. Алешин голос радостно взметнулся. Вероника дала трубку Ане. Она сказала свои «да» и «нет». В будке пахло мочой.
Вышли на улицу. День стоял ясный, умиротворенный, обеспечивал сейчас, сегодня и всегда. Все страхи закончились клюквой и петрушкой. Практически ничем. Вероника должна была испытывать не просто радость – счастье до эйфории. Но счастья не прослушивалось. Была усталость. И пустота. Хотелось сесть и не двигаться, как зайцу. Но Аня шла рядом, вложив в ее руку свои цапучие пальчики. Значит, надо было идти. И она шла.
Дома их встретила Нюра с котенком на плече. Котенок был крошечным, величиной с варежку.
– С работы привезли, – объяснила Нюра.
Вероника догадалась, что главный передал обещанное через курьера.
Нюра поставила котенка перед Аней. Он поднял хвост и зашипел. Аня испугалась, и ее личико стало напряженным. Они стояли друг перед другом: маленькая девочка и маленькая кошка – и боялись друг друга.
– Во тьманник! – незло осудила Нюра котенка. «Тьманник» – значило носитель тьмы.
– Какой же он тьманник, – заступилась Вероника. – Он маленький.
Вероника подняла котенка с пола, посадила его себе на плечо. Прижалась щекой к его щеке. Он тут же замурлыкал в самое ухо – так громко, будто затрещал, как мотоцикл. Может быть, он пел свой кошачий гимн солнцу.
Старая собака
Инна Сорокина приехала в санаторий не за тем, чтобы лечиться, а чтобы найти себе мужа. Санаторий был закрытого типа, для высокопоставленных людей, там вполне мог найтись для нее высокопоставленный муж. Единственное условие, которое она для себя оговорила, – не старше восьмидесяти двух лет. Все остальное, как говорила их заведующая Ираида, имело место быть.
Инне шел тридцать второй год. Это не много и не мало, смотря с какой стороны смотреть. Например, помереть – рано, а вступать в комсомол – поздно. А выходить замуж – последний вагон. Поезд уходит. Вот уже мимо плывет последний вагон. У них в роддоме тридцатилетняя женщина считается «старая первородящая».
Замужем Инна не была ни разу. Тот человек, которого она любила и на которого рассчитывала, очень симпатично слинял, сославшись на объективные причины. Причины действительно имели место быть, и можно было понять, но ей-то что. Это ведь его причины, а не ее.
В наше время принято выглядеть на десять лет моложе. Только малокультурные люди выглядят на свое. Инна не была малокультурной, но выглядела на свое – за счет лишнего веса. У нее было десять лишних килограммов. Как говорил один иностранец: «Ты немножко тольстая, стрэмительная, и у тебя очень красивые глаза…»
Инна была «немножко тольстая», высокая крашеная блондинка. Волосы она красила югославской краской. Они были у нее голубоватые, блестящие, как у куклы из магазина «Лейпциг». Время от времени она переставала краситься – из-за хандры, или из-за того, что пропадала краска, или лень было ехать в югославский магазин, – и тогда от корней начинали взрастать ее собственные темно-русые волосы. Они отрастали почти на ладонь, и голова становилась двухцветной – половина темная, а половина белая.
Сейчас волосы были тщательно прокрашены и промыты и существовали в прическе под названием «помоталка». Идея прически состояла в следующем: вымыть голову ромашковым шампунем и помотать головой, чтобы они высохли естественно и вольно, без парикмахерского насилия.
Одета Инна была в белые фирменные джинсы и белую рубаху из модной индийской марли и в этом белом одеянии походила на индийского грузчика, с той только разницей, что индийские грузчики – худые брюнеты, а Инна – плотная блондинка.
Войдя в столовую, Инна оглядела зал. Публика выглядела как филиал богадельни. Старость была представлена во всех вариантах, во всем своем многообразии. Средний возраст, как она мысленно определила, – сто один год.
Инна поняла, что зря потратила отпуск, и деньги на путевку, и деньги на подарок той бабе, которая эту путевку доставала.
Инну посадили за стол возле окна на шесть человек. Против нее сидела старушка с розовой лысинкой, в прошлом клоун, и замужняя пара. Он – по виду завязавший алкоголик. У него были неровные зубы, поэтому неровный язык, как хребет звероящера, и привычка облизываться. Она постоянно улыбалась, хотела понравиться Инне, чтобы та, не дай Бог, не украла ее счастье в виде завязавшего алкоголика с ребристым языком. Одета была как чучело, будто вышла не в столовую высокопоставленного санатория, а собралась в турпоход по болотистой местности.
Завтрак подавали замечательный, с деликатесами. Но какое это имело значение? Ей хотелось пищи для души, а не для плоти. Хотелось влюбиться и выйти замуж. А если не влюбиться, то хотя бы просто устроиться. Человеческая жизнь рассчитана природой так, чтобы успеть взрастить два поколения – детей и внуков. Поэтому все надо успеть своевременно. Эту беспощадную своевременность Инна наблюдала в прошлый отпуск в деревне. Три недели стояла земляника, потом пошла черника, а редкие земляничные ягоды будто напились воды. Следом – малина. За малиной – грибы. Было такое впечатление, что все эти дары лета выстроились в очередь друг за дружкой и тот, кто стоит в дверях, выпускает их одного за другим на определенное время. И каждый вид знает, сколько ему стоять. Так и человеческая жизнь: до четырнадцати лет – детство. От четырнадцати до двадцати четырех – юность. С двадцати четырех до тридцати пяти – молодость. Дальше Инна не заглядывала. По ее расчетам, ей осталось три года до конца молодости, и за эти три года надо было успеть что-то посеять, чтобы потом что-то взрастить.
Внешне Инна была высокая блондинка. А внутренне – наивная хамка. Наивность и хамство – качества полярно противоположные. Наивность связана с чистотой, а хамство – с цинизмом. Но в Инне все это каким-то образом совмещалось – наивность с цинизмом, ум с глупостью и честность с тяготением к вранью. Она была не врунья, а вруша. На первый взгляд это одно и то же. Но это совершенно разные вещи. По задачам. Врунья врет в тех случаях, когда путем вранья она пытается чего-то достичь. В данном случае – это оружие. Средство. А вруша врет просто так. Ни за чем. Знакомясь с людьми, она говорила, что работает не в родильном доме, а в кардиологическом центре, потому что сердце казалось ей более благородным органом, чем тот, с которым имеют дело акушерки. В детстве она утверждала, что ее мать не уборщица в магазине, а киноактриса, работающая на дубляже (поэтому ее не бывает видно на экранах).
Наивность среди прочих проявлений заключалась в ее манере задавать вопросы. Она, например, могла остановить крестьянку и спросить: «А хорошо жить в деревне?» Или спросить у завязавшего алкоголика: «А скучно без водки?» В этих вопросах не было ничего предосудительного. Она действительно была горожанка, никогда не жила в деревне, никогда не спивалась до болезни, и ее интересовало все, чего она не могла постичь собственным опытом. Но, встречаясь с подобным вопросом, человек смотрел на Инну с тайным желанием понять: она дура или придуривается?
Что касается хамства, то оно имело у нее самые разнообразные оттенки. Иногда это было веселое хамство, иногда обворожительное, создающее шарм, иногда умное, а потому циничное. Но чаще всего это было нормальное хамское хамство, идущее от постоянного общения с людьми и превратившееся в черту характера. Дежуря в предродовой, она с трудом терпела своих рожениц, трубящих как слоны, дышащих как загнанные лошади. И роженицы ее боялись и старались вести себя прилично, и бывали случаи – рожали прямо в предродовой, потому что стеснялись позвать лишний раз.
Возможно, это хамство было как осложнение после болезни – дефект неустроенной души. Лечить такой дефект можно только лаской и ощущением стабильности. Чтобы любимый муж, именно муж, звонил на работу и спрашивал: «Ну, как ты?» Она бы отвечала: «Да ничего…» Или гладил бы по волосам, как кошку, и ворчал без раздражения: «Ну что ты волосы перекрашиваешь? И тут врешь. Только бы тебе врать».
Прошла неделя. Погода стояла превосходная. Инна томилась праздностью, простоем души и каждое утро после завтрака садилась на лавочку и поджидала: может, придет кто-нибудь еще. Тот, кто должен приехать. Ведь не может же Он не приехать, если она ТАК его ждет.
Клоунесса усаживалась рядом и приставала с вопросами. Инна наврала ей, что она психоаналитик. И клоунесса спрашивала, к чему ей ночью приснилась потрошеная курица.
– Вы понимаете, я вытащила из нее печень и вдруг понимаю, что это моя печень, что это я себя потрошу…
– А вы Куприна знали? – спросила Инна.
– Куприна? – удивилась клоунесса. – А при чем здесь Куприн?
– А он цирк любил.
Старушка подумала и спросила:
– А как вы думаете, есть жизнь после жизни?
– Я ведь не апостол Петр. Я психоаналитик.
– А что говорят психоаналитики?
– Конечно, есть.
– Правда? – обрадовалась старушка.
– Конечно, правда. А иначе – к чему все это?
– Что «это»?
– Ну Это. Все.
– Честно сказать, я тоже так думаю, – шепотом поделилась клоунесса. – Мне кажется, что Это начало Того. А иначе зачем Это?
– Чтобы нефть была.
– Нефть? А при чем тут нефть?
– Каменный уголь – это растения. Торф. А нефть – это люди. Звери.
– Но я не хочу в нефть.
– Мало ли что…
– Но вы же только что сказали «есть», а сейчас говорите – нефть, – обиделась старушка.
В этот момент в конце аллеи показалась «Волга». Она ехала к главному корпусу, и правильно сказать – не ехала, а летела, будто не касалась колесами асфальтированной дорожки. Инна насторожилась. Так могла лететь только судьба. Возле корпуса машина встала. Не остановилась и не затормозила, а именно встала как вкопанная. Чувствовалось, что за рулем сидел супермен, владеющий машиной, как ковбой мустангом.
Дверца «Волги» распахнулась, и с двух сторон одновременно вышли двое: хипповая старушка с тонкими ногами в джинсовом платье и ее сын, а может, и муж с бородкой под Добролюбова. «Противный», – определила Инна, но это было неточное определение. Он был и привлекателен, и отталкивающ одновременно. Как свекла – и сладкая, и пресная в одно и то же время.
Он взял у старушки чемодан и понес его в корпус. «Муж», – догадалась Инна. Он был лет на двадцать моложе, но в этом возрасте, семьдесят и пятьдесят, разница не смотрится так контрастно, как, скажем, в пятьдесят и тридцать. Инна знала, сейчас модны мужья, годящиеся в сыновья. Как правило, эти внешне непрочные соединения стоят подолгу, как временные мосты. Заведующая Ираида старше своего мужа на семнадцать лет и все время ждет, что он найдет себе помоложе и бросит ее. И он ждет этого же самого и все время высматривает себе помоложе, чтобы бросить Ираиду. И это продолжается уже двадцать лет. Постоянные временщики.
Во время обеда она, однако, заметила, что сидят они врозь. Старушка в центре зала, а противный супермен – возле Инны. «Значит, не родственники», – подумала она и перестала думать о нем вообще. Он сидел таким образом, что не попадал в ее поле зрения, и она его в это поле не включила. Смотрела перед собой в стену и скучала по работе, по своему любимому человеку, который хоть и слинял, но все-таки существовал. Он же не умер, его можно было бы позвать сюда, в санаторий. Но звать не хотелось, потому что неинтересно было играть в проигранную игру.
Вспоминала новорожденных, спеленатых, как рыбки шпроты, и так же, как шпроты, уложенных в коляску, которую она развозила по палатам. Она набивала коляску детьми в два раза больше, чем положено, чтобы не ходить по десять раз, и возила в два раза быстрее. Рационализатор. И эта коляска так грохотала, что мамаши приходили в ужас и спрашивали: «А вы их не перевернете?»
Новорожденные были похожи на старичков и старушек, вернее, на себя в старости. Глядя на клоунессу, сидящую напротив, и вспоминая своих новорожденных, Инна понимала, что природа делает кольцо. Возвращается на круги своя. Новорожденный нужен матери больше всего на свете, а у глубоких стариков родителей нет, и они нужны много меньше, и это естественно, потому что природа заинтересована в смене поколений.
Клоунесса с детской жадностью жевала холодную закуску. Инна догадывалась, что для этого возраста ценен только факт жизни сам по себе, и хотелось спросить: «А как живется без любви?»
– А где моя рыба? – спросил противный супермен.
Он задал этот вопрос вообще. В никуда. Как философ. Но Инна поняла, что этот вопрос имеет к ней самое прямое отношение, ибо, задумавшись, она истребила две закуски: свою и чужую. Она подняла на него большие виноватые глаза. Он встретил ее взгляд – сам смутился ее смущением, и они несколько длинных, нескончаемых секунд смотрели друг на друга. И вдруг она увидела его. А он – ее.
Он увидел ее глаза и губы – наполненные, переполненные жизненной праной. И казалось, если коснуться этих губ или даже просто смотреть в глаза, прана перельется в него и тело станет легким, как в молодости. Можно будет побежать трусцой до самой Москвы.
А она увидела, что ему не пятьдесят, а меньше. Лет сорок пять. В нем есть что-то отроческое. Седой отрок. Интеллигент в первом поколении. Разночинец. Было очевидно, что он занимается умственным трудом, и очевидно, что его дед привык стоять по колено в навозе и шуровать лопатой. В нем тоже было что-то от мужика с лопатой, отсюда бородка под Добролюбова. Маскируется. Прячет мужика. Хотя – зачем маскироваться? Гордиться надо.
Еще увидела, что он – не свекла. Другой овощ. Но не фрукт. Порядочный человек. Это было видно с первого взгляда. Порядочность заметна так же, как и непорядочность.
Она все смотрела, смотрела, видела его детскость, беспородность, волосы серые с бежевым, иностранец называл такой цвет «коммунальный», бледные губы, какие бывают у рыжеволосых, покорные глаза, привыкшие перемаргивать все обиды, коммунальный цвет усов и бороды.
– Как вас зовут? – спросила Инна.
– Вадим.
Когда-то, почти в детстве, ей это имя нравилось, потом разонравилось, и сейчас было скучно возвращаться к разочарованию.
– Можно, я буду звать вас иначе? – спросила она.
– Как?
– Адам.
Он тихо засмеялся. Смех у него был странный. Будто он смеялся по секрету.
– А вы – Ева.
– Нет. Я Инна.
– Ин-нна… – медленно повторил он, пружиня на «н».
Имя показалось ему прекрасным, просвечивающим на солнце, как виноградина.
– Это ваше имя, – признал он.
После обеда вместе поднялись и вместе вышли.
Вокруг дома отдыха шла тропа, которую Инна называла «гипертонический круг». На этот круг отдыхающие выползали, как тараканы, и ползли цепочкой друг за дружкой.
Инна и Адам заняли свое место в цепочке. Навстречу и мимо них прошла клоунесса в паре с хипповой старушкой. На старушке была малахитовая брошь, с которой было бы очень удобно броситься в пруд вниз головой. Никогда не всплывешь. Обе старушки обежали Инну и Адама глазами, объединив их своими взглядами, как бы проведя вокруг них овал. Прошли мимо. Инна ощутила потребность обернуться. Она обернулась, и старушки тоже вывернули шеи. Они были объединены каким-то общим флюидным полем. Инне захотелось выйти из этого поля.
– Пойдемте отсюда, – предложила она.
– Поедем на речку.
Дорога к реке шла сквозь высокую рожь, которая действительно была золотая, как в песне. Стебли и колосья скреблись в машину. Инна озиралась по сторонам, и казалось, что глаза ее обрели способность видеть в два раза ярче и интереснее. Было какое-то общее ощущение событийности, хотя невелико событие – ехать на машине сквозь высокую золотую рожь.
Изо ржи будто нехотя поднялась черная сытая птица.
– Ворона, – узнала Инна.
– Ворон, – поправил Адам.
– А как вы различаете?
– Вы, наверное, думаете, что ворон – это муж вороны. Нет. Это совсем другие птицы. Они так и называются: ворон.