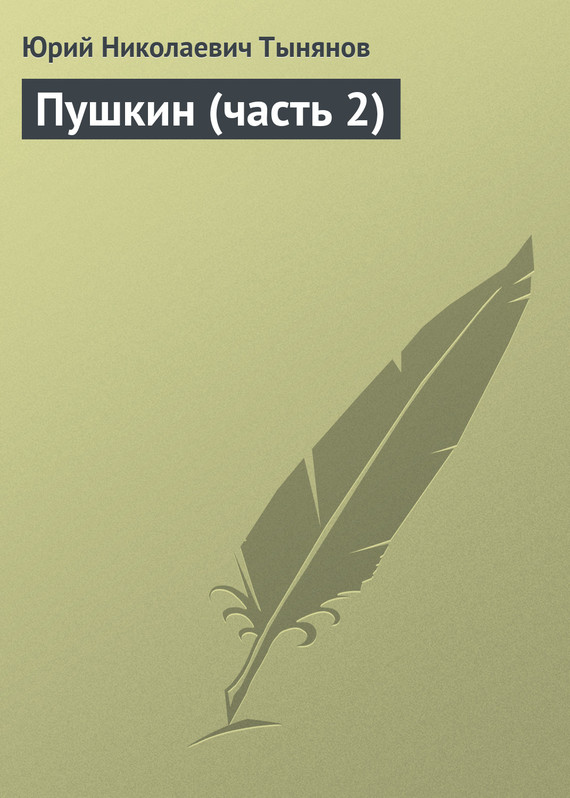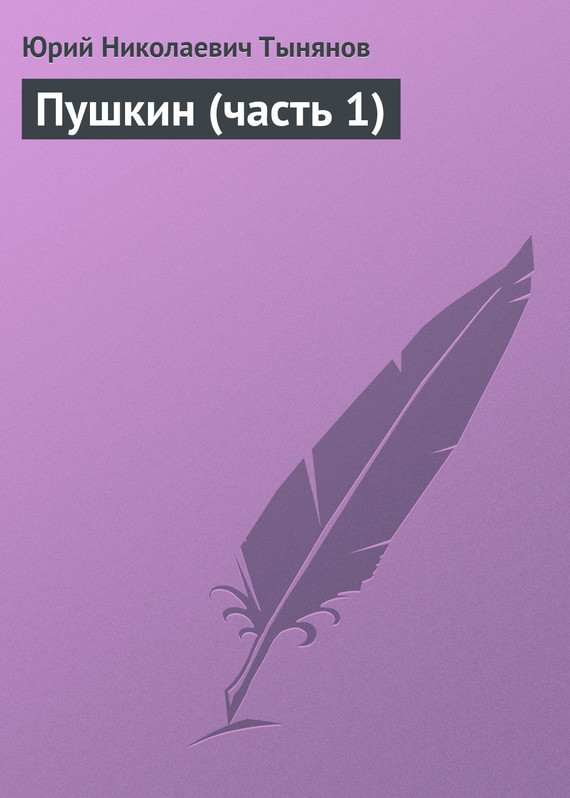Возвращение со звезд Лем Станислав
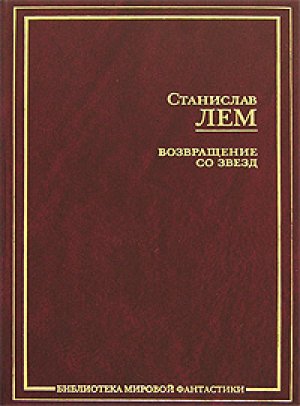
— Ведь... ты думаешь, что все эти бутылки я держу здесь, где живу?
— Не здесь? А где'же?
— Не знаю даже, откуда они берутся. В твое время был водопровод?
— Был,— угрюмо ответил я.— Не везде, конечно. Я забрался в ракету прямо из лесной чащи.
Меня охватило бешенство, но я заставил себя успокоиться, в конце концов она же не виновата.
— Вот видишь — разве ты знал, где протекает вода, прежде чем...
— Понимаю, не объясняй. Хорошо. Значит, это такая мера предосторожности? Очень странно.
— По-моему, ничего странного,— возразила Наис,— что у тебя там, такое белое, под одеждой?
— Рубашка.
— Что это такое?
— Ты не видала рубашек? Ну... белье. Нейлоновое.
Я засучил рукав свитера и показал ей.
— Интересно,— сказала она.
— Такой обычай...— беспомощно проговорил я. Действительно, мне советовали в Адапте не одеваться так, как сто лет назад; я не послушался. Но я не мог не согласиться с Наис: брит был для меня тем же, чем для нее рубашка. Никто ведь не заставлял людей носить рубашки, а тем не менее все носили. Видимо, с бритом было то же самое.
— Сколько времени действует брит? — спросил я.
Щеки Наис слегка порозовели.
— Как ты торопишься. Еще ничего не известно.
— Я ничего плохого не сказал,— извинился я,— я просто хотел знать, почему ты так смотришь? Что с тобой? Наис!
Девушка медленно поднялась. Встала за креслом.
— Сколько лет назад, сказал ты? Сто двадцать?
— Сто двадцать семь. И что из этого?
— А был ли... ты... бетризирован?
— А что это такое?
— Не был?!
— Я же не знаю, что это значит. Наис, да что с тобой?
Я хотел подойти к ней. Она подняла руки.
— Не подходи! Нет! Нет! Умоляю!
Она отступала к стене.
— Ты же сама говорила, что брит... Ну, я сажусь. Сижу, видишь? Успокойся. Так в чем дело с этим бе... Как его там?
— Не знаю точно. Но... каждого бетризируют. Как только родится.
— А что это такое?
— Кажется, что-то вводят в кровь.
— Всем?
— Да. А... брит... не действует без этого. Не шевелись!
— Деточка, не смеши меня.
Я погасил сигарету.
— Я же не дикий зверь... Не сердись, но... мне кажется, что вы все немножко не в своем уме. Ваш брит... это же значит, что всем следует надеть наручники, а то вдруг кто-то окажется вором. Можно же... немного доверять.
— Хорош же ты.— Она немного успокоилась, но по-прежнему стояла.— Тогда почему же ты так возмущался, что я привожу в дом посторонних?
— Это совсем другое дело.
— Не вижу разницы. Тебя точно не бетризировали?
— Точно.
— А может, теперь? Когда ты вернулся?
— Не знаю, какие-то уколы делали. Разве это имеет значение?
— Имеет. Делали? 'Хорошо.
Она села.
— У меня к тебе просьба,— сказал я как можно спокойнее.— Ты должна мне объяснить...
— Что?
— Почему ты так испугалась? Ты боялась, что я на тебя брошусь? Или еще чего-то? Это же чепуха!
— Нет. Если подумать, то ерунда, но все это очень сильно подействовало, понимаешь ли. Прямо шок. Я никогда не видела человека, которого не...
— Но ведь этого нельзя узнать.
— Можно. Еще как можно!
— Как?
Она молчала.
— Наис...
— Но я... мне...
— Что?
— Страшно...
— Сказать?
— Да.
— Но почему?
— Видишь ли, бетризируют не бритом. Брит — это побочный эффект... Дело совсем в другом...
Она побледнела. Губы ее дрожали. Что за мир, думал я, что за мир?
— Не могу. Я ужасно боюсь.
— Меня?
— Да.
— Клянусь тебе, что...
— Нет, нет, я тебе верю, да только... нет. Этого ты понять не в силах.
— И ты мне не скажешь?
В моем голосе прозвучало, видимо, нечто, заставившее ее перебороть себя. Лицо ее стало суровым. По ее глазам я видел, каких усилий все это ей стоило.
— Это затем, чтобы... не убивать.
— Не может быть! Человека?
— Никого...
— И животных?
— И животных. Никого...
Наис переплетала и расплетала пальцы, не сводя с меня глаз,— как будто этими словами спустила меня с невидимой цепи, как будто вложила мне в руки нож, который я мог в нее вонзить.
— Наис,— произнес я совсем тихо.— Наис, не бойся. Правда... тебе некого бояться.
Она попыталась улыбнуться.
— Слушай...
— Да?
— Когда я это сказала...
— Да?
— Ты ничего не почувствовал?
— А что я должен почувствовать?
— Представь, что ты делаешь то, о чем я тебе сказала...
— Что я убиваю? Мне надо представить себе это?
Наис содрогнулась.
— Да...
— Ну и что?
— И ничего не чувствуешь?
— Ничего. Но ведь я просто подумал, я вовсе не собираюсь...
— Но ты можешь? Да? Действительно можешь? Нет,— шепнула она почти беззвучно, словно самой себе,— тебя не бетризировали...
Только теперь до меня дошло, о чем идет речь, я понял, что даже мысль об этом была для нее потрясением.
— Это большое дело,— буркнул я. И, помолчав, добавил: — Но, может, было бы лучше, если бы люди отвыкли от этого... без искусственных средств...
— Не знаю. Может быть,— ответила Наис и перевела дыхание.— Теперь понимаешь, почему я испугалась?
— Правду говоря, не совсем. Кое-что, возможно, понимаю. Но не думала же ты, что я тебя...
— Какой ты странный! Прямо словно ты и не...— осеклась она.
— Словно я и не человек?
Наис часто-часто заморгала.
— Я не хотела тебя обидеть, но, видишь ли, если известно, что никто не может — знаешь ли — даже подумать об этом, никогда,— и вдруг появляется кто-то вроде тебя, то даже возможность... то, что он такой...
— Невероятно, чтобы все были — как это? А, бетризированы...
— Почему? Все, говорю тебе!
— Нет, не может быть,— упрямился я.— А люди опасных профессий? Они ведь должны...
— Нет опасных профессий.
— Что ты говоришь, Наис? А пилоты? А разные спасатели? А те, что воюют с огнем, с водой...
— Таких нет,— сказала Наис.
Мне показалось, что я ослышался.
— Что-о-о?
— Таких нет,— повторила она.— Это делают роботы.
Наступило молчание. Я подумал, что мне нелегко будет освоить новый мир. И вдруг мне в голову пришла удивительная мысль,— до этого я никогда не мог бы додуматься, если бы кто-нибудь представил мне такую ситуацию лишь как теоретическую возможность — уничтожить с помощью подобной процедуры убийцу в человеке значит... искалечить его.
— Наис,— заговорил я,— уже очень поздно. Пожалуй, я пойду.
— Куда?
— Не знаю. Правда! На вокзале меня должен был встречать кто-то из Адапта. Я совсем забыл! Знаешь, я не смог его найти. Ну, тогда... поищу гостиницу. Наверное, они есть?
— Есть. Ты откуда?
— Из этого города. Здесь родился.
После этих слов вернулось ощущение нереальности всего, и я уже не был уверен, существовал ли город, живущий теперь лишь во мне, явь ли этот призрачный мир с комнатами, в которые заглядывают головы исполинов; какое-то мгновение я думал, не нахожусь ли я на борту космического корабля и не снится ли мне еще один, особенно отчетливый кошмар о возвращении.
— Брегг,— донесся до меня словно издалека ее голос. Я вздрогнул. Я совершено забыл о ней.
— Да... Слушаю?
— Останься.
— Что?
Наис молчала.
— Ты хочешь, чтобы я остался?
Молчание. Я подошел к ней, наклонясь над креслом, обнял ее холодные плечи, приподнял девушку. Она безвольно встала. Голова ее запрокинулась назад, блеснули зубы, я не хотел ее, я хотел только сказать ей: ты же боишься,— и чтобы она ответила: нет. И больше ничего. Глаза Наис были закрыты, сквозь ресницы вдруг показались белки, я склонился к ее лицу, заглянул в ее остекленевшие глаза, словно желая понять ее страх, разделить его. Наис вырывалась, задыхаясь, но я не чувствовал этого, только когда она застонала: нет! нет! — я разжал объятия. Наис чуть не упала. Она стояла у стены, заслоняя часть гигантского толстощекого лица, которое там, за стеклом, без остановки говорило что-то, слишком старательно шевеля огромными губами и толстым языком.
— Наис...— сказал я тихо, опустив руки.
— Не подходи!
— Ты же сама сказала...
Глаза у нее были безумные.
Я прошелся по комнате. Она не сводила с меня глаз, словно я был... словно она стояла в клетке...
— Я пойду,— заговорил я. Наис молчала. Я хотел что-нибудь добавить — пару слов извинений, благодарности, чтобы не уходить просто так, но не смог. Если бы она боялась меня, как женщина боится мужчину, чужого, пусть даже опасного, неизвестного,— ну, что поделать! Но это было другое. Я взглянул на нее и почувствовал, как меня охватывает гнев. Схватить за эти белые обнаженные плечи, встряхнуть...
Я отвернулся и вышел; наружная дверь поддалась, когда я толкнул ее, в большом коридоре было довольно темно. Я не знал, как выйти на террасу, но наткнулся на полные неясного синеватого света цилиндры — шахты лифтов. Тот, к которому я подошел, уже поднимался ко мне; может, достаточно было ступить на порог. Опускался лифт долго. Попеременно виднелись пласты темноты и сечения сводов, белые, с красноватой серединой, как слои жира в мясе, они уходили вверх, я потерял им счет, лифт все опускался и опускался, это напоминало путешествие на дно, словно меня запустили внутрь стерильного канала и огромное, погруженное в сон и безопасность здание избавлялось от меня; часть прозрачного цилиндра открылась, я пошел куда глаза глядят.
Руки в карманах, темнота, твердый, широкий шаг, я жадно вдыхал холодный воздух, чувствуя, как у меня на вдохе раздуваются ноздри, как сердце размеренно работает, перегоняя кровь, огни переливались внизу, в щелях мостовой, заслоняемые беззвучными машинами, не было ни одного прохожего. Между черными силуэтами сияло зарево, я подумал, может, там гостиница. Но это был просто освещенный тротуар. Я поехал на нем. Надо мной проплывали белесые фермы каких-то конструкций, где-то далеко, над черными краями зданий, размеренно скользили буквы световых газет, неожиданно тротуар вынес меня в освещенное помещение и кончился.
Широкие ступени плыли вниз, серебрясь, как застывший водопад. Меня удивляла пустота; с тех пор как я покинул Наис, мне не встретился ни один прохожий. Эскалатор был очень длинный. Внизу светилась широкая улица, по обеим сторонам в домах расположились пассажи, под деревом с голубыми листьями — но оно могло быть ненастоящее — я увидел людей, направился к ним, но повернул назад. Они целовались. Я пошел на приглушенные звуки музыки, какой-то ночной ресторан или бар, ничем не отделенный от улицы. Там сидело несколько человек. Я хотел войти и спросить про гостиницу. Вдруг я налетел всем телом на невидимое препятствие. Это было стекло, абсолютно прозрачное. Вход был рядом. Внутри кто-то засмеялся, показал на меня другим. Я вошел. Мужчина в черном трикотажном костюме, даже немного похожем на мой свитер, но с очень пышным, словно надувным, воротником, сидел боком у столика, со стаканом в руке, и смотрел на меня. Я остановился перед ним. Смех застыл у него на губах. Я стоял. Воцарилась тишина. Только музыка играла, как бы за стеной. Какая-то женщина странно, слабо вскрикнула, я обвел взглядом застывшие лица и вышел. Лишь на улице я вспомнил, что хотел спросить про гостиницу.
Я вошел в пассаж. Кругом витрины. Бюро путешествий, спорттовары, манекены в разных позах. Правда, витринами их вряд ли можно назвать — все стояло и лежало на улице, по обе стороны приподнятого тротуара, проходившего посередине. Несколько раз я принимал движущиеся в глубине фигуры за человеческие. Но они оказывались рекламными куклами, повторяющими без конца одно и то же движение. Одна — чуть ли не с меня ростом — с карикатурно раздутыми щеками, играла на флейте — я рассматривал ее довольно долго. Кукла играла так хорошо, что мне хотелось заговорить с ней. Дальше были залы для каких-то игр, там вращались большие радужные колеса; свободно висящие под потолком серебряные трубки, звеня, как бубенчики, ударялись друг о друга; поблескивали призматические зеркала, но никого не было. В самом конце пассажа вспыхнула надпись: ТУТ ХА ХА ХА. Погасла. Я пошел туда. Снова засияло: ТУТ ХА ХА ХА. И пропало, словно кто-то дунул. При следующей вспышке я разглядел вход. Оттуда слышались голоса. Я прошел сквозь завесу теплого воздуха.
В глубине стояли два бесколесных авто, светило несколько ламп, под ними трое оживленно жестикулировали, будто споря. Я подошел к ним.
— Алло, господа!
Они даже не оглянулись. Продолжали говорить, быстро, я их почти не понимал. «Ну, так сопи, ну, так сопи»,— повторял визгливо низенький, с животиком, в высокой фуражке на голове.
— Господа, я ищу гостиницу. Где здесь...
Спорщики не обращали на меня внимания, словно я не существовал. Я пришел в бешенство и, уже ни слова не говоря, шагнул внутрь их кружка. Тот, что был ближе всех — я видел глуповатый блеск глазных белков и прыгающие губы,— зашепелявил:
— Што мне шопеть? Шам шопи!
Казалось, что он говорит мне.
— Почему вы притворяетесь глухими? — спросил я, и вдруг с того места, где я стоял — словно из меня, из моей груди,— раздался визгливый крик:
— Я тебя! Я тебе сейчас!
Я отскочил и увидел обладателя голоса, толстяка в фуражке. Я хотел схватить его за плечо, пальцы прошли насквозь и сомкнулись в воздухе. Я остолбенел, а они продолжали болтать; тут мне показалось, что сверху, из темноты над автомобилями, кто-то на меня смотрит; приблизившись к границе света, я разглядел смутные пятна лиц, там наверху было что-то вроде балкона. Ослепленный светом, я не мог детально рассмотреть его, но все же понял, какого дурака свалял. Я убежал, словно за мной гнались. Следующая улица шла в гору и заканчивалась у эскалатора. Подумав, что там, возможно, найду какой-нибудь Инфор, я стал подниматься на бледно-золотой движущейся лестнице. Я попал на круглую, не очень большую площадь. Посреди, нее стояла колонна, высокая, прозрачная, как стекло, в ней танцевало что-то, пурпурные, коричневые, фиолетовые формы, ни на что не похожие, как ожившие скульптуры абстракционистов, но очень смешные. То один, то другой цвет сгущался, концентрировался, принимал комичнейшие очертания; сражение форм, хоть и безликих, безголовых, безруких, безногих, выражало нечто человеческое, карикатурное. Вскоре я понял, что фиолетовый цвет — комик-буфф, самонадеянный, хвастливый и вместе с тем трусоватый; когда он рассыпался миллионом танцующих пузырьков, в дело вступал голубой цвет. Он был словно ангелочек, такой скромный, сосредоточенный, но чуточку ханжа, будто сам на себя молился. Не знаю, сколько времени я смотрел. Ничего подобного я ни разу в жизни не видел. Кроме меня, никого — лишь движение черных автомобилей стало интенсивнее. Я не знал даже, есть ли там пассажиры, ведь машины были без окошечек. От круглой площади, пожалуй, на мили, шла тонкая мозаика разноцветных огоньков, намечая шесть улиц; одни вели вверх, другие вниз. И ни одного Инфора. Я порядком устал, и не только физически,— я ощущал, что переполнен впечатлениями. Иногда я просто отключался, конечно, не засыпал на ходу; не помню, как и когда я попал на широкий проспект; задержавшись у перекрестка и подняв голову, я увидел на облаках городское зарево и удивился: я-то думал, что нахожусь под землей. Теперь я опять шел в море движущихся огней, витрин без стекла, среди жестикулирующих, вертящихся, как белка в колесе, без устали повторяющих акробатические трюки манекенов; манекены подавали друг другу что-то блестящее, что-то надували, но я даже не смотрел в их сторону. Вдали от меня шли несколько человек, но я не мог поручиться, что это не куклы, а догонять их мне не хотелось. Дома расступились, стала видна большая надпись: ПАРК ТЕРМИНАЛ и светящаяся зеленая стрелка.
Эскалатор начинался в проходе между домами, сразу тоже попадал в тоннель — серебряный, с золотым пульсом в стенах, казалось, под ртутной пленкой стен действительно тек благородный металл; я ощутил горячее дуновение, все погасло,— я стоял в стеклянном павильоне. Он был в форме раковины, складчатый свод тлел еле заметным зеленым светом тончайших прожилок, словно люминесцировал один увеличенный трепещущий лист; со всех сторон были двери, за ними — темнота и мелкие, скользящие вдоль дороги буковки: ПАРК ТЕРМИНАЛ, ПАРК ТЕРМИНАЛ.
Я пошел туда. Действительно, парк. Протяжно шумели деревья, невидимые во тьме, ветра я не чувствовал; наверное, дул верховой. Шелест листвы, мерный, торжественный, окружал меня незримым сводом. Впервые возникло чувство одиночества, приятное чувство, не такое, как в толпе. В парке, очевидно, было немало людей, я слышал шепот, иногда неясно белело чье-то лицо, один раз я даже чуть не задел кого-то. Кроны деревьев смыкались, звезды виднелись только в их просветах. Мне вспомнилось, что к парку я поднимался вверх, а ведь там, на площади с пляшущими красками и улицах с витринами, надо мной было небо, кстати, хмурое; как же могло случиться, что здесь, на один ярус выше, я вижу небо, к тому же — звездное. Я ничего не мог понять.
Деревья расступились, я еще не увидел озера, но уже уловил запах воды и ила, благоухание прелой травы, намокших листьев; я замер.
Заросли черным кругом опоясывали озеро. Шуршали камыши и тростник, а вдали, с другой стороны, вздымался — одиноким колоссом — массив стеклянисто сверкавших скал, полупрозрачная гора над равнинами ночи, призрачное сияние, бледное, голубоватое, изливали отвесные обрывы; бастионы на бастионах, хрустальные зубцы стен, пропасти — и отражение сияющего исполина в черных водах озера. Я стоял, ошеломленный и восхищенный, ветер приносил совсем слабые, прерывающиеся отголоски музыки; напрягая зрение, я разглядел гигантские этажи и горизонтальные террасы, и вдруг меня осенило: да ведь я второй раз вижу вокзал, исполинский Терминал, где я блуждал днем, и, может быть, смотрю со дна темной пропасти, так меня поразившей, на то место, где встретил Наис.
Была ли это еще архитектура или уже возведение гор? Они, очевидно, поняли, что, выходя за определенные границы, надо отказаться от симметрии, от правильных форм и учиться у самого великого,— понятливые ученики планеты!
Я обошел озеро. Колосс словно вел меня своим неподвижно светящимся взлетом. Да, нужна была отвага задумать такие очертания, придать им жестокость пропастей, беспощадность и неприглаженность обрывов и пиков, не ударяясь в механическое копирование, ничего не упустить, не фальсифицировать. Я вернулся к стене деревьев. Бледная, возносившаяся в черное небо голубизна Терминала еще просвечивала сквозь ветви, потом погасла, исчезла за чащей. Я раздвигал руками гибкие ветви, шипы ловили меня за свитер, цеплялись за брюки, роса сверху дождем падала мне на лицо, я положил в рот пару листиков, пожевал, они были молодые, горькие; впервые после возвращения я испытал такое: я уже ничего не хотел искать, ни в чем не нуждался, достаточно было идти в темноте, в шелесте лесной чащи, вслепую, прямо вперед. Так ли я себе все это представлял долгие десять лет?
Кусты расступились. Извилистая аллейка. Мелкий гравий хрустел под ногами, слабо светился, я предпочел бы темноту, но шел дальше, прямо, туда, где у каменного круга виднелась человеческая фигура. Не знаю, откуда брался свет, заливавший ее, людей не было, вокруг какие-то лавочки, креслица, перевернутый столик, песок, сыпучий и глубокий, я ощущал, как ноги погружаются в него и какой он теплый, несмотря на ночную прохладу.
Под сводом, покоившимся на потрескавшихся, крошащихся колоннах, стояла женщина и, казалось, ждала меня. Я уже видел ее лицо, переливающиеся искорки в алмазных пластинках, закрывавших ее уши, белое, серебрившееся в тени платье. Невозможно! Сон? До нее оставалось несколько десятков шагов, и тут она запела. Среди невидимых деревьев голос ее звучал слабо, почти по-детски, слов я не понимал, да, может, их и не было — рот ее был полуоткрыт, словно она пила, на лице никакого напряжения — только самозабвение, будто она видела нечто незримое и именно о нем пела. Боясь, как бы она не заметила меня, я шел все медленнее. На меня уже падало сияние, окружавшее каменный круг. Голос ее окреп, она звала темноту, заклинала ее, стоя неподвижно, уронив руки, словно забыв о них, словно у нее не осталось ничего, кроме голоса, за которым шла и в котором растворялась; казалось, она освобождалась от всего, и отдавала все, и прощалась, зная, что с последним, замирающим звуком закончится не только пение. Я не представлял, что такое возможно. Женщина умолкла, а я еще слышал ее голос, вдруг за мной застучали легкие шаги, какая-то девушка бежала к стоявшей, кто-то ее догонял, с коротким горловым смехом она промчалась по ступенькам, пробежала сквозь певицу и понеслась дальше, догонявший девушку мелькнул темным силуэтом прямо рядом со мной; они исчезли, я во второй раз услышал манящий смех девушки. Я стоял, как вкопанный, не зная, плакать или смеяться; несуществующая певица снова тихонько запела. Слушать я не захотел. С окаменевшим лицом ушел я в темноту, словно ребенок, которому объяснили, что сказка — ложь. Все это было профанацией. Я шел, а голос преследовал меня. Я свернул, аллея вела дальше, я увидел слабый блеск живых изгородей, листья мокрыми фестонами нависли над металлической калиткой. Я открыл ее. Там, казалось, было чуть светлее. Живая изгородь заканчивалась широким вольером, из травы торчали валуны, один шевельнулся, вырос, я заглянул в два бледных огонька глаз. И замер. Это был лев. Он встал, тяжело поднявшись, сначала на передние лапы; он был теперь в пяти шагах от меня, я отчетливо видел редкую, спутанную львиную гриву, он потянулся, раз, другой, под шкурой медленно перекатывались мускулы, лев бесшумно подошел ко мне. Я уже успокоился. «Ну, ну, не пугай»,— сказал я. Лев не мог быть настоящим — фантом, вроде той певицы, вроде тех, там, внизу, возле черных автомобилей,— лев зевнул, в шаге от меня, в темной бездне сверкнули клыки, пасть закрылась с лязгом железного засова, я ощутил зловонное дыхание, что...
Он фыркнул. В меня попали брызги его слюны. Я испугаться-то не успел, а он ткнулся огромной головой мне в бедро и с урчанием стал тереться об меня, в груди у меня по-идиотски защекотало...
Зверь подставлял мне горло, обвисшую тяжелую шкуру. В полуобморочном состоянии я стал почесывать, трепать его, он урчал все громче, за ним блеснула вторая пара глаз, второй лев, нет, львица толкнула его боком.
В глотке у него загремело, так он громко мурлыкал, а не рычал. Львица наступала. Лев ударил ее лапой. Она в ярости фыркнула.
Это может плохо кончиться, подумал я. Оружия у меня нет, а львы ведь настоящие, живые, живее и не придумаешь. Я стоял в удушливом смраде их тел. Львица все фыркала; вдруг лев вырвал свои жесткие патлы у меня из рук, повернул к ней огромную голову и взревел; львица, распластавшись, припала к земле.
— Мне уже пора,— беззвучно, одними губами произнес я и стал медленно пятиться к калитке; минута была не из приятных, но лев, кажется, вообще меня уже не замечал. Он тяжело улегся и опять стал похож на продолговатый валун, львица стояла над ним, толкая его мордой.
Закрыв за собой калитку, я еле удержался, чтобы не броситься бежать. Ноги подгибались, в горле пересохло, а покашливание вдруг перешло в дикий смех, я вспомнил, как говорил льву: «Ну, ну, не пугай...» — убежденный, что он всего лишь обман зрения...
Кроны деревьев четче вырисовывались на небе; светало. Меня это радовало, ведь я не знал, как выбраться из почти опустевшего парка. Пройдя мимо каменного круга, где мне прежде явилась певица, я наткнулся в следующей аллейке на робота, подстригавшего газон. О гостинице он ничего не знал, но объяснил мне, как дойти до ближайшего эскалатора. Я спустился вниз, видимо, на несколько ярусов, и, выйдя на улицу нижнего уровня, изумился, снова увидев над собой небо. Но и способность удивляться у меня почти иссякла. Все, хватит. Некоторое время я шел, потом, помнится, сидел у фонтана, а может, это был не фонтан, потом шел дальше при все более ярком свете нового дня, пока не очнулся прямо перед большими сияющими стеклами с огненными буквами: ОТЕЛЬ АЛЬКАРОН.
В белом вестибюле, напоминающем перевернутую ванну великана, сидел красиво стилизованный, полупрозрачный робот с длинными тонкими руками. Ни о чем не спрашивая, он подал мне книгу, я записался в нее и с маленьким треугольным значком поехал наверх. Кто-то — право, не знаю, кто,— помог мне открыть дверь, точнее, открыл за меня. Стены изо льда; в них — кружение огоньков, под окном, когда я подошел к нему, вдруг откуда-то выскочило креслице, пододвинулось ко мне, сверху уже опускалась плоскость, образуя нечто вроде столика, но мне нужна была кровать. Найти ее я не мог, впрочем, и не пытался. Улегся на упругий пенопластовый ковер и тут же заснул. В комнате не было окон, она освещалась искусственно. Сначала, правда, я принял за окно телевизор. Я погружался в беспамятство, сквозь сон сознавая, что оттуда, из-за стекла, чье-то огромное лицо строит мне гримасы, думает обо мне, смеется, болтает, ворчит... Меня освободил сон, подобный смерти; даже время в нем остановилось.
II
Я дотронулся, еще с закрытыми глазами, до груди, на мне был свитер; раз я спал не раздеваясь, значит, была моя вахта; «Олаф!» — хотел позвать я и вдруг сел.
Это была гостиница, а не «Прометей». Я вспомнил все: лабиринты вокзала, девушку, посвящение в тайну, ее страх, голубую скалу Терминала над черным озером, певицу, львов...
В поисках ванной комнаты я случайно нашел кровать, она помещалась в стене и, если что-то там нажать, опускалась перламутровым пухлым квадратом. В ванной комнате не было ни ванны, ни кранов — ничего, кроме блестящих плиток на потолке и небольшого углубления для ног, выложенного губчатым пластиком. На душ, по-моему, тоже не походило. Я почувствовал себя неандертальцем. Быстро разделся и остался с вещами в руках — вешалок не было, зато в стене — маленький шкафчик, туда я все и кинул. Рядом — три кнопки: голубая, красная и белая. Нажал белую. Погас свет. Красную. Зашумело, но это была не вода, а сильный, дохнувший озоном и еще чем-то вихрь; он овеял всего меня, на коже оседали частые, блестящие капли и шипя улетучивались, я даже не чувствовал влаги, а ощущал мириады мягких электрических иголок, массировавших мышцы. Я попробовал нажать голубую кнопку, и вихрь изменился — теперь он как бы пронизывал меня, очень странное ощущение. Я подумал: если привыкнуть, то даже будет приятно. В Адапте на Луне такого не было — там были обычные ванные комнаты. Не знаю, почему. Кровь живее бежала по жилам, чувствовал я себя замечательно, не знал только, чем и как почистить зубы. В конце концов решил их не чистить. В стене были еще одни дверцы с надписью: «Купальные халаты». Я заглянул внутрь. Никаких халатов, три металлические бутылки, немного похожие на сифоны. Но я и так совсем обсох и не собирался вытираться.
Я открыл шкафчик, куда убрал одежду, и остолбенел: он был пуст. Хорошо, что хоть плавки я положил сверху на шкафчик. Вернувшись в плавках в комнату, я стал искать телефон, чтобы узнать, куда исчезла моя одежда. Поиск — утомительное дело. Телефон я в конце концов обнаружил у окна,— как я мысленно продолжал называть телеэкран,— телефон выскочил из стены, когда я стал громко ругаться; видимо, он реагировал на голос. Идиотская мания все прятать в стены. Отозвалась администрация. Я спросил про одежду.
— Вы вложили ее в чист,— сказал мягкий баритон.— Она будет через пять минут.
И то хорошо! — подумал я, усаживаясь у письменного стола, плоскость которого угодливо подвинулась мне под локти, едва я наклонился. Как это делалось? Не надо интересоваться такими вещами; большинство людей пользуется достижениями своей цивилизации, не разбираясь в них.
Я сидел голышом, в плавках, и взвешивал различные возможности. Я мог пойти в Адапт. Если бы мне надо было ознакомиться лишь с техникой и обычаями, я бы долго не размышлял, но еще на Луне я заметил, что одновременно мне стараются прививать определенный подход, даже определенную оценку явлений, то есть представляют мне готовую шкалу ценностей, а если их не принимаешь, то объясняют это неприятие — и вообще все — консерватизмом, подсознательным сопротивлением, рутиной старых навыков и так далее. Я вовсе не собирался отказываться от таких навыков и сопротивления, пока не приду к убеждению, что мне преподносят нечто лучшее, а уроки минувшей ночи ничуть не поколебали моего решения. Мне не хотелось, чтобы меня школили, приспосабливали к жизни, и во всяком случае — столь любезно и в таком объеме. Интересно, почему меня не подвергли этой их бетризации? Надо будет узнать.
Я мог бы отыскать кого-нибудь из своих; Олафа, например. Но тогда я бы нарушил рекомендации Адапта. Нет-нет, там ничего не приказывали, все время повторяли, что действуют в моих интересах, я могу делать все, что хочу, даже перескочить с Луны прямо на Землю (это — остроумный доктор Абс), если мне уж так не терпится.
Я не боялся Адапта, но Олафу это могло не понравиться. Но все же я решил написать ему. Адрес у меня был.
Работа. Искать работу? Какую? Пилота? И что же, придется летать курсом Марс — Земля — Марс? Это я умел, но...
Вдруг я вспомнил, что у меня есть деньги. Собственно говоря, это были не деньги, они назывались как-то иначе, но я не понимал, в чем разница, если за них можно было все получить. Я попросил соединить меня с городом. В трубке пульсировало далекое пение. На телефонном аппарате не было ни цифр, ни диска, может, требовалось произнести название банка? Оно было записано на листке, а листок остался в одежде. Я заглянул в ванну; одежда уже лежала в шкафчике и выглядела свежевыстиранной; все мои мелочи и тот листок лежали в карманах.
Банк не был банком. Он назывался Омнилокс. Я произнес название, и тут же, словно он только и ждал моих слов, откликнулся грубый голос:
— Омнилокс слушает.
— Меня зовут Брегг,— сказал я.— Гэл Брегг. Кажется, у вас открыт на мое имя счет... Хотелось бы знать, сколько там.
Что-то щелкнуло, и другой голос, повыше, переспросил:
— Гэл Брегг?
— Да.
— Кто открыл счет?
— Косплав — Космическое Плавание, по поручению Планетологического института и Космической Комиссии ООН, но это было сто двадцать семь лет назад...
— У вас есть какое-нибудь удостоверение?
— Ничего, кроме записки из Адапта на Луне, от директора Освамма...
— Все в порядке. У вас на счету двадцать шесть тысяч четыреста семь итов.
— Итов?
— Да. Что вам еще угодно?
— Я хотел бы взять немного де... то есть итов.
— В какой форме? Не угодно ли кальстер?
— Что это такое? Чековая книжка?
— Нет. Вы сможете платить сразу наличными.
— Да? Хорошо.
— На какую сумму открыть вам кальстер?
— Не знаю... Тысяч на пять.
— Пять тысяч. Хорошо. Прислать в гостиницу?
— Да. Минуточку — я забыл, как она называется.
— Вы будете в другой гостинице?
— Нет, в этой.
— «Алькарон». Мы вышлем вам сейчас же. Только одно: ваша правая рука не изменилась?
— Нет... А что?
— Ничего. Иначе нам пришлось бы менять кальстер. Сейчас вы его получите.
— Спасибо.— Я положил трубку. Двадцать шесть тысяч, много ли это? Я понятия не имел. Что-то замурлыкало. Радио? Телефон. Я поднял трубку.
— Брегг?
— Да,— сказал я. Сердце стукнуло сильнее, только один раз. Я узнал ее голос.— Как ты узнала, где я? — спросил я, потому что она не сразу откликнулась.