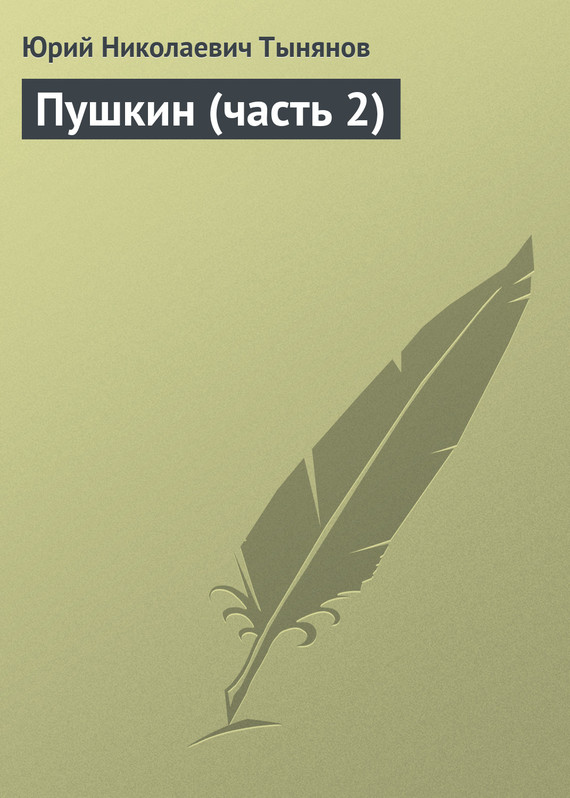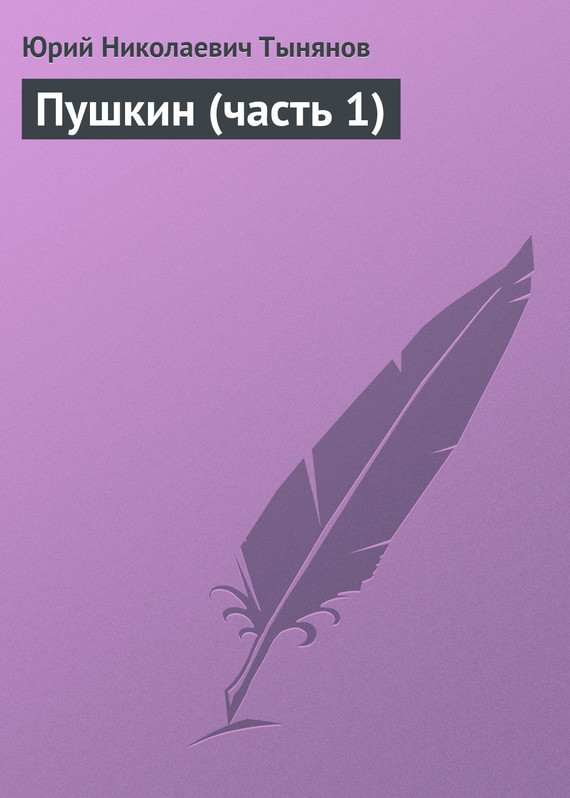Возвращение со звезд Лем Станислав
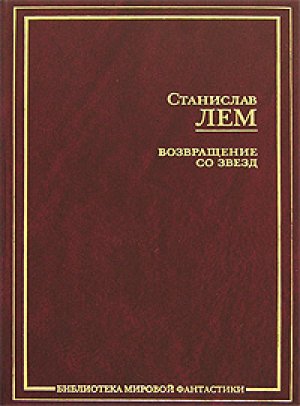
— Общество, в которое вы вернулись, стабилизировано. Оно живет спокойно. Вы понимаете? Романтизм раннего периода астронавтики прошел. Тут некая аналогия с историей Колумба. Его экспедиция была чем-то необыкновенным, но кто интересовался двести лет спустя капитанами парусников? О вашем возвращении было краткое сообщение в реале.
— Доктор, ведь это не имеет никакого значения,— возразил я. Его сочувствие начинало раздражать меня больше, чем равнодушие других. Но этого я ему сказать не мог,
— Имеет, Брегт, хотя вы и не хотите допустить такой мысли. Если бы вы были кем-нибудь другим, я промолчал бы, но вам следует знать правду. Вы — один-одинешенек. Человек не может жить один. То, чем вы интересуетесь, то, с чем вы вернулись,— капля в море невежества. Сомневаюсь, чтобы многие захотели слушать то, что вы собираетесь рассказать. Я отношусь к таким людям, но мне восемьдесят девять...
— Мне нечего рассказывать,— возразил я со злостью.— Во всяком случае, у меня нет никаких сенсаций. Мы не открыли никакой галактической цивилизации, а я вообще был просто пилотом. Я вел корабль. Кто-то должен был это делать.
— Да? — тихо произнес врач, поднимая белые брови.
Внешне я был бесстрастен, но во мне поднималась
злость.
— Да! Тысячу раз да! А нынешнее равнодушие, если уж вы хотите знать, задевает потому, что многие вообще не вернулись...
— А кто не вернулся? — совершенно спокойно спросил врач.
Я несколько успокоился.
— Многие. Ардер, Вентури, Эннессон. Доктор, зачем...
— Я спрашиваю не из простого любопытства. То была — поверьте, и я не люблю высокопарных слов — как бы моя собственная молодость. Из-за вас я посвятил себя этой научной проблеме. Мы уравнены нашей бесполезностью. Естественно, вы можете не признавать этого. Не буду настаивать. Но мне хотелось бы знать, что стряслось с Ардером.
— Точно не известно,— ответил я. Мне вдруг все стало безразлично. В конце концов, почему бы и не рассказать? Я смотрел на потрескавшуюся столешницу письменного стола. Никогда не думал, что все это будет выглядеть именно так.
— Мы вели два зонда над Арктуром. Я потерял с ним связь. Не мог его найти. Молчало его радио, а не мое. Когда у меня подошел к концу кислород, я вернулся.
— Вы ждали?
— Да. То есть я летал вокруг Арктура. Шесть дней. Если точно, то сто пятьдесят шесть часов.
— Один?
— Да. Мне не повезло, на Арктуре появились новые пятна, полностью нарушилась связь с «Прометеем». С моим кораблем. Помехи. Он сам, без радио, не мог вернуться. Ардер, я о нем говорю. В зондах телеран курса связан с радио. Ардер не мог вернуться без меня и не вернулся. Джимма вызвал меня. Он был прав, я потом — от нечего делать — подсчитал, какова была вероятность обнаружить Ардера на экране радара: не помню точно, кажется, один к триллиону. Надеюсь, он сделал то же, что и Арне Эннессон.
— А что сделал Арне Эннессон?
— Он потерял фокусировку луча. У него стала слабеть тяга. Он удержался бы на орбите какие-нибудь сутки, вращаясь по спирали, и в конце концов упал бы на Арктур. Вот он и предпочел сразу войти в протуберанец. Он сгорел у меня на глазах.
— Сколько было пилотов, кроме вас?
— На «Прометее» пятеро.
— Сколько вернулось?
— Олаф Стааве и я. Знаю, доктор, вы думаете: героизм. Я тоже когда-то так думал, читая книги о таких людях. Неправда. Слышите? Если бы я мог, я бросил бы этого Ардера и вернулся бы сразу, но я не мог. Ардер тоже бы не вернулся на моем месте. И никто не вернулся бы. Джимма тоже...
— Почему вы так... от этого отрекаетесь?
— Потому что есть разница между героизмом и необходимостью. Я сделал то, что сделал бы каждый. Доктор, чтобы понять, надо там побывать. Человек — просто пузырек в потоке. Достаточно нарушения фокусировки или размагничивания поля, начинается вибрация и моментально сворачивается кровь. Обратите внимание, я говорю не о внешних причинах, таких, как например, метеоры, а говорю о последствиях дефектов. Достаточно любой пакости, любого перегоревшего проводочка в аппаратах связи — и конец. Если бы и люди подводили в таких условиях, экспедиции были бы самоубийством, понимаете? — Я на секунду закрыл глаза.— Доктор, неужели теперь не летают? Как это могло случиться?
— Вы полетели бы?
— Нет.
— Почему?
— Я вам скажу. Ни один из нас не полетел бы, если бы знал, каково там. Этого никто не знает. Никто из тех, кто там не бывал. Мы были кучкой смертельно перепуганных, загнанных в ловушку животных.
— Как все это у вас согласуется с тем, что вы сказали минуту назад?
— Никак. Так было. Мы боялись. Доктор, ведь я, когда ждал Ардера, облетая вокруг Арктура, понавыдумывал себе разных людей и беседовал с ними, говорил за себя и за них и в конце концов поверил, что они находятся со мной. Каждый спасался как мог. Подумайте, доктор. Я сижу здесь перед вами, я снял виллу, купил старый автомобиль, хочу учиться, читать, плавать в бассейне, но то, все то, во мне. То пространство, та тишина, и Вентури — он кричал, чтобы ему помогли, а я дал полный назад!
— Почему?
— Я управлял «Прометеем»; у Вентури отказал реактор. Он мог разнести нас вдребезги. Реактор не взорвался; он не разнес бы нас. Может, мы успели бы его вытащить, но я не имел права рисковать. Тогда, в случае с Ардером, было наоборот, Я хотел спасти его, а Джимма вернул меня: он боялся, что погибнем мы оба.
— Брегг... скажите мне, чего вы ждали от нас? От Земли?
— Понятия не имею. Никогда об этом не думал. Было так, словно кто-то говорил, что загробная жизнь или рай — будет, но вообразить их никто не мог. Доктор, хватит. Не надо об этом. Мне хотелось бы у вас спросить еще об одном. Как обстоит дело с этой бетризацией?
— А что вы о ней знаете?
Я сказал ему. Но не сообщил, при каких обстоятельствах и от кого узнал.
— Так,— произнес врач.— В общем, дело обстоит приблизительно так.
— А я?
— Закон делает для вас исключение, потому что бет-ризация взрослых небезвредна для их здоровья и даже опасна. Кроме того, считается — не без основания, полагаю,— что вы прошли проверку... морального облика. К тому же вас... немного.
— Доктор, еще один вопрос. Вы говорили о женщинах. Почему вы мне это сказали? Простите, я отнимаю у вас время?
— Нет, не отнимаете. Почему я сказал? У человека есть близкие. Родители. Дети. Друзья. Женщины. Родителей и детей у вас нет. Друзей у вас быть не может.
— Почему?
— Я не имею в виду ваших товарищей, хотя не знаю, захочется ли вам постоянно быть в их кругу, вспоминать...
— О небеса, с какой стати! Ни за что в жизни!
— Вот видите. Вам знакомы две эпохи. В одной вы провели молодость, с другой вы очень быстро познакомитесь. Бели учесть ваши десять лет, никто из ровесников по своему опыту не сравнится с вами. Значит, они не могут быть равноценны вам в общении. Не среди стариков же вам жить? Остаются женщины, Брегг. Только женщины.
— Может, все-таки одна женщина? — буркнул я.
— Одна — это сейчас затруднительно.
— Как?
— Эпоха благосостояния. В отношении эротических проблем эпоха' безжалостная. Поскольку ни любви, ни женщин нельзя... раздобыть за деньги. Материальных проблем здесь больше нет...
— И это вы называете безжалостным? Доктор!
— Да. Вы думаете, видимо,— раз я сказал о купленной любви,— что речь идет о проституции, скрытой или явной. Нет. То давно отошло в прошлое. Раньше женщину привлекал успех. Мужчина импонировал ей высоким заработком, профессиональной квалификацией, общественным положением. В обществе полного равенства такое невозможно. За немногими исключениями. Вот если бы вы были, например, реалистом...
— Я реалист.
Доктор улыбнулся.
— У этого слова теперь другое значение. Так называют актера, выступающего в реале. Вы уже были в реале?
— Нет.
— Посмотрите пару мелодрам, и вы поймете, каковы сегодня критерии эротического подбора. Самый важный — молодость. Поэтому все так за нее борются. Морщины, седина, особенно ранняя, производят почти такое впечатление, как в древности — проказа...
— Почему?
— Вам это трудно понять. Аргументы разума бессильны перед господствующей моралью. Вы просто не отдаете себе отчета, как много факторов, прежде решающих в эротической сфере, теперь исчезло. Природа не терпит пустоты, их должны были заменить другие факторы. Или взять явление, с которым вы так сжились, что перестали замечать его исключительность: риск. Его больше нет, Брегг. Мужчина не может произвести на женщину впечатление удалью, безрассудством, а ведь литература, искусство, вся культура веками основывалась на этой теме: любовь у последней черты. Орфей сошел за Эвридикой в Аид, Отелло от любви убил. Трагизм Ромео и Джульетты... Сегодня трагедий уже нет. Нет даже их возможности. Мы ликвидировали ад страстей, а оказалось, что заодно и небо перестало существовать. Все теперь чуть тепленькое, Брегг.
— Чуть тепленькое?..
— Да. Знаете, что делают даже самые несчастные любовники? Ведут себя благоразумно. Никаких порывов, никакого соперничества...
— Вы... хотите сказать, что все это... исчезло? — спросил я. И впервые почувствовал какой-то суеверный ужас перед этим миром. Старый врач молчал.— Доктор, такое невозможно. Неужели это правда?
— Да. Именно так. И вы, Брегг, должны воспринять это, как воду и воздух. Я говорил, что трудно иметь дело с единственной женщиной. Всю жизнь почти невозможно. В среднем связь длится около семи лет. И это — прогресс. Полвека тому назад средняя продолжительность едва достигала четырех...
— Доктор, мне не хочется отнимать у вас время. Что вы мне посоветуете?
— То, о чем я уже упоминал: восстановить первоначальный цвет волос... Звучит тривиально, конечно. Но это важно. Мне стыдно давать вам такой совет. Не за себя стыдно. Но что я могу...
— Спасибо вам. Правда, спасибо. И последнее. Скажите мне... Как я выгляжу... на улице? В глаза прохожих? Что во мне такого...
— Брегг, вы другой. Во-первых, ваши размеры. Вы — словно персонаж из «Илиады». Пропорции из глубокой древности... Они могут даже давать некоторый шанс, хотя вы знаете, какова судьба тех, кто чересчур отличается.
— Знаю.
— Вы немножко великоваты, Брегг. Я не помню таких даже во времена моей молодости. Сейчас вы выглядите, как очень высокий и скверно одетый человек. Но дело не в том, что одежда плохо на вас сидит, дело в вашей неслыханной мускулатуре. Перед полетом вы выглядели так же?
— Нет, доктор. Двойная сила тяжести, знаете ли.
— Возможно...
— Семь лет. Семь лет двойного тяготения. Мышцы не могли не увеличиться — дыхательные, брюшные, я знаю, какой у меня загривок. Но иначе я задохнулся бы там, как крыса. Мышцы работали, даже когда я спал. Даже когда меня заморозили. Все весило вдвое больше. Вот в чем дело.
— А у других? Простите, что спрашиваю, это — любопытство медика... Таких долгих экспедиций никогда не было, знаете ли...
— Знаю. У других? У Олафа почти как у меня. Наверное, зависит от скелета, я всегда был широк в кости. Ардер был крупнее меня. Выше двух метров. Да, Ардер... Что я говорил? Другие,— так вот, я был моложе всех и поэтому лучше всех адаптировался. Так, по крайней мере, утверждал Вентури. Знакомы ли вам работы Янссена?
— Знакомы ли? Это наша классика, Брегг.
— Да? Смешно. Он был такой суетливый человечек... Я выдержал у него семьдесят девять «же» в течение полутора секунд, знаете ли.
— Что вы говорите?
— У меня есть письменное подтверждение. Но это было сто тридцать лет назад. Теперь для меня и сорок слишком много.
— Брегг, сегодня и двадцати никто не выдержит!
— Почему? Может, из-за бетризации?
Врач молчал. Мне показалось, он чего-то не договаривает. Я встал.
— Брегг,— заговорил врач,— раз уж мы коснулись этого: будьте осторожны.
— С чем?
— С собой и с другими. Прогресс никогда не проходит даром. Мы избавились от многих тысяч опасностей и конфликтов, но за это надо было платить. Общество стало мягче, а вы... вы можете проявить... твердость. Вы Понимаете?
— Понимаю,— сказал я, думая о человеке, смеявшемся в ресторане и замолчавшем, когда я к нему подошел.— Доктор,— я встрепенулся,— правда... я ночью встретил льва. И даже двух. Почему они меня не тронули?..
— Хищников больше нет, Брегг... Бетризация... Вы встретили их ночью? И что вы сделали?
— Стал чесать им шею,— сообщил я и показал как.— Но «Илиада», доктор, это преувеличение. Я порядком перепугался. Сколько я вам должен?
— Прошу вас об этом даже не думать. И если вам когда-нибудь захочется...
— Спасибо.
— Только не откладывайте в долгий ящик,— добавил он, когда я уходил. Лишь на эскалаторе я понял, что это означало: врачу ведь было почти девяносто лет.
Я вернулся в гостиницу. В вестибюле был парикмахер. Разумеется, робот. Я велел подстричь меня. Оброс я изрядно — прямо грива на голове. Больше всего седины было на висках. Когда стрижка закончилась, мне показалось, что теперь я выгляжу не так дико. Робот мелодичным голосом спросил, не подкрасить ли.
— Нет,— сказал я.
— Апрекс?
— Что это такое?
— Против морщин.
Я колебался, чувствуя себя ужасно глупо, но доктор, возможно, был прав.
— Хорошо,— согласился я. Он покрыл мне лицо слоем резко пахнущего желатина, который застыл маской. Потом я лежал с компрессами, радуясь, что мое лицо закрыто.
Я поехал наверх; в номере уже лежали свертки с жидким бельем; я сбросил одежду и вошел в ванную. Там было зеркало.
Да. Напугать я мог. Я не знал, что выгляжу как ярмарочный силач. Бугристые мышцы, коренастый торс, и вообще я напоминал какую-то корягу. Когда я поднял руку и под кожей вздулась мышца, стал виден шрам шириной в ладонь. Я попробовал рассмотреть второй, у лопатки; тогда меня назвали счастливчиком: пройди осколок на три сантиметра левее, он перебил бы мне позвоночник. Я ударил себя кулаком в твердый, как доска, живот.
— Ах ты, скотина,— сказал я в зеркало. Мне хотелось принять ванну, настоящую ванну, а не озоновый вихрь, и меня обрадовала мысль о бассейне при вилле. Я хотел надеть что-нибудь новое, но не мог почему-то расстаться с брюками. Поэтому я надел только белый свитер, хотя мой старый, черный, протертый на локтях, нравился мне гораздо больше, и отправился в ресторан.
Половина столиков была занята. Через три зала я прошел на террасу; оттуда были видны широкие бульвары с бесконечными потоками глайдеров; под облаками, как горный массив, голубел в воздухе Терминал.
Я заказал обед.
— Какой? — спросил робот. Он собирался подать мне меню.
— Все равно,— сказал я.— Обычный обед.
Только начав есть, я заметил, что столики вокруг меня пусты. Совершенно бессознательно, не отдавая себе в этом отчета, я искал уединения. Я понятия не имел, что я ем. Уверенность, что мой замысел хорош, покинула меня. Каникулы, словно сам себя вознаграждаю, раз никто об этом не подумал. Бесшумно приблизился официант.
— Вы Брегг, не правда ли?
— Да.
— У вас в номере гость.
— Гость?
Я сразу подумал о Наис. Допив темную, шипучую жидкость, я встал, спиной чувствуя сопровождавшие меня взгляды. Хорошо бы укоротить себя сантиметров на десять. В номере сидела молодая женщина — я видел ее впервые в жизни. Серое пушистое платье, фантастическая красная отделка на плечах.
— Я из Адапта,— отрекомендовалась она.— Мы с вами сегодня разговаривали.
— А, это были вы?
Я насторожился. Зачем я им опять понадобился?
Она села. Я тоже.
— Как вы себя чувствуете?
— Прекрасно. Сегодня был у врача, он меня обследовал. Все в порядке. Снял виллу, хочу немного почитать.
— Весьма разумно. В этом отношении Клавестра — замечательное место. Горы, покой...
Она знала про Клавестру. Следили они за мной, что ли? Я сидел неподвижно в ожидании дальнейшего.
— Я принесла вам... кое-что.
Женщина показала на маленький пакет, лежавший на столе.
— Это наше новейшее устройство, знаете ли,— говорила она с несколько неестественным оживлением.— Ложась спать, вы будете включать аппарат... и в течение пятнадцати-шестнадцати ночей простейшим способом, без всяких усилий, узнаете множество полезнейших вещей.
— Да? Это хорошо,— сказал я.
Она улыбнулась мне. И я улыбнулся, как примерный ученик.
— Вы психолог?
— Вы угадали...
Она остановилась в нерешительности. Я видел: она хочет что-то сказать.
— Я слушаю.
— Вы не рассердитесь?
— Отчего бы мне сердиться?
— Видите ли... Вы одеваетесь немного.».
— Знаю. Но я люблю эти брюки. Может, со временем...
— Дело не в брюках. Свитер...
— Свитер? — удивился я.— Мне его сделали только сегодня. Кажется, это последний писк моды, разве не так?
— Так. Только не надо его слишком раздувать... Вы позволите?
— Пожалуйста,— произнес я совсем тихо. Она потянулась ко мне с кресла, ткнула меня в грудь кончиками пальцев и слабо вскрикнула.
— Что у вас там?
— Ничего, кроме меня самого,— ответил я с кривой улыбкой.
Она стиснула руки и встала. Внезапно мое злорадное спокойствие стало ледяным.
— Сядьте же.
— Но ведь... я страшно извиняюсь, я...
— Глупости. Давно вы работаете в Адапте?
— Второй год.
— А-а-а. И первый пациент? — Я показал на себя. Она покраснела.— Могу я вас кое о чем спросить?
Сотрудница Адапта часто-часто заморгала. Может, подумала, не собираюсь ли я пригласить ее на свидание.
— Конечно...
— Как это так устроено, что на каждом ярусе города видно небо?
Она оживилась.
— Очень просто. Телевидение — так это раньше называли. На перекрытиях помещены экраны, на них транслируется все, что над землей, вид неба, туч...
— Но ярусы, видимо, невысоки, а на них стоят даже сорокаэтажные дома...
— Это обман зрения,— усмехнулась она,— только часть дома — настоящая, остальное — изображение. Понимаете?
— Понимаю, как это устроено, но не понимаю, зачем.
— Затем, чтобы на любом ярусе живущие там люди не чувствовали себя ущемленными ни в чем...
— А-а-а. Да, остроумно... И еще кое-что. Я собираюсь пойти за книгами. Можете ли вы мне порекомендовать несколько названий из вашей области? Какие-нибудь... компиляции.
— Вы собираетесь изучать психологию? — удивилась она.
— Нет, но мне хочется знать, что вы сделали за это время...
— Я посоветовала бы Майссена.
— Что это такое?
— Школьный учебник.
— Я предпочел бы что-нибудь пообъемистее. Компендиумы, монографии... Всегда лучше получать из первых рук...
— Это будет, возможно, слишком... трудно.
— Возможно, не слишком. В чем заключаются трудности?
— Психология очень математизировалась...
— Я тоже. Для того уровня, что был сто лет назад. Нужно больше?
— Вы же не математик?
— По профессии — не математик, но изучал математику. На «Прометее». Там, знаете ли, было... много свободного времени.
Удивленная, сбитая с толку, она больше ничего не сказала. Просто оставила мне листок с перечнем названий. Когда женщина вышла, я вернулся к письменному столу и грузно уселся. Даже она, сотрудница Адапта... Математика? Откуда? Он же дикарь. Ненавижу их, подумал я. Ненавижу. Ненавижу. Не знаю, о ком я думал. Обо всех. Да, обо всех. Меня обманули. Они послали меня, сами не зная, что делают, я не должен был вернуться, как не вернулись Вентури, Ардер, Томас, но я вернулся, чтобы меня боялись, чтобы стать живым укором, которого никто не приемлет. Я ни на что не гожусь, подумал я. Если бы я мог плакать. Ардер мог. Он говорил: не надо стыдиться слез. Возможно, я солгал доктору. Я никому никогда не говорил этого, но я не был уверен, сделал ли бы я такое для кого-нибудь еще, кроме Ардера. Может быть, сделал бы. Для Олафа, позднее. Но твердой уверенности у меня не было. Ардер! Они нас уничтожили, а как мы им верили, как чув-
ствовали все время за спиной Землю, она была с нами, верила в нас, думала о нас. Об этом никто не говорил. К чему? Об очевидном не говорят.
Я встал. Сидеть я не мог. Принялся ходить из угла в угол.
Довольно. Я открыл двери ванной комнаты, но там не было даже воды облить башку. Да что за глупость! Чистейшая истерика.
Я вернулся в комнату и стал укладывать вещи.
III
Всю вторую половину дня я провел в книжном магазине. Книг в нем не было. Их не печатали уже почти полвека. А я так им радовался бы после микрофильмов, составлявших библиотеку «Прометея». Оказалось, радоваться нечему. Уже нельзя было шарить по полкам, взвешивать тома в руке, ощущая их вес, обещавший продолжительность чтения. Теперь книжный магазин напоминал скорее электронную лабораторию. Книгами были кристаллики с введенным в них содержанием. Читали их с помощью оптона. Он даже походил на книжку, но с одним-единственным листком в обложке. От прикосновения на нем появлялись очередные страницы текста. Но оптонами мало пользовались, как сообщил мне робот-продавец. Публика предпочитала лектоны: они читали вслух, их можно было устанавливать по желанию на любой голос, любой темп, любую интонацию. Только научные публикации по узкоспециальным вопросам еще печатались на пластике, имитирующем бумагу. Так что все мои покупки уместились в кармане, хотя там было почти триста названий. Горсть кристаллических зерен — вот как выглядели книги. Я набрал порядочно исторических и социологических трудов, немного работ по статистике и демографии, и то, что сотрудница Адапта порекомендовала мне из области психологии. И пару объемистых учебников математики — объемистых, конечно, не по формату, а по содержанию. Робот, обслуживавший меня, сам был энциклопедией, благодаря тому, что — как он сам сказал — он был подключен через электронные каталоги к оригиналам всевозможных научных трудов на всей Земле. В книжном магазине имелись лишь единичные «экземпляры» книг, а когда кто-нибудь в них нуждался, содержание их вводилось в кристалл.
Оригиналы — невидимые кристоматрицы — помещались за покрытыми бледно-голубой эмалью стальными плитами. Таким образом, книгу как бы заново печатали каждый раз, когда она бывала кому-то нужна. Вопрос тиражей, их размера и наличия больше не существовал. Это было действительно большим достижением, но мне все-таки жаль было книг. Узнав, что есть антиквариата с бумажными книгами, я разыскал один из них. Но меня ждало разочарование: научных изданий почти не было. Развлекательная литература, кое-какая детская, немного годовых комплектов старых журналов.
Я купил (лишь за старые книги надо было платить) сказки сорокалетней давности, чтобы понять, что именно считают теперь сказками, и отправился на склад спортивного инвентаря. Тут уж мое разочарование не знало границ. Легкая атлетика существовала в какой-то выродившейся, карликовой форме. Бег, метание, прыжки, плавание, но почти никакого соперничества. Бокса уже не было, а то, что называли классической борьбой, выглядело просто смешно: какая-то толкотня вместо честного поединка. В просмотровом зале я увидел одну встречу мирового чемпионата и чуть не лопнул от злости. А временами хохотал, как сумасшедший. Когда я расспрашивал про американскую борьбу, дзюдо, джиу-джитсу, никто даже не знал, что это такое. Вполне понятно, раз футбол приказал долго жить, как вид спорта, где бывали резкие столкновения и травмы. Хоккей сохранился, но какой! Хоккеисты играли в комбинезонах, раздутых до такой степени, что игроки были похожи на огромные мячи. Уморительно выглядели две команды, эластично сталкивавшиеся друг с другом,— фарс, а не матч. Прыжки в воду — да, но лишь с четырехметровой высоты. Я сразу подумал о моем (моем!) бассейне и приобрел складной трамплин, чтобы надстроить тот, который будет в Клавестре. Вся эта жалкая картина была результатом бетризации. О том, что исчезли коррида, петушиные бои и прочие кровопролитные зрелища, я не жалел; не был я и поклонником профессионального бокса. Но та манная кашка, в которую превратился спорт, ничуть меня не привлекала. Проникновение техники в спорт я мог стерпеть лишь в туризме. Он развился, особенно подводный.
Я вволю нагляделся на различные виды аппаратов для ныряния, малые электроторпеды, на которых можно путешествовать на дне озер, глиссеры, суда на воздушной подушке, водяные микроглайдеры. Все это было снабжено специальными устройствами, предохраняющими от несчастных случаев.
Соревнования, кстати, весьма популярные, я не мог признать спортивными; конечно, никаких коней, никаких автомобилей — соревновались машины с автоматическим управлением, можно было делать на них ставки. Традиционный большой спорт почти совсем потерял значение. Мне объяснили, что предел человеческих возможностей был достигнут и улучшать рекорды мог бы лишь человек ненормальный, некий монстр силы или скорости. С этим пришлось согласиться, к тому же легкая атлетика, уцелевшая после гекатомбы, широко распространилась — что весьма похвально,— тем не менее я покинул спортивный склад, проведя там три часа, в весьма угнетенном состоянии духа.
Отобранный гимнастический инвентарь я распорядился послать в Клавестру. От глиссера я, подумав, отказался. Хотел купить яхту, но парусных, собственно, не было — то есть настоящих, со швертом,— были какие-то несчастные посудины, гарантирующие устойчивость до такой степени, что и плавать на них никакого удовольствия не было.
В гостиницу я возвращался вечером. С запада наплывали пушистые, розовеющие облака, солнце уже скрылось, взошел тонкий серп молодого месяца, а в зените сиял второй — какой-то огромный искусственный спутник. Высоко над домами роились летательные аппараты. Прохожих стало меньше, зато нарастало движение глайдеров, и проезжую часть опять расчертили светящиеся щели, назначения которых я все еще не знал. Возвращаясь другой дорогой, я попал в большой сад. Сначала мне показалось, что это парк Терминал, но тот, со стеклянной горой вокзала, маячил вдали, в северной, более высокой части города.
Зрелище, кстати, необыкновенное. Когда на окрестности опустился иссеченный уличными огнями мрак, верхние этажи Терминала еще светились, как снежные альпийские вершины.
В парке было людно. Много новых пород деревьев, особенно пальм, цветущие кактусы без шипов, в отдаленном от главных аллей уголке мне удалось отыскать двухсотлетний, вероятно, каштан. Три человека моего роста не сумели бы обхватить его ствол. Я сел на маленькую лавочку и стал смотреть в небо. Как безобидно, как уютно выглядели звезды, мерцая и дрожа в невидимых потоках атмосферы, хранящей от них Землю. Впервые за столько лет я назвал их мысленно «звездочки». Там никто не отважился бы так сказать, мы сочли бы его сумасшедшим. Звездочки, ничего себе, прожорливые звездочки. Над совсем уже темными деревьями взвился вдали фейерверк, и я сразу, потрясающе реально, увидел Арктур, горы огня, над которыми я пролетал, стуча зубами от холода, а иней кондиционера, тая, ржавой струйкой стекал по моему комбинезону. Я отбирал пробы коронарным эксгаустером, вслушиваясь в свист компрессоров, пытаясь определить, не теряют ли они оборотов, ибо секундная авария, сбой аппаратуры, превратила бы обшивку, аппараты и меня в облачко невидимого пара. Капля на раскаленной плите не исчезает так быстро, как улетучивается человек.
Каштан уже почти отцвел. Я не любил запаха его цветов, но сейчас он напоминал мне прошлое. Над живыми изгородями по-прежнему переливался блеск бенгальских огней, слышались взрывы смеха, смешивались звуки оркестров, ветер то и дело доносил дружные крики — кричали участники какого-то зрелища, возможно, пассажиры подвесной дороги. Мой уголок, однако, оставался почти пустым.
В какой-то момент из боковой аллейки показалась черная, высокая фигура. Зелень была уже неразличима, и лицо этого человека я рассмотрел, лишь когда он, передвигаясь чрезвычайно медленно, маленькими шажками, едва отрывая стопы от земли, остановился неподалеку. Руки его утопали в воронкообразных упорах, от которых шли два тонких прута с черными грушевидными наконечниками. Он опирался на них не как паралитик, а как вконец обессилевший человек. Он не смотрел на меня и вообще ни на что не смотрел: хохот, выкрики, музыка, взрывы ракет, казалось, не существовали для него. Он постоял минутку, с трудом переводя дух, все новые вспышки фейерверка раз за разом освещали его лицо, такое старое, что годы смыли с него всякое выражение и оно стало просто кожей, обтянувшей кости. Когда он хотел идти дальше, выдвигая свои странные костыли или протезы, один из них соскользнул, я вскочил с лавочки, чтобы поддержать его, но старик сумел сам сохранить равновесие. Он был на голову ниже меня, но все равно выше своих современников; он посмотрел на меня, глаза его светились в темноте.
— Извините,— негромко сказал я и хотел уйти, но остался: его глаза чего-то требовали.
— Я вас уже где-то видел. Но где? — проговорил он неожиданно сильным голосом.
— Сомневаюсь,— покачал я головой.— Я только вчера вернулся... из очень долгого путешествия.
— Откуда?
— С Фомальгаута.
Глаза его вспыхнули.
— Ардер! Том Ардер!!
— Нет,— сказал я.— Но я был с ним.
— А он?
— Он погиб.
Старик тяжело дышал.
— Помогите... мне... сесть.
Я обхватил его плечи. Под черным, скользким материалом были лишь кожа да кости. Медленно опустив его на лавочку, я остался стоять.
— Будьте добры... сядьте.
Я сел. Он все еще дышал с трудом, закрыв глаза.
— Ничего... Это от волнения,— шепнул он. Потом поднял веки.— Я Рёмер,— сказал он просто.
У меня перехватило дыхание.