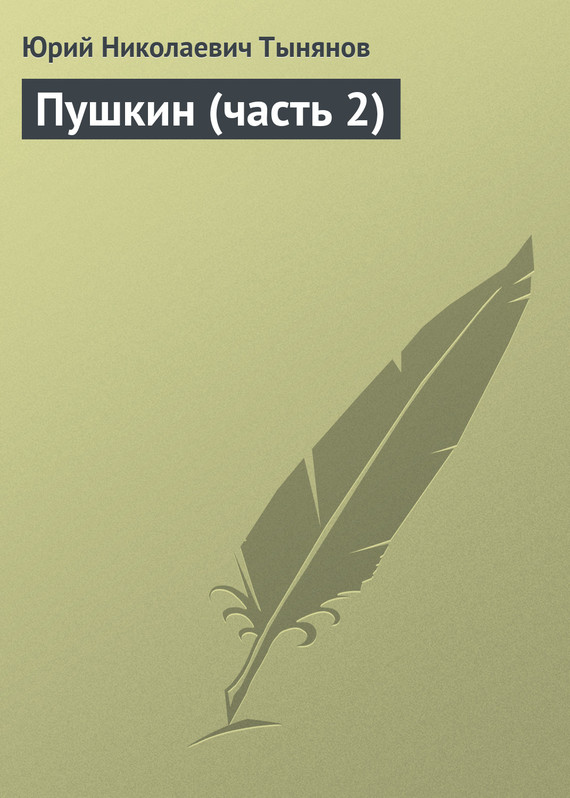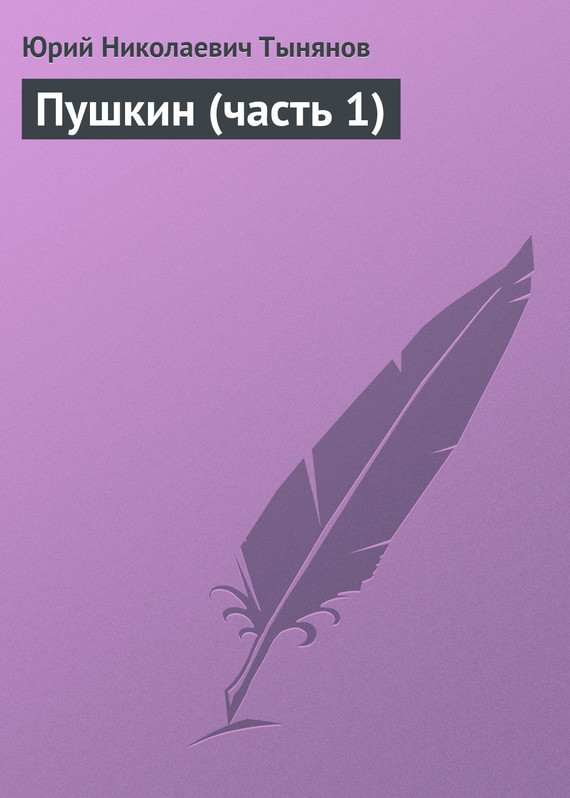Возвращение со звезд Лем Станислав
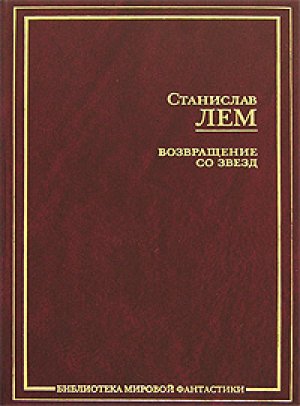
— Как? Вы... вы?.. Сколько же вам?..
— Сто тридцать четыре,— сухо ответил он.— Тогда мне было... семь...
Я помнил его. Он приехал к нам с отцом, феноменальным математиком, ассистентом Геонида — создателя теории нашего полета. Ардер показал тогда мальчику огромный зал для тестов, центрифуги. Таким он и остался в моей памяти: семилетний непоседа с черными отцовскими глазами. Ардер поднял его в воздух, чтобы мальчуган мог поближе разглядеть внутренность гравикамеры, в которой сидел я.
Мы оба молчали. В этой встрече было нечто невероятное. Сквозь темноту я с какой-то болезненной жадностью всматривался в его страшно старое лицо, и горло у меня сжималось. Я хотел вынуть сигарету, но не мог попасть в карман — так тряслись пальцы.
— Что случилось с Ардером? — спросил Рёмер.
Я рассказал ему.
— Вы не нашли — ничего?
— Нет. Знаете ли, там... ничего не находят.
— Я принял вас за него...
— Понимаю. Рост и так далее...
— Да. Сколько вам сейчас лет? Биологических.
— Сорок.
— Я мог...— шепнул он.
Я понял его.
— Не жалейте,— твердо сказал я.— Не жалейте об этом. Ни о чем не жалейте, понимаете?
Он впервые взглянул на меня.
— Почему?
— Потому что мне нечего тут делать,— сказал я.— Я никому не нужен. И мне... никто не нужен.
Казалось, Рёмер не слышал меня.
— Как вас зовут?
— Брегг. Гэл Брегг.
— Брегг,— повторил он.— Брегг... Нет, не помню. Вы были там?
— Да. Я был в Аппрену, когда ваш отец привез поправки, сделанные Геонидом в последний месяц перед стартом. Оказалось, что коэффициенты рефракции в темных пылевых облаках были слишком малы. Не знаю, говорит ли вам это о чем-нибудь...— Я неуверенно замолчал.
— Говорит. А как же,— ответил он с особой интонацией.— Мой отец. А как же. В Аппрену? А что вы там делали? Где вы были?
— В гравитационной камере, у Янссена. Вы были тогда там, Ардер вас привел, вы стояли наверху, на мостике, и смотрели, как мне дают сорокакратное ускорение. Когда я вылез, у меня шла кровь из носа... Вы дали мне свой носовой платок...
— А! Это были вы?
— Да.
— Мне казалось, что у того человека в камере... были темные волосы.
— Да. Они у меня не светлые, а седые. Только сейчас плохо видно.
Наступило молчание, более продолжительное, чем прежде.
— Вы, конечно, преподаете? — спросил я, чтобы прервать его.
— Преподавал. Теперь уже... не преподаю ничего. Двадцать три года. Ничего,— и еще раз, очень тихо, повторил: — Ничего.
— Я покупал сегодня книги... и между ними была топология Рёмера. Это вы или ваш отец?
— Я. А вы — математик?
Он взглянул на меня, казалось, с новым интересом.
— Нет,— сказал я.— Но... у меня было много времени... там. Каждый делал, что хотел. Мне помогла математика.
— Как это понимать?
— У нас было множество микрофильмов: беллетристика, романы, все что угодно. Знаете ли вы, что мы взяли с собой триста тысяч названий? Ваш отец помогал Ардеру подбирать математическую литературу...
— Я знаю об этом.
— Сначала мы относились к этому, как... к развлечению. К способу убить время. Но через пару месяцев, когда совсем прекратилась связь с Землей и мы повисли в мнимой неподвижности относительно звезд, человек, читая, что какой-то Пьер нервно курил и мучился, придет ли Люси, и что она вошла, теребя перчатки, сначала хохотал, как последний идиот, а потом готов был лопнуть от злости. Одним словом, до этих книг потом никто даже не дотрагивался.
— И математика?..
— Нет. Не сразу. Сначала я взялся за языки и не бросал их до конца, хоть и знал, что это почти бесполезно, ведь, когда я вернусь, они будут древними диалектами. Но Джимма — и особенно Турбер — подбили меня заняться физикой. Она, мол, может пригодиться. Я взялся за нее, с Ардером и Олафом Стааве, только мы трое не были учеными...
— У вас же была степень.
— Да, степень магистра по теории информации и космодромии и диплом инженера-ядерщика, но все это была техника, теоретиком я не был. Вы же знаете, как инженер разбирается в математике. Так вот, физика. Но мне хотелось еще чего-нибудь — собственного. И только чистая математика... У меня никогда не было математических способностей. Никаких. Ничего, кроме упрямства.
— Да,— сказал Рёмер тихо.— Оно было необходимо, чтобы... полететь.
— Скорее, чтобы попасть в экспедицию,— поправил я его.— И знаете, при чем тут математика? Я только там понял. Она превыше всего. Работы Абеля и Кронеккера так же хороши сегодня, как и четыреста лет назад, и так будет всегда. Возникают новые пути, но и старые остаются. Не зарастают. Там... там вечность. Лишь математика не боится ее. Там я понял, как она совершенна. И сильна. Ничего подобного ей не было. И хорошо, что дело шло у меня с таким трудом. Я просто надрывался; когда я не мог спать, я повторял пройденный за день материал...
— Любопытно,— сказал Рёмср. Но в его голосе не было любопытства. Не знаю даже, слушал ли он меня. В глубине парка пролетали огненные столбы, красные и зеленые пожары, сопровождаемые хором радостных возгласов. Тут, где мы сидели, под деревьями, было темно. Я замолчал. Но тишина была невыносима.
— Это стало для меня средством самосохранения,— продолжал я.— Теория множеств... То, что Миря и Аверин сделали с наследием Кантора, вы знаете. Это оперирование внеконечными, сверхконечными величинами, эти расщепляемые континуумы...— это было великолепно. Время, когда я сидел над ними, я помню, словно это было вчера.
— Это не так бесполезно, как вы думаете,— тихо произнес Рёмер. Значит, он все-таки слушал.— Вы, видимо, не знаете о работах Игалли?
— Нет, а что это такое?
— Теория прерывного антиполя.
— Об антиполе я ничего не знаю. А что это?
— Ретронигиляция. Отсюда появилась парастатика.
— Я даже терминов таких не слышал.
— Ну да, ведь они возникли шестьдесят лет назад. И к тому же были всего лишь введением в гравитологию.
— Видно, мне придется над этим посидеть,— заявил я.— Гравитология — это, вероятно, теория гравитации, да?
— Больше. Ее можно описать лишь математическим языком. Вы проработали Аппиано и Фроома?
— Да.
— Тогда у вас не должно быть никаких трудностей. Это развертки метагенов в энмерном конфигуративном дегенерирующем множестве.
— Что вы говорите? Но ведь Скарябин доказал, что нет никаких метагенов, кроме вариационных?
— Да. Очень красивое доказательство. Но это, знаете ли, вне прерывности.
— Не может быть! Но ведь в таком... в таком случае открывается целый мир!
— Да,— сухо сказал Рёмер.
— Я помню одну работу Мяниковского,— начал я.
— О, это весьма отдаленная область. Разве что... сходное направление.
— Сколько времени может понадобиться для проработки всего, что сделано за этот период? — спросил я.
Рёмер помолчал.
— Зачем это вам?
Я не знал, что сказать.
— Вы больше не будете летать?
— Нет,— ответил я.— Я слишком стар. Мне не выдержать таких перегрузок, какие... А впрочем... больше я не полетел бы.
После этих слов мы надолго замолкли. То неожиданное воодушевление, с которым я говорил о математике, вдруг улетучилось, и я сидел возле Рёмера, ощущая тяжесть своего тела, его ненужную величину. Кроме математики, нам не о чем было говорить друг с другом, и мы оба знали это. Внезапно мне показалось, что волнение, с которым я рассказывал о благословенной роли математики в путешествии,— обман. Я сам себя обманывал скромностью, героическим усердием пилота, занимающегося в безднах туманностей теоретическим изучением бесконечности. Я заврался. Что же это было в конце концов? Разве потерпевший крушение, месяцами блуждавший в море и подсчитывавший, чтобы не сойти с ума, в тысячный раз число древесных волокон, из которых состоял его плот, мог чем-то хвалиться, очутившись на суше? Чем? Тем, что у него хватило стойкости, чтобы спастись. Ну и что? Кого это касалось? Кого касалось, чем я эти десять лет набивал свою несчастную голову и почему это важнее того, чем я набивал себе кишки? Хватит разыгрывать из себя сдержанного героя, подумал я. Я смогу себе это позволить, когда буду выглядеть, как Рёмер. Надо думать о будущем.
— Помогите мне встать,— прошептал Рёмер.
Я проводил его до глайдера, стоявшего на улице. Мы шли очень медленно. Там, где среди живых изгородей было светло от огней, люди смотрели нам вслед. Прежде чем сесть в глайдер, Рёмер обернулся, чтобы проститься со мной. Ни он, ни я не нашли друг для друга ни слова. Он сделал непонятный жест рукой, в которой, как шпага, была зажата одна из его тростей, дернул головой, сел в глайдер, и темная машина беззвучно тронулась с места. Она плыла прочь, а я стоял, опустив руки, пока глайдер не исчез в потоке транспорта. Сунув руки в карманы, я пошел вперед, не в силах ответить на вопрос, кто из нас сделал лучший выбор.
Хорошо, что от города, который я оставил, не уцелело ни камешка. Получалось, что я жил тогда на какой-то другой Земле, среди других людей; то началось и кончилось раз и навсегда, а это было новое. Никаких останков, никаких развалин, которые могли бы вызвать сомнение в моем биологическом возрасте; я мог забыть о его земном пересчете, столь противоестественном,— и вдруг невероятная случайность столкнула меня с человеком, которого я оставил малым ребенком; все это время, сидя рядом с ним, глядя на его ссохшиеся, как у мумии, руки, на его лицо, я чувствовал себя виноватым и видел, что он это понимает. Какая невероятность, повторял я полубессознательно, пока не сообразил: ведь его, возможно, привело сюда то же самое, что привело меня; здесь рос каштан, дерево, которое было старше нас обоих. Я еще не знал, насколько им удалось отодвинуть пределы жизни, но видел, что возраст Рёмера нечто исключительное; вероятно, он последний или один из последних людей своего поколения. Если бы я не полетел, меня уже не было бы в живых, подумал я, и впервые экспедиция предстала передо мной с другой, неожиданной стороны, как уловка, жестокий обман, совершенный мной по отношению к другим. Так шел я, почти ничего не видя, вокруг меня шумела толпа, река идущих несла меня и подталкивала,— и вдруг я остановился, словно проснувшись.
Вокруг стоял неописуемый гомон; среди смешанных возгласов и звуков музыки в небо били залпами огни фейерверка, разноцветными букетами повисая высоко в воздухе; их пылающие шары осыпались в кроны деревьев; все это через равные промежутки времени пронзал оглушительный многоголосый крик, сопровождаемый хохотом, словно где-то рядом были американские горки, но я напрасно искал их глазами. В глубине парка возвышалось большое здание с башенками и крепостной стеной, будто перенесенный из средних веков укрепленный замок; холодное пламя неоновых ламп, лизавшее его кровлю, то и дело слагало слова ДВОРЕЦ МЕРЛИНА. Толпа, доставившая меня сюда, устремлялась вбок, к ослепительно-красной стене павильона, которая напоминала человеческое лицо; окна были пылающими глазами, а зубастый, огромный, искривленный рот открывался, чтобы поглотить следующую порцию людей под аккомпанемент всеобщего веселья; каждый раз он проглатывал одно и то же количество: шесть человек. Сначала я хотел выбраться из толкотни и уйти, но это было не так уж легко сделать, а, кроме того, идти мне было некуда, и я подумал, что из всех возможных способов провести остаток вечера этот, вероятно, не самый плохой. Таких одиночек, как я, вокруг не было — преобладали пары: юноши и девушки, женщины и мужчины, они становились по двое, и, когда подошла моя очередь, что возвестил блеск огромных зубов и бездонная багровая тьма таинственной глотки, я растерялся, не зная, можно ли присоединиться к уже построившейся шестерке. В последний миг меня выручила женщина, стоявшая рядом с молодым брюнетом, одетым чуднее всех остальных: она схватила меня за руку и без долгих церемоний потянула за собой.
Стало почти совсем темно; я чувствовал теплую, сильную руку незнакомки, пол двигался вперед, посветлело, и мы очутились в просторном гроте. Десятка полтора последних шагов мы шли в гору, по осыпавшимся валунам, между разбитыми каменными столбами. Незнакомка выпустила мою руку — мы по очереди, низко наклонившись, через узкое отверстие вышли из пещеры.
Хоть я и приготовился к неожиданностям, но все-таки изумился не на шутку. Мы стояли на просторном песчаном берегу огромной реки, под палящими лучами тропического солнца. Противоположный, далекий берег покрывали джунгли. В неподвижной воде затонов покоились лодки, точнее, пироги, выдолбленные из древесных стволов; на фоне буро-зеленого течения, которое лениво перекатывалось за ними, застыли в величественных позах негры огромного роста, обнаженные, с оливковым отливом, покрытые известково-белым узором татуировки; каждый опирался веслом о борт лодки.
Одна как раз отчаливала; ее чернокожий экипаж ударами весел и пронзительными воплями разгонял похожих на корявые колоды крокодилов, наполовину погруженных в ил; те поворачивались и, бессильно щелкая зубастыми челюстями, уползали на глубину. Мы всемером спускались с крутого берега; первая четверка заняла места в следующей лодке, негры с явным усилием уперлись веслами в обрыв и оттолкнули утлое суденышко так, что оно завертелось; я немного отстал, передо мной была только та пара, благодаря которой я решился на все это; как раз показалась новая лодка, длиной метров в десять, чернокожие гребцы окликнули нас и, борясь с течением, ловко причалили. Мы спрыгнули в трухлявое нутро лодки, поднялась пыль, пахнущая древесиной. Молодой человек в фантастическом одеянии, изображавшем тигровую шкуру, причем верхняя половина черепа хищника, свисавшая на спину юноши, могла служить ему головным убором, помог своей спутнице сесть. Я занял место напротив них, а тем временем мы уже плыли, и, хотя несколько минут назад я находился в ночном парке, теперь я уже не был в этом полностью уверен. Стоявший на носу лодки великан-негр издавал то и дело дикие вопли, два ряда спин сгибались, лоснясь, весла коротко и резко вонзались в воду, лодка, скрипя, задевала песок, пока не попала на стрежень.
Я вдыхал тяжелый, нагретый запах воды, тины, гниющих растений, плывших у наших бортов, всего на ладонь возвышавшихся над уровнем воды. Берега отдалялись, мы миновали характерный серо-зеленоватый, словно испепеленный, буш, с дышавших солнечным жаром песчаных отмелей с плеском иногда соскальзывали похожие на ожившие стволы крокодилы, один довольно долго держался за нашей кормой: сначала на поверхности виднелась продолговатая голова, потом вода стала заливать его выпуклые глаза, и только его нос, темный, как речной камень, двигался, торопливо рассекая бурую воду. Там, где река омывала затопленные препятствия, между равномерно колыхавшимися спинами чернокожих гребцов виднелись вспененные валы; негр на носу издавал иной, хриплый возглас, весла с одной стороны ударяли резче, лодка сворачивала; мне трудно сказать, когда глухое, грудное покряхтыванье гребцов стало сливаться в угрюмый, повторяющийся напев, нечто вроде гневного возгласа, переходящего в жалобный вопль, завершаемый многократным всплеском рассекаемой веслами воды. Так плыли мы, словно и взаправду перенесенные в сердце Африки, по огромной реке, среди серо-зеленой саванны. Стена джунглей была уже далеко, растаяв в знойном мареве, чернокожий рулевой задавал темп, вдали паслись антилопы, неспешным, тяжелым галопом проскакало стадо жирафов; в какой-то момент я почувствовал на себе взгляд сидевшей напротив меня женщины и посмотрел на нее.
Меня поразила ее красота. Я сразу заметил, что она привлекательна. Теперь она была совсем близко от меня, и я увидел: она не просто привлекательна, а прекрасна. Темные с медным отливом волосы, белое, невыразимо спокойное лицо, неподвижные вишневые губы. Она зачаровала меня. Как этот онемевший на солнце необъятный простор.
В ее красоте было то совершенство, которого я всегда побаивался. Быть может, потому, что слишком мало пережил на Земле и слишком много об этом размышлял. Во всяком случае, передо мной была женщина, казавшаяся неземной, хотя все это — обман, просто такие черты, такой облик, но кто же думает об этом, когда смотрит? Женщина улыбнулась одними глазами, а губы ее сохранили выражение пренебрежительного равнодушия. Улыбнулась нс мне, скорее своим мыслям. Ее спутник сидел на заклиненной в выдолбленном стволе скамеечке, опустив левую руку за борт, так что кончики пальцев касались воды, но не смотрел ни туда, ни на скользившую по сторонам панораму дикой Африки; просто сидел, как в приемной у зубного врача, скучающий и ко всему безразличный.
Впереди показались сероватые камни, рассыпанные но всей реке. Рулевой стал кричать, словно заклиная, оглушительным голосом. Негры бешено колотили веслами, камни превратились в ныряющих гиппопотамов, лодка прибавила скорость; стадо толстокожих осталось позади, сквозь ритмичный плеск весел, сквозь хриплую, глухую песню гребцов доносцлся неизвестно откуда смутный шум. Вдали, там, где река исчезала меж все круче вздымавшихся берегов, показались две сходившиеся друг с другом, огромные дрожащие радуги.
— Are! Аннаи! Аннаи! Аге-е-е! — как ошалевший, ревел рулевой. Негры налегли на весла, лодка летела, как на крыльях; женщина протянула руку и стала не глядя искать руку своего спутника.
Рулевой орал. Пирога двигалась с поразительной быстротой. Нос задрался, мы соскользнули с гривы огромного, с виду неподвижного вала, и между рядами бешено работавших чернокожих я увидел огромную излучину реки: сразу потемневшая вода валила в ворота между утесами. Течение раздваивалось, мы мчались вправо, где вода поднималась побелевшими от пены волнами, а левый речной рукав исчезал без следа, и лишь чудовищный грохот вместе со столбами водяной пыли говорил, что за скалами скрывается водопад. Мы миновали его и попали в другой рукав, но и тут поток бурлил. Пирога скакала теперь, как верховой конь, между черными порогами, над каждым из которых вздымалась стена ревущей воды, берега сближались, негры с правого борта перестали грести и, приставив рукояти весел к груди, со страшной силой оттолкнулись от скалы, так что от толчка у них в груди глухо загудело, пирога попала на середину течения. Нос взмыл вверх, рулевой чудом устоял на ногах, на меня дохнуло холодом от летевших из-за камней брызг, пирога, дрожа, как пружина, полетела вниз. Невероятным был этот водный слалом, с обеих сторон мелькали черные скалы с разлетавшимися гривами воды, негры еще и еще раз оттолкнулись веслами от валунов, пирога отлетела от них и вонзилась, как пущенная по белой пене стрела, в горло бешеного потока. Я поднял глаза и увидел распростертые в высоте кроны сикомор; среди ветвей носились маленькие обезьянки. Мне пришлось схватиться за борт, так сильно нас тряхнуло, подбросило, и в грохоте водяной массы, зачерпывая обоими бортами, промокнув в момент до нитки, мы помчались еще круче вниз — это было уже падение; береговые камни пролетали, как статуи чудовищных птиц с пеной у острых крыльев, грохот, грохот. На фоне неба — выпрямившиеся фигуры гребцов, неких стражников катаклизма; мы неслись прямо на каменный столб, деливший поток на две части, перед столбом кружил черный водоворот, мы неслись на препятствие, я услышал женский крик.
Негры боролись в беспамятстве отчаяния, рулевой поднял руки, я видел его раскрытый в вопле рот, но не слышал голоса, он приплясывал на носу, пирога шла наискосок, отхлынувшая волна задержала нас, секунду мы стояли на месте, потом, словно и не было бешеной работы весел, лодка повернулась и пошла кормой вперед, все быстрее.
В одно мгновение два ряда негров, отшвырнув весла, исчезли; недолго думая, они прыгнули в воду по обе стороны пироги. Последним смертоносный прыжок сделал рулевой.
Женщина вскрикнула второй раз; ее спутник упёрся ногами в противоположный борт, она прильнула к нему, а я с искренним восторгом смотрел на это зрелище: огромные валы, гремящие радуги, лодка налетела на что-то, вопль, пронзительный вопль...
Поперек несшего нас вниз водяного тарана лежало дерево, лесной великан, свалившийся сверху и образовавший подобие моста. Те двое бросились на дно лодки. Оставшуюся мне долю секунды я колебался, не сделать ли и мне то же самое. Я знал, что все это — негры, водный слалом, африканский водопад — лишь удивительный обман зрения, но сидеть неподвижно, когда нос лодки уже скользнул под залитый водой смолистый ствол гигантского дерева, было выше моих сил. Я молниеносно пригнулся, но одновременно поднял руку, и она прошла сквозь ствол, не задев его, я, как и ожидал, ничего не ощутил, но, несмотря на это, иллюзия, что мы чудом избежали катастрофы, была полной.
Но это был еще не конец: на следующей волне пирога встала на дыбы, огромный вал накрыл нас, завертел, сердце бешено заколотилось, а лодка тем временем шла адскими кругами, метя прямо в центр водоворота. Если женщина и кричала, я все равно ничего не смог бы услышать: треск разлетавшихся бортов я ощутил телом, уши были словно заткнуты ревом водопада; пирога, со сверхъестественной силой подброшенная вверх, застряла между утесами. Оба моих спутника выскочили на залитую пеной скалу, взобрались наверх, я — за ними.
Мы находились на утесе между двумя рукавами мечущейся белизны. Правый берег был довольно далеко; к левому вел закрепленный в расселинах утеса деревянный мостик, нечто вроде висячего перехода прямо над волнами, валившимися в глубину адского котла. Воздух, ледяной от тумана, водяных брызг; скользкий мостик без перил; по прогнившим доскам, еле державшимся в плетеных шнурах, нужно было пройти несколько шагов до берега. Мои спутники, стоя возле меня на коленях, казалось, спорили, кто дойдет первым. Конечно, я ничего не слышал. Воздух словно затвердел от непрерывного грохота. Наконец молодой человек встал и что-то сказал мне, показывая вниз. Я увидел пирогу; ее оторванная корма в эту минуту затанцевала на волне и исчезла, кружась все быстрее, втянутая водоворотом. Молодой человек в тигровой шкуре был уже не такой безразличный или сонный, как в начале путешествия, он злился, словно попал сюда вопреки своей воле. Когда он взял женщину за руку, я подумал, что он сошел с ума, ведь он явно сталкивает ее прямо в ревущую бездну. Женщина что-то сказала ему, ее глаза сверкали возмущением. Я положил руки им на плечи, показывая, чтобы они меня пропустили, и ступил на мостик. Он раскачивался и плясал в воздухе; я шел не очень быстро, руками помогая себе удержать равновесие, раза два посередине пошатнулся. Мостик вдруг затрясся, так что я чуть не упал. Это женщина, не дождавшись, пока я перейду, вошла на него; боясь упасть, я прыгнул вперед, приземлился на самом краю скалы и тут же обернулся.
Женщина не решилась идти вперед и попятилась. Тогда молодой человек пошел первым, держа ее за руку. Они неуверенно балансировали на фоне невероятных очертаний, рождаемых водопадом, белыми и черными фантомами. Когда он был совсем рядом, я подал ему руку, в тот же миг женщина споткнулась, мостик закачался, я потянул ее спутника так, что скорее оторвал бы ему руку, чем позволил упасть; от рывка он пролетел два метра и очутился позади меня, на коленях,— но выпустил женщину.
Она еще была в воздухе, когда я прыгнул, ногами вперед, стараясь врезаться в волны наискосок, между берегом и стеной ближайшего утеса. Потом, когда у меня было время, я долго размышлял обо всем этом. В сущности, я знал, что водопад и воздушная переправа — всего лишь обман зрения, кроме всего прочего, доказательством служил ствол дерева, сквозь который прошла моя рука. Несмотря на это, я прыгнул, словно женщина действительно могла погибнуть, и даже, помню, абсолютно бессознательно приготовился к леденящему удару воды, брызги которой продолжали лететь нам в лицо и на одежду.
Однако я не почувствовал ничего, кроме сильного дуновения воздуха, и очутился в просторном зале, в такой позе, будто неловко спрыгнул с забора. Раздался многоголосый смех.
Я стоял на мягком, словно пластиковом, полу, вокруг полно людей, у некоторых одежда была еще мокрая; задрав головы кверху, они хохотали до упаду.
Я посмотрел туда же, куда они,— это было невероятно.
Ни водопадов, ни скал, ни африканского неба не было и в помине; я видел блестящий потолок, а под ним — подплывавшую в этот момент пирогу, а точнее, некую бутафорию, напоминавшую лодку лишь сверху и с боков; на дне помещалась какая-то металлическая конструкция. В ней лежали плашмя четыре человека, вокруг них не было ничего: ни гребцов-негров, ни скал, ни реки, лишь иногда мелькали, вылетая из скрытых устройств, тонкие струи воды. Немного дальше вздымался, как воздушный шар на привязи, ничем не поддерживаемый скалистый утес, на котором закончилось наше путешествие. Деревянный мостик вел от него к каменному выступу, торчавшему из металлической стены. Немного выше виднелась лесенка с перилами и дверь. Вот и все. Пирога с людьми дергалась, поднималась, резко падала — абсолютно беззвучно, я слышал только взрывы веселья, сопровождавшие очередные этапы плаванья по водопаду, которого не было. Пирога ударилась о скалу, люди выскочили из нес, им пришлось пройти по мостику...
После моего прыжка прошло секунд двадцать. Я поискал глазами женщину. Она взглянула на меня. Мне стало как-то не по себе. Я не знал, следует ли мне подойти к ней. Но тут собравшиеся стали выходить, и мы оказались рядом.
— Всегда одно и то же,— сказала она,— каждый раз я падаю!
Ночной парк, фейерверк и звуки музыки казались не совсем реальными. Мы выходили в возбужденной пережитым испугом толпе; я увидел спутника женщины, он проталкивался к ней, такой же сонный, как раньше. Меня он словно вообще не замечал.
— Пойдем к Мерлину,— сказала женщина громко. Я вовсе не собирался подслушивать. Но новая волна выходивших не давала мне отойти. Поэтому я продолжал стоять возле них.
— Это похоже на бегство...— заметила она с улыбкой.— Нс боишься же ты колдовства?..
Женщина обращалась к своему спутнику, но смотрела на меня. Конечно, я мог проложить себе дорогу, но, как всегда в подобных ситуациях, больше всего боялся показаться смешным. Стало свободнее, многие направились ко дворцу Мерлина. Я пошел за своими спутниками, а когда несколько человек разделили нас, меня вновь охватили сомнения.
Мы двигались шаг за шагом. На газонах стояли бочки с пылающей смолой; блеск пламени освещал кирпичные бастионы. Мы прошли по мосту над крепостным рвом, под выщербленными зубцами решетки, погрузились в полумрак и прохладу каменной привратницкой, вверх вела винтовая лестница, гудевшая от множества шагов. Но стрельчатый коридор второго этажа был уже не таким людным. Он вел на галерею, с которой был виден двор; по нему с воплями гонялись за каким-то черным страшилищем верховые на покрытых чепраками конях; я нерешительно шел неведомо куда среди десятка с лишним людей, которых уже начал отличать друг от друга. Женщина и ее спутник мелькнули среди колонн, в нишах стояли пустые латы. В глубине открылись окованные медью высоченные двери, мы вошли в обитую красным бархатом палату, освещенную факелами, от смолистого дыма щипало в носу. За столом пировал крикливый сброд, не то пираты, не то странствующие рыцари, на вертелах пеклись огромные куски мяса, красноватый отблеск огня скакал по лоснящимся от пота лицам, кости хрустели на зубах закованных в броню пирующих, иногда, встав из-за стола, они проходили между нами. В следующем зале несколько верзил играли в кегли, вместо шаров пользуясь черепами; все вместе взятое показалось мне наивной халтурой, я задержался возле игроков, они были с меня ростом, кто-то налетел на меня сзади и невольно вскрикнул от удивления. Я обернулся и посмотрел в глаза какому-то юнцу. Он пробормотал извинение и быстро ушел с довольно глупой миной. Только взгляд темноволосой женщины, из-за которой я оказался в этом дворце дешевых чудес, объяснил мне, что случилось: тот тип хотел пройти сквозь меня, приняв за одного из нереальных гостей Мерлина.
Сам Мерлин принял нас в отдаленном крыле дворца, в окружении неподвижной свиты в масках, ассистировавшей его чарам. Но мне это уже немного надоело, и я равнодушно воспринимал штучки чернокнижника. Зрелище закончилось быстро; присутствующие стали уходить, когда Мерлин, седой, величественный, преградил нам путь и молча указал на обитые черным двери напротив.
Только нас троих он пригласил пройти. Сам не вошел. Мы очутились в не очень большой комнате с высоким потолком, одна стена — сплошное зеркало, от свода до каменного пола из черных и белых плит. Казалось, в комнате, вдвое большей, чем на самом деле, шесть человек стоят на каменной шахматной доске.
Обстановки не было никакой — ничего, кроме высокой алебастровой урны с букетом цветов, похожих на орхидеи, но с необычайно большими венчиками. Все — разного цвета. Мы стояли напротив зеркала.
Вдруг мое отражение взглянуло на меня. Оно не повторило моего движения. Я застыл, а тот, высокий, плечистый, медленно перевел взгляд сначала на темноволосую женщину, потом на ее спутника — никто из нас не шевельнулся, и лишь наши отражения, неведомо как ставшие самостоятельными, ожили и разыграли между собой молчаливую сцену.
Юноша в зеркале подошел к женщине, заглянул ей в глаза, она отрицательно покачала головой. Вынула из белой урны цветы и, перебрав их, взяла три: белый, желтый и черный. Белый подала ему, а с двумя остальными подошла ко мне. Ко мне отраженному. Протянула оба цветка. Я взял черный. Она вернулась на прежнее место, и все мы — там, в Зазеркалье,— приняли точь-в-точь такие позы, в каких стояли в действительности. Тогда цветы у двойников исчезли, и они стали обычными нашими отражениями.
Двери в противоположной стене открылись; по винтовой лестнице мы сошли вниз. Колонны, арки, своды незаметно перешли в серебро и белизну пластиковых коридоров. Мы шли дальше, все еще молча,— не то вместе, не то отдельно; ситуация становилась все неприятнее, но что я мог поделать? Последовать правилам хорошего тона столетней давности и представиться?
Приглушенные звуки оркестра. Мы были словно за кулисами, за невидимой сценой, в глубине стояло несколько пустых столиков с отодвинутыми стульями, женщина остановилась и спросила своего спутника:
— Пойдем потанцуем?
— Мне не хочется,— сказал он. Я впервые услышал его голос.
Юноша был красив, но так инертен, так непостижимо пассивен, словно его не интересовало ничто на свете. У него был тонко очерченный, почти девичий рот. Юноша посмотрел на меня. Потом на свою спутницу. Он стоял и молчал.
— Ну, иди, если хочешь...— сказала она. Он раздвинул занавес, служивший одной из стен, и вышел. Я направился за ним.
— Минутку! — услышал я за спиной.
Я остановился. За занавесом раздались аплодисменты.
— Хотите присесть?
Я молча сел. Профиль ее был великолепен. Жемчужные диски прикрывали ее ушные раковины.
— Я — Аэн Аэнис.
— Гэл Брегг.
Казалось, она удивлена. Не моим именем. Оно ей ничего не говорило. Скорее тем, что я столь безразлично воспринял ее имя. Теперь я мог рассмотреть ее вблизи. Ее красота была совершенна и беспощадна. Спокойная, сдержанная небрежность ее движений — тоже. Ее розовосерое, вернее, серо-розовое платье подчеркивало белизну лица и рук.
— Вы меня не очень любите? — спокойно спросила женщина.
Теперь удивился я.
— Я вас не знаю.
— Я — Амман из «Подлинных».
— А что такое «Подлинные»?
Она с интересом посмотрела на меня.
— Вы не видели «Подлинных»?
— Я даже не знаю, что это такое.
— Откуда вы явились?
— Из гостиницы.
— Ах так? Из гостиницы...— В ее голосе слышалась нескрываемая насмешка.— А можно узнать, откуда вы явились в гостиницу?
— Можно. С Фомальгаута.
— Что это такое?
— Созвездие.
— Как?
— Звездная система, на расстоянии двадцати трех световых лет отсюда.
Ее веки дрогнули. Губы приоткрылись. Она была невыразимо прекрасна.
— Вы астронавт?
— Да.
— Понимаю. Я — реалистка, довольно известная.
Я ничего не сказал. Мы молчали. Играла музыка.
— Вы танцуете?
Я чуть не расхохотался.
— По-вашему не танцую.
— Жаль. Но это можно наверстать. Почему вы проделали такое?
— Что?
— Там, на мостике.
Я ответил не сразу.
— Это... рефлекс.
— Вы с этим были знакомы?
— С искусственным путешествием? Нет.
— Нет?
— Нет.
Секундное молчание. Ее зеленые глаза потемнели.
— Такое можно увидеть только на очень старых копиях...— проговорила она медленно.— Этого никто не сыграет. Невозможно. Когда я увидела, я подумала... вы...
Я ждал.
— Вы могли бы. Вы восприняли это всерьез. Правда?
— Не знаю. Возможно.
— Ничего. Я знаю. Хотите? Я в хороших отношениях с Френе. Может быть, вы не знаете, кто это? Я ему должна сказать... Он — главный продюсер реаля. Если вы хотите...
Я расхохотался. Она вздрогнула.
— Простите. Но — о небеса, черные и голубые! Вы думаете... устроить меня...
— Да.
Похоже, она ничуть не обиделась.
— Спасибо, не надо. Не стоит, знаете ли.
— Но вы можете мне сказать, как вы это сделали? Или это секрет?
— Что значит как? Вы же видели...
Я остановился.
— Вас интересует, как я смог?
— Вы угадали.
Она обольстительно улыбалась темными глазами. Подожди, сейчас тебе расхочется меня обольщать, подумал я.
— Очень просто. Никакого секрета. Меня не бетризировали.
— Ох...
Мне показалось, что она сейчас встанет, но она овладела собой. Она не сводила с меня глаз, огромных, жадных. Смотрела, как на дикого зверя, лежащего в двух шагах, будто находя странное наслаждение в ужасе, который я у нее вызывал. Мне это показалось худшим из оскорблений.
— Так вы можете?
— Убить? — спросил я, любезно улыбаясь.— Да. Могу.
Мы молчали. Музыка играла. Женщина несколько раз поднимала на меня глаза. Не произносила ни слова. Я тоже. Аплодисменты. Музыка. Аплодисменты. Так мы просидели с четверть часа. Вдруг она встала.
— Вы пойдете со мной?
— Куда?
— Ко мне.
— Выпить стаканчик брита?
— Нет.
Аэн повернулась и пошла. Я сидел неподвижно. Она вызывала во мне ненависть. Не оглядываясь, она удалялась. Такой походки я еще никогда не видел. Она не шла, а плыла. Как королева.
Я догнал ее среди живых изгородей, где было почти темно! Слабый отсвет павильонных огней смешивался с голубоватым заревом города. Аэн не могла не слышать моих шагов, но продолжала идти, словно не замечая меня; я взял ее под руку. Она не остановилась; это было как пощечина. Я схватил ее за руки, повернул к себе, ее лицо, белое в темноте, запрокинулось, она смотрела мне в глаза. Не вырывалась. Да и не смогла бы. Я целовал ее страстно, с ненавистью, ощущая, как она дрожит.
— Ты...— выдохнула она хрипло, когда мы оторвались друг от друга.
— Молчи.
Она попыталась освободиться.
— Погоди,— сказал я и опять стал ее целовать. Неожиданно мое бешенство перешло в отвращение к самому себе, я выпустил ее. Мне казалось, она убежит. Она осталась. Попробовала заглянуть мне в лицо. Я отвернулся.
— Что с тобой? — тихо спросила она.
— Ничего.
Она взяла меня за руку.
— Пойдем.
Какая-то пара миновала нас и исчезла во мраке. Я пошел за женщиной. Там, в темноте, все казалось возможным, но когда стало светлее, мой порыв — расплата за оскорбление — стал смешон. Возникло чувство, что я ввязываюсь в такую же подделку, какой была недавняя опасность и черная магия,— и все-таки я шел дальше. Ни гнева, ни ненависти — ничего, все мне было безразлично. Я очутился под высокими светильниками и ощущал свою неуклюжесть, делавшую гротескным каждый шаг рядом с женщиной. А она словно и знать не хотела об этом. Она шла вдоль вала, за которым рядами стояли глайдеры. Я хотел отстать, но она, скользнув ладонью вдоль моего предплечья, схватила меня за кисть. Пришлось бы вырывать руку, что выглядело бы еще смешнее: этакий праведник-астронавт, искушаемый библейской блудницей. Я тоже сел в глайдер, машина дрогнула и помчалась. В глайдере я ехал впервые и понял, почему они без окон. Изнутри глайдер был прозрачный, как стеклянный.
Мы ехали долго, молча. Центральная застройка сменилась странными формами пригородной архитектуры: под маленькими искусственными солнцами утопали в зелени строения, образованные плавными линиями, напоминавшие то причудливо раздутые подушки, то раскинутые крылья, граница между домами и их окружением терялась — некая фантасмагория, неустанные попытки создать нечто такое, что не повторяло бы уже существующих форм. Глайдер свернул с широкого пути, пронзил темный парк и остановился у лестницы в виде стеклянного каскада; поднимаясь по ней, я видел расстилавшуюся под ногами оранжерею.
Тяжелая дверь бесшумно открылась. Огромный холл, окруженный поверху галереей, бледно-розовые диски ламп без подпорок и без подвески; в наклонных стенах — окна и ниши в какое-то иное пространство, а в них — не фотографии, не изображения, а сама Аэн, огромного роста. Напротив лестницы — в объятиях целовавшего ее смуглого мужчины, над лестницей — в белом мерцающем платье, рядом — склонившаяся над цветами, лиловыми, величиной с ее лицо. Идя за ней, я увидел ее еще в одном окне: с девической улыбкой, с солнечными зайчиками в отливающих медью волосах, такую одинокую.
Зеленая лестница. Белая анфилада. Серебряная лестница. Сквозные коридоры, а в них — непрестанное медленное движение, словно они дышали, стены беззвучно передвигались, создавая проходы там, куда шедшая впереди женщина направляла шаги; можно подумать, будто неощутимый ветер закругляет; формирует слияние галерей, а все, виденное мною,— лишь подступы, подходы. Через комнату, столь белую, столь просвеченную тончайшими ледяными веточками, что даже тени в ней казались молочными, мы вошли в комнату поменьше — после безукоризненной белизны предыдущей ее бронзовый цвет показался неожиданным. Комната была пуста; неизвестно откуда лившийся свет освещал нас и наши лица снизу; Аэн повела рукой, стало темнее, потом подошла к стене и несколькими жестами вызвала из нее, как по волшебству, выпуклость, превратившуюся в некое подобие двойного, широкого ложа,— я достаточно разбирался в топологии, чтобы понять, какими изысканиями определены были его контуры.
— У нас гость,— сказала Аэн. Из стены выскользнул низенький накрытый столик и подбежал к Аэн, как собака. Большой свет погас, когда она жестом приказала, чтобы над нишей с креслами — ах, какие это были кресла, просто слов нет! — появилась маленькая лампа и стена послушалась ее. Видно, Аэн надоела вся эта почковавшаяся и расцветавшая на глазах мебель, она склонилась над столиком и спросила, не глядя в мою сторону:
— Блар?
— Можно,— сказал я. Никаких» вопросов я не задавал; я не мог не быть дикарем, но мог по крайней мере быть дикарем молчащим.